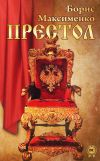Текст книги "Александр II"

Автор книги: Александр Яковлев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Напрасно заступаетесь. Милютин уже давно имеет репутацию «красного» и вредного человека.
Только Комитет министров услыхал эти слова, все тут же успокоились и удовлетворились. Негодование мигом стихло. Думе объявили выговор и для порядка создали комиссию для пересмотра положения о Думе. Главное же, проверка намерений императора показала крепостникам, «стародурам»: он на их стороне. Как же они ошибались!
Весть об аресте Виленского дворянства разразилась над дворянской Россией подобно грому небесному. Дело было так. Отбив атаку крепостников по поводу Думы, Милютин пытался использовать все возможности для того, чтобы подтолкнуть императора к решительным действиям. Возможно, имей он прямой доступ в Зимний, что-то бы и смог, но на доклады ездил Сергей Степанович Ланской, могший толково изложить все, что ему внушил его помощник, но, конечно же, без той убежденности и неуступчивости, какие были желательны.
Ход дела, как это нередко случается, осложнялся и личными мотивами – соперничеством молодого Николая Милютина и опытного чиновника Алексея Левшина, уже несколько лет исполнявшего должность товарища министра внутренних дел. Оба они предлагали свои варианты освобождения крестьян: Левшин брал за образец опыт реформы в Прибалтике, где освобождение мужиков не сопровождалось наделением их землей; Милютин указывал на реформу в Пруссии, где крестьяне выкупили часть помещичьей земли, которой они пользовались. Ланской до поры до времени не отдавал предпочтения ни тому, ни другому своему сотруднику, но чувствовал, что одно упоминание Пруссии уже может вызвать доверие императора и внушит меньше опасений в исходе дела. За Левшина был его немалый авторитет в чиновном Петербурге, за Милютиным стояли великая княгиня Елена Павловна и дядя Павел Киселев, который (хотя и прозванный князем Меншиковым «Пугачевым») пользовался доверием государя. Ланской надеялся, что испытанное чутье придворного не обманет его в выборе. Мудрость министра состояла в том, что, пустив как будто дело плыть своим ходом, он зорко выжидал момент выбора верного течения.
Вскоре по возвращении из Эмса Александр одобрил план эмансипации, предложенный Комитетом. План этот прямо гробил все дело под успокоительными и увертливыми рассуждениями о приготовительном этапе, постепенном и осмотрительном движении «как указано Вашим императорским Величеством». За этот план, растягивающий дело освобождения на десятилетия, Александр даже выразил благодарность Комитету.
Милютин не понимал причин такого поведения императора и не мог знать их. Но то был крайне серьезный миг колебаний в умонастроении Александра Николаевича. После обстоятельного доклада Комитета, написанного в привычном для него духе и клонящегося к непроизносимой вслух, но подрузамеваемой мысли: «А зачем нам это надо? И так авось проживем!» – молодой государь по свойственному ему приливу лени и слабости с облегчением согласился: проживем и так. И не придется волноваться и кого-то обижать. Ведь почему-то же покойный батюшка все свое царствование готовился, но так и не пошел на освобождение. Мало ли что Гакстгаузен советует…
Был прекрасный августовский день. За окном кабинета цвели розы. От пруда, где возвышался Чесменский монумент, доносились выстрелы: там Саше, Володе и младшему Алеше устроили морское сражение, и маленькая пушечка палила, как настоящая. Император не знал, но предполагал, что старший Никса не принимает участия в игре. Вялость наследника настораживала… Но тут же пришла приятная мысль о самом младшем сыне, Сереже, кому всего-то пятый месяц… Хорошие у него мальчишки.
Александр Николаевич, как и большинство самолюбивых и мягких по характеру людей, был мнителен и крайне чувствителен к суждениям о себе. До него доходили слухи, что будто бы он находится под влиянием то Орлова и Долгорукова, то даже Марии Александровны, то брата Кости с тетушкой Еленой Павловной. Все это было неприятно, даже оскорбительно.
Поворот к мысли об освобождении крестьян произошел у него давно, но был не более чем благородным намерением, всю многосложность которого он поначалу и представить не мог. Теперь же, когда он вник в это дело, когда очевидные выгоды освобождения (прежде всего христианская справедливость, ну и военные нужды, армия нужна сильная и новая) обозначились полно и встретили отзвук в народе, отступать было постыдно.
Не только положительные стороны характера императора играли важную роль в его верности благому порыву, но странным образом и его слабости оборачивались в пользу подготавливаемого общественного переворота: упрямство оборачивалось упорством в следовании принятому решению, вялость и лень в делах побуждали к выслушиванию противников освобождения, но не к принятию их стороны, честолюбие вело к видимой славе Освободителя, с которой он должен был войти в историю, а уж с этим ничто сравниться не может.
Итак, 26 сентября 1857 года виленский губернатор В.И. Назимов отправляет министру внутренних дел решение инвентарных комитетов трех губерний, содержащее согласие на безвозмездное освобождение крестьян при сохранении всей земли за помещиками. 10 октября Ланской доложил императору о начинании виленских, гродненских и ковенских дворян. Министр предложил создать в этих губерниях комитеты по подготовке освобождения, в то время как секретный комитет будет разрабатывать «основные начала». Ланской говорил длинно и убедительно, подготовленный и Левшиным, и Милютиным.
Александр легко согласился. Предложение Ланского вполне отвечало его настроению – оно было не радикально, но шло в намеченном направлении. Он распорядился передать обращение в Комитет для обсуждения. Бумаги могли бы надолго застрять в недрах Секретного комитета, но – случай, необходимое проявление потребности общества, вмешался в неспешное течение бумажной круговерти.
Владимир Иванович Назимов приехал в Петербург и при встрече с государем обратился к нему с просьбой ответить на обращение его дворян, которые первыми в империи проявили готовность поступиться своими правами. Иными словами, Назимов просил оценить благородный порыв. Такая просьба, да еще от старого знакомца, не могла не найти отзвука в душе Александра. Он распорядился быстро подготовить в Комитете ответ, возможно, предполагая, что то будет лишь знак милости и благодарности.
Комитет, выполняя царскую волю, 2 ноября обсудил письмо. Никакого энтузиазма оно не вызвало, но поскольку касалось трех западных губерний, да еще обремененных наследием бибиковских инвентарей, сочли, что можно и одобрить.
Два дня Левшин с помощниками, почти не выходя из министерства, составлял предложения по «Общим началам для устройства быта крестьян». Документ из 22 пунктов был озаглавлен нарочито неопределенно, и само слово «освобождение» там не встречалось.
9, 16 и 18 ноября Комитет послушно обсудил «Общие начала», как инструкцию для Назимова, и одобрил. Одобрил и царский рескрипт Назимову. 20 ноября Александр подписал журнал заседаний Комитета, тем самым утвердив принятые решения. Предполагалось, что оба документа будут опубликованы в «Журнале Министерства внутренних дел».
Милютина вдруг бросило в жар, когда он понял, что пришел миг, который может стать поворотным во всем деле освобождения. Ответ государя Назимову был вполне определенным в отношении будущего помещичьих крестьян. Разослать бы его во все губернии! В нем нет прямых указаний, но ясно, как воспримут его послушные подданные русского царя – только как высочайшую волю. И дело пойдет! Только бы создали в губерниях дворянские комитеты, только бы приняли предложенные эмансипаторами правила игры, а там – пускай себе пишут и говорят, что хотят…
Было жаркое обсуждение в кабинете министра. Ланской сразу оценил тонкость и силу хода, предлагаемого Милютиным, но сомневался, чтобы Комитет одобрил рассылку обоих документов. Сам он на это права не имел.
– Так получите санкцию государя, пока настроение у него не переменилось, пока Орлов не нагородил кучу страхов и опасений!
– Но приемный день только на той неделе… – колебался Ланской.
– Завтра будет малый выход – попросите государя о приеме!
Ланской недолго упрямился, увидев тут ловкую интригу, в которой он обходил своего благодетеля Орлова. Согласие Александра было легко получено, и Комитет по инерции одобрил рассылку. Ланской умышленно поставил этот вопрос в конце заседания, и никто особенно не вдумывался в него. Правда, у графа Панина возникло сомнение, так ли уж надо рассылать, но додумать он не успел, заседание кончилось. Впрочем, Панин знал, как готовятся документы в министерствах, то было хлопотное дело, и раньше чем через неделю ответ государя уйти не мог. А уж за неделю можно все не спеша обдумать, посоветоваться среди своих. Так думал Панин, и Николай Милютин вполне предвидел ход его рассуждений.
Между тем текст рескрипта императора был уже набран, и в ночь с 23 на 24 ноября 75 экземпляров были отпечатаны в министерской типографии. Министр поручил это важное дело Павлу Ивановичу Мельникову (известному ученому-этнографу и писателю). Канцелярия работала всю ночь. Все 75 пакетов были оформлены и отправлены для рассылки.
С этим известием Мельников приехал к министру рано утром. Едва Ланской в халате, отделанном беличьим мехом, с неугомонным Милютиным выслушали подробности, как лакей доложил о приходе курьера от князя Орлова.
Сидевший поодаль в креслах Милютин с улыбкой смотрел на маленький голубоватый пакет. Он знал, что там, когда все еще заспанный Ланской прочитал, от лени пропуская слова:
– Многоуважаемый… ммм… Обдумав… и некоторые дополнительные обстоятельства… ммм… убедительнейше прошу Вас повременить с рассылкой ответа Его Императорского Величества… А что сказать? Опоздал ты, братец, с княжьим письмом. Так и передай.
– Успели! – засмеялся Милютин после ухода курьера. – Теперь, ваше высокопревосходительство, можете досыпать. Ручаюсь, что в ближайшее время ни я, ни Павел Иванович беспокоить вас не будем ни по ночам, ни по утрам.
Тем временем фельдъегери везли пакеты с рескриптом Александра II.
«В губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской были учреждены особые Комитеты из предводителей дворянства и других помещиков для рассмотрения существующих там инвентарных правил.
Ныне Министр Внутренних Дел довел до Моего сведения о благих намерениях, изъявленных сими Комитетами, относительно помещичьих крестьян означенных 3-х губерний.
Одобряя вполне намерения сих представителей дворянства Ковенской, Виленской и Гродненской губерний, как соответствующие Моим видам и желаниям, Я разрешаю дворянскому сословию оных приступить теперь же к составлению проектов, на основании коих предположения Комитетов могут быть приведены в действительное исполнение, но не иначе как постепенно, дабы не нарушить существующего ныне хозяйственного устройства помещичьих имений.
Для сего повелеваю:
1. Открыть теперь же в губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской по одному в каждой приуготовительному Комитету, а потом для всех 3-х губерний вместе одну общую Комиссию в г. Вильне…
Губернские Комитеты по открытии их должны приступить к составлению по каждой губернии, в соответственность собственному вызову представителей дворянства, подробного проекта об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян оной, имея при этом в виду следующие главные основания:
1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того предоставляется в пользование крестьян надлежащие по местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей пред Правительством и помещиком, количество земли, за которое они или платят оброк, или отбывают работу помещику…
…Я надеюсь, что дворянство вполне оправдает доверие, Мною оказываемое сему сословию призванием его к участию в сем важном деле, и что, при помощи Божией и при просвещенном содействии дворян, дело сие будет кончено с надлежащим успехом.
Вы и начальники вверенных вам губерний обязаны строго соблюдать, чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении помещикам, не внимали никаким злонамеренным внушениям и лживым толкам.
В Царском Селе.
20 ноября 1857. Александр».
Дело освобождения сдвинулось-таки с мертвой точки. Первый камешек покатился с горы крепостничества, увлекая за собою множество других.
Глава 2. Август в ДармштадтеКонстантин Дмитриевич Кавелин, сорокалетний профессор Петербургского университета, прибыл в немецкий городок Дармштадт, столицу герцогства Гессенского, 13 августа 1857 года. Взяв извозчика, Кавелин отправился в резиденцию русского императора.
Узкие улочки старого города были полны народа. Как объяснил извозчик, сегодня день рождения великого герцога, и потому число приезжих и гуляющих столь велико. Аккуратные дома с черепичными крышами были украшены гирляндами из цветов, иные – флагами.
Прибыв в один из дворцов герцога, отведенный для размещения высоких гостей, Кавелин уложил вещи в своей комнате, наскоро привел себя в порядок и отправился доложиться.
Ровно в три часа профессор был принят князем Долгоруковым, генерал-адъютантом, шефом жандармов и главным начальником III Отделения. Долгоруков был невысок, плотного сложения, круглолиц, с густыми рыжеватыми усами. Маленькие, глубоко посаженные глаза смотрели подозрительно. Впрочем, может быть, решил Кавелин, это ему показалось, потому что встречен он был чрезвычайно любезно. Правда, причина на то была весомая.
Профессор Кавелин был избран в преподаватели наследнику престола великому князю Николаю Александровичу. Произошло это не сразу и не просто.
Ранее Апександр Николаевич назначил в наставники старшим сыновьям Николаю, Александру и Владимиру двух генерал-адъютантов – Григория Федоровича Гогеля и Николая Васильевича Зиновьева, известных ему отличным знанием военного дела, аккуратностью и добросердечием. Но генералы генералами, а учить мальчишек надо. После длительных обсуждений в главные наставники взяли Владимира Ивановича Титова, бывшего российским посланником в Штутгарте. Он в свою очередь рекомендовал Кавелина, получившего к тому времени немалую известность.
Мария Александровна посоветовалась с тетушкой Еленой Павловной, с которой, в отличие от свекрови, сохраняла добрые отношения, и та одобрительно отозвалась о Кавелине, хорошо ей известном.
На это предложение Александр Николаевич нахмурился, но потом согласился.
Теперь объясним, почему личность Константина Дмитриевича в качестве преподавателя наследника престола вызвала пристальное внимание и подспудную борьбу при дворе. В ходе поднявшегося движения за эмансипацию Кавелин пользовался репутацией одного из главарей либералов, и для этого были основания. Он не только пускал для распространения свои записки, но и привлекал близких друзей для этого противозаконного дела. Самые близкие знали, что Кавелин регулярно отправлял Герцену для публикации в «Колоколе» свои и чужие сообщения.
То была не легкая либеральная фронда, а вполне обдуманная гражданская позиция человека, искренно желавшего добра своей родине и народу. Близкие друзья прозвали его пророком Исайей за пламенную убежденность, с которой он проповедовал свои идеи. Время показало, что сравнение было отчасти верно: Исайя за 700 лет до Рождества Христова предсказал Его пришествие и распространение Его Церкви; Кавелин предвидел как неизбежное освобождение крестьян, так и революционную угрозу, едва замаячившую тогда на российском горизонте.
Два года назад Кавелин пустил гулять по России записку «Об освобождении крестьян», в которой на сорока с лишним страницах объяснялись причины нынешнего положения и указывались пути выхода из него. Записка получила очень широкое распространение и известность, хотя автора ее мало кто мог указать. Знал ли об авторстве Кавелина князь Долгоруков? Без сомнения, но это не мешало ему любезно беседовать с профессором. Долгоруков знал также и о царском мнении относительно Кавелина.
Удивительным образом судьба свела двух противостоящих друг другу личностей в царской резиденции в августе 1857 года, и едва ли им приходило в голову, что спустя всего год они встретятся при совсем других обстоятельствах. Пока же шел вполне светский разговор.
– Прошу меня извинить, господин профессор, но вскоре вынужден вас покинуть: спешу к обеду у великого герцога. Непременно доложу о вашем приезде императрице, но едва ли она вас примет сегодня… Вы понимаете, праздник!
– Я понимаю, ваша светлость.
– Завтра я еду в Майнц для проводов ея императорского высочества великой княгини Елены Павловны.
– Вот как? – поддержал разговор Кавелин.
– Ее императорское высочество отправляется в Кельн… А не скажите ли, господин профессор, что решено об имении великой княгини: полную свободу она полагает дать мужикам или только улучшить их положение?
Кавелин понял, что это спрашивает не шеф жандармов, а помещик, явно заинтересованный в том или ином исходе дела освобождения.
– Полную.
– И с землею?
– С землею.
– Как же они будут выплачивать, банку или работами? Не будет ли сложно это?
– Едва ли. Впрочем, великая княгиня советовалась с тамошними помещиками, и они вполне одобрили, – Кавелин запнулся, не зная, что можно сказать столь любезному и внимательному собеседнику. – Все еще будет проверено на месте, потому что великая княгиня действует крайне осторожно.
– Интересно, интересно. Мы с вами еще потолкуем о проекте великой княгини, так как это дело всех нас крайне близко касается.
Так завершился разговор профессора и царедворца. Общим для них было сильное желание повлиять на государя в определенном направлении при решении вопроса об освобождении. В каком направлении собирался действовать Кавелин, уже известно, теперь скажем о князе Долгоруком.
Князь Василий Андреевич был давно известен государю, ибо сопровождал его в первом заграничном путешествии в 1838 году. Назначение это произошло едва ли не в последнюю минуту. Князю Василию очень хотелось попасть в свиту наследника, а все места были заняты. Как бы в насмешку, зная, что не пойдет, ему предложили вести счета и заведовать всеми расходами. Долгоруков, не раздумывая, согласился. Ему было уже за тридцать, а карьера не слишком двигалась.
Долгое путешествие, естественно, сблизило его с Александром Николаевичем, которому приглянулся немногословный, несколько грубоватый, но бесконечно преданный Долгоруков. И карьера Василия Андреевича пошла в гору. Он получает звание генерал-майора, вскоре – генерал-адъютанта. Николай Павлович, помнивший князя в Зимнем дворце в декабре 1825 года, назначает его военным министром, производит в генерал-лейтенанты, награждает Владимирскими и Андреевскими лентами, и, наконец, Александр дает ему чин генерала от кавалерии, но увольняет от должности министра.
Меж тем Василий Андреевич вошел во вкус жизни высших сфер. Не смущаясь возмущением недругов и завистников, он попросил у государя пост российского посла в Париже. В ту пору он потерял жену, умницу и красавицу Ольгу Карловну, и полагал, что утешение ему необходимо. К сожалению, внезапно всплывший на поверхность князь Горчаков категорически этому воспротивился. Александр предложил Долгорукову должность шефа жандармов, освободившуюся с назначением Алексея Федоровича Орлова на высшие посты. То было не блестящее место, но – точно знал Долгоруков – очень близкое к трону. Так он стал шефом жандармов.
Долгоруков являл собой одну из типичных фигур николаевского царствования, и именно поэтому он имел весьма определенные убеждения. Возникшие слухи об уничтожении крепостного состояния сильно озадачили его. Включенный по должности в Негласный комитет, он вполне следовал курсом князя Орлова, считая, что надо только притормозить вопрос, а там государь и одумается.
Главную угрозу Долгоруков видел в великом князе Константине, который относился к нему с нескрываемым презрением. Шеф жандармов в свою очередь не скрывал своей ненависти. Как-то в разговоре с князем Горчаковым у него вырвался упрек: «Вы много способствовали к тому, чтобы этого мальчишку все избаловали. Он начал забываться». На что Горчаков ответил: «Мне кажется, любезный товарищ, что вы забываетесь, когда выражаетесь подобным образом о брате нашего государя!» Долгорукова, впрочем, заносило нередко.
Императрица Мария Александровна сильно осерчала на него за запрещение выпуска журнала «Русская беседа» с поэмой графа Алексея Толстого о святом Иоанне Дамаскине, ранее уже читанной автором в ее салоне. Долгоруков использовал тот предлог, что стихи не прошли духовной цензуры, а причина главная заключалась в нелюбви к острому на язык графу Толстому. Неблагосклонность императрицы длилась с месяц, но Василий Андреевич Долгоруков имел длительный навык придворного виляния и получил прощение. Положение его было прочно. Каждодневно в полдень был его доклад у государя.
В первую ночь Кавелин плохо спал, проснулся с восходом солнца и более не мог сомкнуть глаз. Перебирая в памяти вчерашние разговоры с шефом жандармов и фрейлиной императрицы Анной Тютчевой, он готовился к высочайшей аудиенции и придумывал речи искренние, пламенные, даже резкие, но убедительные. Он не знал, что такое двор.
Полдня просидел профессор в своей комнате, ожидая, когда его позовут к императрице. Ждал и после обеда, но его просили лишь к князю Долгорукову. Тот также заставил его прождать час и объявил, что императрица примет его на следующий день после обедни в первом часу.
Вечером следующего дня Кавелин поспешно заносил в дневник все подробности встречи, стараясь не упустить ни одной мелочи. Главное, что поразило его, это смущение императрицы, притом что он оценил в ней обаяние женщины и величественность государыни.
У самого Кавелина все пламенные речи и откровенные мысли вылетели из головы при входе во дворец, занимаемый царской четой. «Я чувствовал себя самым жалким из смертных, – записывал он в дневнике, – робко оглядывая свою шляпу, свои перчатки, при малейшем шорохе в соседней комнате убегал на цыпочках в амбразуру окна и мучился мыслью, а что, если я как-нибудь спотыкнусь, или неловко поклонюсь, или скажу по привычке Altesse Imperial вместо Majesté».
Однако небольшая темноватая комнатка, в которой императрица села спиной к окну, так что ее лицо едва можно было разглядеть при опущенной шторе, несколько успокоила Кавелина.
Разговор был долгий, но без определенной темы. Мария Александровна хотела понять, что за человек Кавелин, кому она передает воспитание своих детей. По рассказам мужа, а отчасти и по своим воспоминаниям, она представляла, чем был Василий Андреевич Жуковский для ее Саши. Хотелось найти второго такого. Первое ее впечатление было вполне благоприятно. Недостаток светскости возмещался профессорскими познаниями, а горячность Кавелина свидетельствовала об искренности и открытости.
Императрица изменилась со времен своей юности. Высокая, стройная, хрупкая. Годы прибавили плавности в ее походке и движениях, но в этом угадывалась усталость. Лицо ее высохло, с белесыми бровями и тонкими бескровными губами оно стало точь-в-точь лицом немолодой немки. Красили ее большие голубые, немного навыкате глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Художник Рокштуль написал ее портрет для Романовской галереи, портрет молодой и нежной женщины… какой она была еще недавно. Мария Александровна с улыбкой выслушала комплименты придворных и уверения мужа в том, что она на портрете как живая, но в своей комнате долго плакала.
По положению императрицы она была окружена пристальным вниманием и мелочной заботой; принимала по необходимости лесть и поклонение двора, ничуть не обманываясь этим. Она свыклась со своим положением нелюбимой жены, тем более что наружно Александр оказывал ей все знаки любви и почтения, да и дети, и прожитые годы создали то общее, что невозможно было разорвать. Немалое утешение находила она в церкви, постепенно постигая силу и глубину православия.
У Марии Александровны был кружок близких друзей, в котором она чувствовала себя свободно, где ее не обманывали. Им она доверяла, с ними было легко, и ее родной немецкий язык не был им чужд. Впрочем, и по-русски она изъяснялась отменно. Федор Тютчев посвятил ей стихи:
Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.
Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться.
А сердце рвется обожать…
Этой весной, в апреле, она родила шестого ребенка, мальчика, нареченного Сергеем. Как ранее и к другим детям, она была особенно нежна к маленькому, с врожденным терпением и аккуратностью следя за его нянюшкой и кормилицей, чтобы те вовремя кормили, купали, переодевали, прогуливали царственного младенца. Младенец делал все, что ему положено в полгода: гугукал, внимательно смотрел голубоватыми материнскими глазками на белый свет, и никто-то не мог представить, какова будет трагическая кончина великого князя Сергея Александровича. Но пока великий князюшко тихо лежал в пеленках. Главное внимание матери занимал вопрос о Николае, о наследнике-цесаревиче.
В тот год это был высокий, худощавый юноша тринадцати лет. Тонкими чертами лица он скорее походил на мать, миловидность и доброта сразу подкупали. Его ровесник князь Петр Кропоткин вспоминал, как наследник еженедельно приезжал в Пажеский корпус на урок алгебры, сидел на скамье вместе с другими и, как все, отвечал на вопросы. Но большей частью Николай Александрович во время занятий очень недурно рисовал или же рассказывал соседям шепотом смешные истории. «Он был добродушный и мягкий юноша, но легкомысленный как в учении, так и в дружбе», – заключает Кропоткин, быть может, не вполне справедливо.
Великий князь был, по многим отзывам, необыкновенно красив, а по народной примете судьба таких людей не жалует. Как-то раз он пробовал силу с герцогом Николаем Лейхтенбергским, своим двоюродным братом. Летами они были равны, а вот ловкостью братец его обошел. Мальчишки возились в комнате, и великий князь ударился спиной об угол мраморного столика, да так сильно, что едва не упал. Ушиб сильно заболел. Граф Григорий Строганов, пышноусый и громкоголосый отчим герцога, высмеял цесаревича: «Нельзя быть таким неженкой. Пустой толчок, а он в слезы! Разве вы мужчина после этого?» И тот терпел. Цесаревич походил на деда порывами гнева, властолюбием и способностью скрывать свои чувства. Вскоре боли возобновились, но наследник терпел, никому ничего не говорил.
Вторая встреча Марии Александровны и Кавелина была посвящена собственно плану воспитания наследника.
– Изволите видеть, господин Кавелин; старшие мальчики – Николай, мы его зовем Никса, Саша и Володя обучаются вместе. Предметы у них обычные – Закон Божий, математика, история, география, чистописание, русская грамматика и русское чтение, рисование, языки – французский, английский и немецкий. По утрам они точат и столярничают каждый день. Раз в неделю у них музыка, танцы, фехтование, два раза – гимнастика и верховая езда. По настоянию государя, их регулярно возят в музеумы и на заводы – стеклянный, фарфоровый. Успехи у всех троих имеются, хотя младшему недостает прилежания…
Кавелин с некоторым удивлением понял, что императрица действительно нежная и внимательная мать.
– Искусственное, оранжерейное воспитание, которое получают дети государя, есть их гибель, ибо отчуждает их от народа, – так начал Кавелин. – Их необходимо знакомить с действительной жизнью, учить понимать нужду и страдания, без которых ничего не бывает на свете. Необходимо ездить по России, а не смотреть на нее сквозь призму двора и Петербурга…
– Это верно, верно! – весело прозвучало от двери.
Кавелин оглянулся – на пороге стоял император.
Высокий, с горделивой осанкой, но не портретно-строгий, а улыбающийся добродушно. Александру Николаевичу было тогда тридцать девять лет. Он был в расцвете всех своих сил и, по мнению многих дам, мог служить олицетворением благородства и красоты. По словам великого князя Константина, у старшего брата «внимательность ко всем была развита в сильнейшей степени с самой ранней его молодости. Никто в мире не обладал в такой степени, как он, тем, что называется les attentions du coeus, такою тонкою, милою, любезною благовоспитанностью, и потому-то он был всеми так любим. С самого раннего детства мне его ставили в пример». Даже сделав поправку на естественные преувеличения, можно понять, как велико было личное обаяние Александра.
– Рад вас видеть, Константин Дмитриевич, – сказал царь, и Кавелин поразился этому, ведь еще вчера князь Долгоруков подчеркнуто небрежно спрашивал его имя и отчество. – Что до путешествий, то смею утверждать, что поездки наследника по России ни к чему не приведут. Ему все-таки не покажут настоящую Россию, как не показали мне двадцать лет назад. Это все des reves et des utopies.
– Мой дорогой, – обратилась императрица, – Константин Дмитриевич считает, что Николаю следует прослушать университетский курс в Москве.
Улыбка исчезла с лица императора.
– Ну это мы решим позже, – сказал он. – Университеты и журналы сейчас имеют вредное направление. Вот в одном напечатали статью о Гоголе, что-де тот пользовался уважением публики до тех пор, пока не начал воскурять фимиам Царю небесному и царю земному. Каково?… Что обо мне говорят, я на то не обращаю внимания. Нельзя всеми быть любиму: одни любят, другие нет. Цари земные бывают с ошибками. Но о Царе небесном нельзя так отзываться… Прошу меня извинить, дела!
После ухода императора собеседники помолчали.
– Жаль, что государь здесь всего несколько дней, – пояснила Мария Александровна. – Он мог бы вам дать инструкции, потому что в Петербурге все его время так занято, что ни минуты нет свободной.
Разговор их продолжался, и Кавелин смог в полной мере оценить живой ум Марии Александровны, хотя и отметил крайнюю осторожность, до робости, в выражении своих мнений и оценок, что он приписал ее положению. Воодушевленный добротой государя и вниманием государыни, он пустился в горячее изложение своего credo:
– Эра революций прошла, наступает другая эпоха. Не могу отрицать возможности переворотов, но убежден, что идеи, потрясавшие мир в основаниях его, потеряли свою едкость и односторонность и потому не могут иметь прежней силы. Революции неизбежны, когда правительства ничего для народов не делают и слепо отдаются ближайшим своим советникам, привилегированным классам…
Разговор шел по-французски, а этот язык несколько смягчал и облагораживал выражения, звучавшие по-русски вызывающе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?