Текст книги "Ломка"
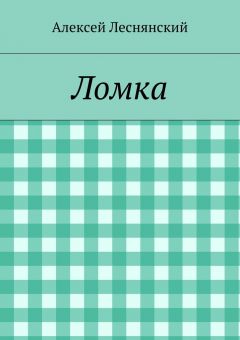
Автор книги: Алексей Леснянский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
41
…Стоял знойный июль 42-ого года. Стрелковая дивизия, сформированная в Абакане, получила приказ оборонять правобережье Дона… Шли жестокие кровопролитные бои. Немцы берегли солдат; пехотную мощь рейха гитлеровское командование не спешило бросать на передовую. Наспех вырытые окопы русских утюжила артиллерия, непрерывно бомбила авиация. Полки Красной армии, потерявшие большую часть личного состава, начали переправу на другой берег.
– Твою душу мать-то. Закрепиться бы здесь. Сколько наших впустую полегло… От осколков, снарядов мрем, – а толку? Слышь, боец?
– Вы, товарищ старший лейтенант, вроде и званием не обделены, а понять не можете, что это стратегия.
– Ты откуда такой стратег выискался, что со своим командиром споришь? Откуда родом, – спрашиваю я тебя? Отвечай по форме.
– Рядовой Спасский из-под Киева. Вы меня разве не помните? Был прикомандирован к вашему батальону в качестве связиста на станции Лиски. Нас еще дивизионный фотограф заснял.
– Чой-то говор у тебя не больно хохляцкий, связист.
– Так я институт заканчивал. Могу и по-вашему изъясняться.
– Партийный, поди, еще?
– Так точно. Коммунист!
– Так вот слушай сюда, коммунист. Я сын кулака из Сибири, и все богатство моей семьи было – две коровы… И власть вашу советскую я не признаю!
– Как вы можете так говорить? – в идеологическом экстазе захлебнулся Спасский. – Да Вас за такие слова по суду военного времени…
– Молчать! – рявкнул командир. – Если ты не дурак, то уже бы давно понял, что батальоны переправляются, а мы сидим здесь. Когда ты передал мне трубку, от комдива был получен приказ прикрывать отступление. Мы остаемся здесь, солдат.
Спасский осел в окоп и взялся за голову. Старший лейтенант уже пожалел, что убил в своем подчиненном надежду и теперь задумал исправить положение. Жесткий колючий голос командира, повышающийся на каждом слове, но однако не утративший за год войны свежести молодости, в следующую минуту обмяк:
– Слышь, сынок, – сказал старший лейтенант, хотя всего на семь лет был старше подчиненного. – Не до убеждений сейчас, своих прикрываем. И сегодня, связист ты мой дорогой, сверстниками станем. Только не по рождению, а по смерти. Окоп этот – наша мать теперь.
В ответ раздалось сдавленное рыдание. Володя накрыл лицо каской, стесняясь своей слабости.
– Дурак проклятый. Зачем я дал ему понять, что мы обречены?
– Не хочу-у-у умирать, не хочу-у-у. Мне всего девятнадцать, товарищ старший лейтенант. У меня даже девушки не было-о-о, – застонал Спасский.
– Поплачь, солдат. Не стесняйся. Мне самому выть охота, да должность не позволяет… Поплачь о нас… Обо мне, о ребятах.
Володя искоса посмотрел на своего командира. Неопытному рядовому не дано было узреть офицерской хитрости.
– Да, Спасский, – видно судьба. Не умрешь ты, гад эдакий, в бою вместе со всеми. И за что такой вот дрянной сволочи, как ты, счастье жить? Прямо не знаю. Я вот во сто крат лучше тебя, а должен погибнуть.
– В свое наглое вранье Белов и сам уже верил.
– Брешете, товарищ старший лейтенант.
– Конечно, брешу, – подумал Белов. – Но как брешу – не всякому дано.
По тому, как напрягся подчиненный и всем телом подался вперед, чтобы услышать что-то еще, Белов понял, что лгать необходимо дальше:
– Письма, которые я домой отписал, отправишь по адресу. Сына… Хотя нет, внука… Значит, внука назовешь в честь своего геройского командира – Андреем. Понял?
– Ага, – с наивной радостью в голосе сказал Володя, но потом вдруг помрачнел и спросил: «А как вы определили, что я не погибну»?
– «Вот гад. Доказательства ему подавай, – подумал лейтенант. – Как будто только о нем я сейчас должен думать».
В эти, может быть, последние мгновенья, которые отвела ему жизнь, старший лейтенант совсем забыл о себе, своих близких и родных, ждавших его за тысячи километров от этого проклятого Богом окопа. Около сотни бойцов, жалкие остатки полнокровного батальона после четырех дней обороны ждали его команд.
– Как определил-то? Да очень просто, солдат, – скороговоркой произнес Белов, так как заметил в бинокль, что у немцев начались передвижения. – Перегруппировываются гады, щас попрут. Дожать хотят, твою душу мать. Им уже не этот – им тот берег подавай. Нет уж, – выкусите! Через Сибирь пойдете!.. А насчет тебя?.. Дак у тебя на роже написано, что жить и жить. Веришь мне?
– Верю, товарищ старший лейтенант.
– Командир батальона мёртв. Из офицерского состава только я один. Кругом новобранцы. А если побегут? Через минут тридцать тут такая каша заварится, что как бы самому не струхнуть. Кучу воронья на себя стянем… И почему я?.. Да потому что я, твою душу мать. Да потому, что кроме меня некому. Двадцать семь лет чего-то боялся, чему-то радовался, кого-то любил и ненавидел, – и к чему пришёл? А пришёл к тому, что, даже зная, что через час здесь будут валяться трупы, и я в их числе, некогда подвести итоги, потому что батальон на мне. И эта чёртова тишина, она мне уши разрывает; уж лучше б снаряды рвались, ей-богу. Страх от этой тишины, – подумал Белов.
– Товарищ старший лейтенант, с Вас пот бежит, – произнёс Володя.
– Жара, Спасский, жара… Давай-ка дуй по окопу и всем передай, что ожидается наступление, а отступление ложное. Придумай чего-нибудь. Ты ж ведь грамотный стратех – вот и придумай. Давай, давай, родимый – дуй уже.
Получив приказ, Володя, пригнувшись, побежал по окопу.
– Стой! – крикнул Белов. – Захвати у старшины Забелина гармонь! Играть буду!
– Разве это соответствует ситуации? – с удивлением воскликнул Володя. – Может лучше…
– Не рассуждать, рядовой! Или ты забыл кто здесь командир?.. Выполнять!
– Есть!
Развернулась гармонь. Налились силой меха, полыхнули жаром. Тишина побежала, а вдогонку надрывным мотивом полилась русская песня, вобрав в себя горечь людей, ширь бескрайних степей, синий полог лесов, разливы рек… Нет преград для нашей песни. Русский человек рождается и умирает; песня же только рождается. Однажды прозвучав, притаится она в траве-мураве, лесной чаще, морщинах скал и часа своего ждёт. И лишь дотронется до неё памятью человек, – оживают слова, пробуждается музыка. Запоют наши люди – и освобождаются из оков рабства их души, чтобы лететь в небеса и прикоснуться к вечной правде о жизни.
Пел старший лейтенант, хорошо пел. Нерастраченная молодость сквозила в голосе. И для кого он пел – Андрей Белов знал. Для тех, кто, умываясь кровавым потом, ушёл за Дон и оставил их здесь на растерзание; для тех, кто в бессмысленной ярости заблуждения, не понимая законов российской истории, говорящей, что народу нашему дороже свободная нищета, чем даже золотая клетка сытости, – готовились обрушить последние атаки на сибирский батальон; и для тех, кто должен был сегодня принести себя в жертву будущим победам.
Не героями были бойцы второго батальона в июльский полдень 42-ого. Герои увешены медалями, почивают на лаврах славы, пользуются людским уважением и любовью. Когда дивизии пятятся назад, никому нет дела до того, как и для чего гибнут маленькие подразделения, чтобы обеспечить минимальные потери армий. Подвиг придуман для тех, кто молниеносным победным маршем берёт города и освобождает страны. Солдат же, отдавших свои жизни на правом берегу Дона, завтра забудут; не принято вспоминать тех, кто сгорел в огне поражений. Немецкие похоронные команды, конечно, не из гуманных соображений, а боясь распространения эпидемий, «предадут» русских войнов земле, свалив их в одну кучу на дно неглубокой траншеи.
Кем же тогда были эти бойцы, если не героями? Может быть, теми самыми патриотами, которые на всех площадях трубят о своей любви к Отечеству? Нет, конечно. Оставленные на растерзание, они меньше всего хотели умирать даже из преданности Родине. Когда Спасский нёсся по окопу и неестественным голосом кричал о грядущем наступлении, каждый первый вдруг понял, что это конец; но никто из бойцов не сказал об этом вслух, чтобы не упали духом другие. Солдаты спешили вспомнить о доме; подумать о своих жёнах, которым придётся в одиночку поднимать детей; о матерях, поседеющих после известия о смерти мужа или сына.
Зря боялся комроты, в одночасье ставший комбатом, что у его подчинённых сдадут нервы. Никто не отступил в тот день. Пронизанные духом братства, когда от более отважных переходит смелость к менее сильным, – люди в окопах выстоят, вымостив кровью дорогу отступающим полкам.
Они были не героями и не патриотами, а достойными сыновьями своего народа, в котором в нужный момент стирается эгоизм отдельной личности и вырастает личность самоотречённая.
И если ты, дорогой читатель, в это трудное для России время вдруг почувствовал, что распрощался с равнодушием по отношению к окружающей тебя действительности – знай: в тебе живёт душа твоего народа. Не ищи суетных наград. Когда ты найдёшь в себе силы что-то менять, передовая жизни станет твоим вторым домом. Твоя главная награда – понимание проблем и возможность их тут же решать. Незавидная учесть ожидает тех, кто, как премудрый пескарь, захочет спрятаться в тылу, потому что вечный удел этих людей – пустота и одиночество.
Голос старшего лейтенанта, не выдержав напряжения последних минут, начал срываться. Бойцы не дали – подхватили песню. Наполнилась многоголосым звучаньем донская степь… Левый берег вздрогнул, сопереживая правому. Казачья река замедлила течение и без того неторопливых вод, чтобы посмотреть… посмотреть на то, как Сибирь будет сражаться за Дон.
Скрываясь в чёрной тени танков, немецкая пехота перешла в наступление. Стальные громады залпами орудий начали смешивать с землёй солдат второго батальона. Смерть зашла в окопы и теперь не спешила, приглядывалась, рассуждая, к кому сейчас подойти, а кого на потом оставить. Под её капюшоном играла дьявольская усмешка. С сатанинской радостью разгуливала она промеж людей, и всё её визгливо-мелочное существо бесновалось при мысли о том, что никто из вверенных ей сегодня подопечных никогда не узнает старости. Поглядывая в сторону надвигавшихся гитлеровцев, в адрес которых пока не раздалось ни единого выстрела, смерть испытывала наслаждение оттого, что не надо суетиться, и производила свою грязную работу в русском окопе с медлительным качеством. За всю историю мира загробная нечисть не обошла стороной ни одного человека; у неё было чёткое правило, соблюдением которого могут похвастать немногие… Смерть не брала взяток…
– Ближе, подойдите ближе, – спокойно шептал сержант Богучаров, припав к противотанковому ружью.
Таёжный егерь, он не интересовался людьми. Запахи прелой хвои, свист падающей с кедрача шишки, мягкий настил мха, замысловатые рисунки звериных троп – вечным спокойствием манили к себе Силантия Богучарова. Когда он два раза в год покидал свою сторожку, чтобы выполнить норму по сдаче песцовых и беличьих шкур, то заболевал и стремился в тайгу, ставшую его домом.
Сейчас на Богучарова ползли танки, и только их на войне сержант считал достойными противниками, как медведя в тайге, на которого не раз выходил с рогатиной. Пехота не по нему. Пусть с ней воюют другие. Страна сражалась с фашистской Германией, он – с её танками.
– Вот теперь пора, – сказал себе Богучаров и выстрелил.
Меткая рука охотника не дала сбоя. Имперский колосс задымился. Из люка выскакивали люди в чёрной форме, и сержант по-детски удивился этому, как и прежде удивлялся, что такими смертоносными машинами управляют люди. Сегодня Богучаров не чувствовал себя дичью. При нём было смазанное до винтика, хорошо пристрелянное ружьё.
– Ну чё приуныли, сынки? Чего приуныли? Сейчас не страшно. Страшно, когда вплотную подойдёт. Боюсь, штыковой не избежать, – обратился старшина Забелин к двум новобранцам, находящимся в окопе с ним по соседству.
– А мы и не боимся! Правда, Жора? Чего их бояться, гадов, – хорохорясь, ответил один из новобранцев, подмигнув своему другу.
– Врёшь ты всё, Борямба. Даже щас врёшь… Лично мне боязно. Мы стреляем, а они всё идут и идут. Хрен их чё остановит, – сказал Жора, не отрываясь от прицела винтовки.
– Ладно. Чего врать действительно, – и мне страшно, – не зная, куда убежать глазами, сказал Борямба. – Куда ж без этого?
– То-то и оно, ребятки, – прикрикнул старшина и застрочил из «максима».
Немцы подступали всё ближе и ближе. Уже можно было разглядеть их лица.
– Интересно, как там у других обстановка? – спросил вечно любопытный Жора, посмотрев в обе стороны окопа.
– Свой фронт держи, солдат, – глухо сказал старшина, вставляя новую пулемётную ленту. – Не твоего ума дело, что творится у других. Метр вправо, метр влево вдаль от окопа – твой фронт. Там твой враг. Заруби это на своём мокром носу, парень.
– А если?
– На войне не бывает «если», сопляк, – разозлился старшина. – Будешь думать за всех – допустишь прорыв на своём участке… А теперь меняем положение, пристреливаются курвы.
Очередь из автомата взрыхлила землю, где только что находились трое.
– Вот ведь как бывает, если думать, а не думать «если».
С таким старшиной молодые ребята почувствовали себя спокойней; им на миг показалось, что сейчас они проходят военно-теоретическую подготовку без какой-либо опасности для жизни, как и в Абакане несколькими месяцами раньше.
– А старший лейтенант, пославший этого солдата – он ведь… сам знает, что никакого наступления не будет… Мы все погибнем, все, – ощутив сухость во рту, забормотал Борямба.
– Цыц, паникёр! Это он за-ради нас сделал, чтоб раньше сроку от страха не сдохли, – резко одёрнул старшина. – Есть шанс ребятки, точно вам говорю. Быстро поглядите назад. Переправа почти закончена. Надо только с этими расхлебаться (кивком головы он указал в сторону немцев) и всё. До своих вплавь доберёмся.
– Сколько до них? – спросил Борямба.
– Сейчас метров сто – не больше, – прикинул Жора и плотно прижался к земле. – Господи, как их много-то.
– Много говоришь?! Ща проредим, – злобно процедил старшина.
«Максим» зарокотал, выплёвывая пули. Цепь наступающих гитлеровцев залегла под ураганным огнём. Когда пулемёт смолк – снова поднялась, но не вся. В одном месте зияла дыра – дело рук Забелина. Отрывистые, похожие на собачий лай выкрики немецкого офицера, законопатили просеку. Линия наступления вновь стала цельной.
– Да-а-а, – протянул Жора, – как будто и не стреляли.
– Вот так проредил, – согласился старшина. – Так, ребятки. Скоро говорить будет некогда. Скажу вам как на духу. Медали свои боевые заработал я трусостью. Только в опасности все назад норовят побежать, а мне, чем страшней, – тем быстрей я вперёд мчусь. Завсегда в первых рядах и ни разу не ранило. Вот вам оборотная сторона храбрости.
– Батальё-о-о-он!.. Штыки-и-и… примкну-у-уть!.. В атаку-у-у… за мно-о-ой… Ура-А-А! – богатырским криком разнеслась по выжженной степи команда старшего лейтенанта.
Как один поднялись из окопов бойцы. Только Богучаров не дёрнулся с места. Пехота не по нему; он истребитель танков. Зажав в руках две связки гранат, сибирский охотник по-пластунски пополз вслед прорвавшимся за линию обороны «тиграм».
– «Неужели прослаб? Раз прослаб – расплачивайся», – была последняя мысль сержанта Богучарова.
Рукопашная схватка была короткой. Батальон навсегда остался лежать в донских степях. Пройдёт время. Братская могила порастёт травой, забытая людьми… Побегут годы, на свет появятся дети, которые, быть может, прочтут о славном боевом пути Пирятинской гвардейской. Не каждому будет понятно, за что сражались их деды, а кто поймёт и проникнется болью, тот не станет сетовать на положение в государстве и отныне начнёт жить не в стране, а на Родине…
Владимир Спасский выжил, прошёл через концентрационные лагеря Германии, а затем и России. Потом будет Сибирь – суровый таёжный край, которого поначалу люди боятся, а после не мыслят себя в ином месте. Он переживёт вождя народов всего на шесть лет, так и не смыв с себя прилепленной государством печати врага и предателя; за неосторожность остаться в живых после попадания фашистской пули должны будут расплачиваться дети.
– Ну, здравствуй, дед. Вот и свиделись. Не переживай, солдат. Сейчас я всё поправлю, – сказал Андрей, достал из кармана пиджака ручку, перечеркнул надпись «с неизвестным солдатом» и вывел над ней «с гвардии рядовым Владимиром Спасским».
Внук, встретившийся с дедом, сегодня ещё раз убедился, что его появление в деревне нельзя назвать случайным. С этой мыслью пришло спокойствие; путь выбран правильно, свернуть с него нельзя, а значит, следует идти и вести за собой людей. Андрей каким-то непонятным сверхъестественным чутьём угадывал, что в конце будет что-то страшное, которое откроет дорогу прекрасному. Ему, как и Моисею в незапамятные времена, не будет позволено вступить на землю обетованную. Он может только незримо ощущать её присутствие и стать факелом в тёмном длинном тоннеле. Его участь – радоваться своему то ярко пылающему, то еле мерцающему свечению во мраке и видеть впереди узкую полоску света, за которой другая жизнь.
42
На следующее утро Андрей ознакомился с примерным планом праздника, который предложила заведующая, и понял, что никаких сложностей с проведением мероприятия не будет. Грандиозного зрелища из Дня села, конечно, не выйдет после того, что предложила Надежда Ерофеевна, но, исходя из реалий сегодняшнего дня, ставка на пышность предполагаемых торжеств могла бы привести только к провалу.
– Главное, провести. Красивым и запоминающимся его сделает то, что он первый», – подумал Андрей.
Будущему празднику не хватало трёх вещей, которые намеревался вставить Спасский: салюта, поднятия флага и официальности. Он решил, что пиротехнику попросит у своего бывшего одноклассника, а флаг они сделают сами. Что касаемо придания мероприятию общегосударственной значимости, то тут ему в голову пришла только одна идея: написание писем сильным мира сего.
Не откладывая дела в долгий ящик, Андрей приготовил бумагу, удобно расположился за письменным столом, но тут же стушевался. Возник вопрос: кому писать? Перебрав в памяти современных общественных и политических деятелей, Спасский не нашёл ни одного достойного. Правда, тут же обругал себя за дурные мысли и сосредоточился. После напряжённой работы ума Спасский вывел пятёрку, которой напишет. Президент – раз, Познер – два, Парфёнов – три, Солженицын – четыре, Явлинский – пять. От первого нужна поздравительная телеграмма – не более. Даже сухие предложения, отдающие речевыми штампами, наверняка заставят Кайбалы вздрогнуть, а вместе с деревней вздрогнет и вся республика, как это уже было однажды после спиртовых погромов. Сам Спасский, конечно же, не нуждался в поддержке Путина, чего никак нельзя было сказать о деревенских, всё ещё не потерявших веры в мудрость и открытость главы государства. Прямо к президенту письмо, безусловно, не попадёт, и Андрей это знал; десятки тысяч людей ежегодно закидывают Путина различными просьбами и жалобами. Он просто решил для себя, что сделает каждую строчку на бумаге убойной, чтобы ёкнуло сердце прежде всего у чиновника, занимающегося разбором корреспонденции. Познер имеет связи в деловых кругах, и, несомненно, поможет с инвесторами, если, конечно, то, о чём он говорит с экрана телевизора, – не правильные совместные мысли огромного количества людей из его команды, а собственная гражданская позиция. Он напишет ему, что деревня умирает, и не солжет при этом, ведь она действительно умирает, потому что почти все населяющие её люди работают в городе. Парфёнову он после недолгих раздумий решил не писать, так как тот может нагрянуть со своей съёмочной группой и наломать дров в березняке пафоса или сосновом бору полуприкрытой язвительности, сделав передачу в стиле «вакханалии на руинах»; он ведь не может знать, что в Сибири народ пусть и сильный, но при всём этом очень ранимый. Явлинский – политик из разряда слабых, но это обстоятельство до сих пор не мешало ему иметь избирателей, которых Андрей высокопарно называл некоронованными царями страны, а царей, к сожалению, а может для кого и, к счастью, не бывает много.
– Я напишу ему не о деревне даже, а о студенческой молодёжи. Пусть знает, что не одинок, – подумал Андрей и улыбнулся.
Бородатого интеллигента Солженицына Спасский боялся как огня, но потом пришёл к мнению, что огня он на сегодняшний день боится всё же больше, поэтому на писателя чистый листок тоже заготовил, хотя раньше никогда бы не решился своим письмом оторвать постаревшего современника от «бичующей лиры».
День почти вплотную подступил к вечеру, а Андрей не вылезал из-за стола. Пот градом бежал по его спине. Он писал черновые варианты, чтобы поздно ночью перенести отточенные как бритва мысли на белые листы. Несколько раз в комнату заходила бабушка со словами:
– Андрюшенька, поел бы.
На такие предложения Спасский отрицательно качал головой. Он упрекал себя за то, что не может сегодня отвлечься на помощь по хозяйству, хоть и должен. В девять вечера в комнату заглянул Санька:
– Брось, брат, калякать. Пустая затея. Пойдём-ка лучше на танцы.
– Иди, а я попозже подтянусь, – тихо ответила сгорбленная над очередным черновиком письма фигура Андрея.
Как же он мог танцевать, когда искренне полагал, что в скором времени его строки будут прочитаны, а люди, к которым он обращался, засыплют его кто поздравлениями, кто советами, а кто и конкретной помощью. Он, отдавший целый день кропотливому подбору слов, надеялся на силу своих фраз, ведь судьба деревни зависела от того, что завтра будет запечатано в конверты и по найденным в интернете адресам отправлено по почте.
Ровно в одиннадцать кто-то постучал в окошко. Андрей подошёл к окну и отодвинул занавески. Свет в комнате мешал ему разглядеть ночного гостя, и он щёлкнул ладонью по выключателю. Лицо, расплющенное от прикосновения к стеклу, заставило его улыбнуться. Он узнал Наташу и в следующую минуту уже был за оградой.
– Привет, Наталья. Как там в клубе? – обратился он к девушке.
– Как обычно… Пойдём прогуляемся.
– Можно.
– Если осторожно, – сказала Наташа и засмеялась.
– Тёплый вечер. А куда направимся?
– Куда угодно, лишь бы не на танцы. Маршрут можешь выбрать сам… Ах, да! А чем ты сейчас занимался?
– Да так, ничем особенным. Просто лежал, – сказал Андрей и устыдился лжи.
Он боялся показаться наивным девушке и себе, и тут же понял, что таковым и является.
Шли по улице. Серебряный лунный свет лежал на асфальте. Оживлённо беседуя, пара, сама того не заметив, оказалась за Малым мостом. Двадцать лет назад в такую же июльскую ночь по лесу за мостом гуляли отец и мать Наташи, но сейчас Спасскому и Заваровой казалось, что они здесь первые и окружающая их красота только для них. Ночная природа и не пыталась разуверить ребят, хотя помнила, как многие предшествующие поколения кайбальцев плели в этом сказочном лесу плотские венки любви. Когда-то и брат Наташи был зачат здесь…
Притихли тополи, перестали шушукаться между собой о людских судьбах и обратились в слух.
– Волшебная ночь. Не правда ли, Андрей? Посмотри, какие звёзды над нами, – шёпотом произнесла Наташа, боясь спугнуть тишину.
– Ты права. Только знаешь, многие из них погасли давным-давно, но продолжают нести свет на нашу планету через холод космического пространства. Люди никогда не устанут смотреть на звёзды… Им просто кажется, что они устали, а на самом деле это всего лишь голова затекла.
– Если, конечно, не наблюдать за ними лёжа, – сказала Наташа.
От слов девушки Андрея будто током ударило. Они прилегли на мягкую траву и взялись за руки. Диалог оборвался. Парень с девушкой, не сговариваясь, думали об одном. Сейчас они пытались проникнуть в тайны мироздания; хотя бы раз в жизни это происходит с каждым, особенно в ночную пору.
– Словно кто-то расшил небосклон и приклеил луну. Мы всё чудес ждём, а они рядом. Надо просто научиться видеть их в обыденной жизни, – нарушил молчание Андрей.
– Ты смотришь наверх? – спросила Наташа.
– Да… Больше смотреть некуда.
– Запомни это небо, потому что таким будет наш флаг. Я беру это на себя.
– А древко я сделаю из палки от граблей, – весело сказал Андрей. – Я как раз хотел поручить тебе одно дело: подыскать подходящую материю для полотнища и нитки для звёзд.
– Я думаю, что будет классно.
– А может, утопия? Может, ничего не надо? Если бы кто-нибудь со стороны узнал, какие веяния проникли в деревню не без моего участия, нас бы всех без исключения на смех подняли, – сказал Андрей в надежде услышать опровержение, но зная наверняка, что не получит его.
Призрак неверия прокрался в душу и начал медленно пожирать юношу.
– Я не знаю, что такое утопия, но, кажется, поняла тебя, – сказала Наташа, а затем её мягкий голос окреп, зазвенел железом. – А ты что думал? Тебя и сейчас считают слегка ненормальным, но, например, этот разбойник Митька обмолвился как-то, что за этого типчика, – так он назвал тебя, – он любому голову оторвёт. «С этим Спасом, – сказал он, – даже стоять рядом тяжело, а не то, что говорить. С его понятиями легко вляпаться в какую-нибудь историю. В этот момент я должен находиться рядом с этим безмозглым, чтобы отвести удар». Шаповал, Сага, Забелин и другие ребята поддержали Белова. Если ты после всего этого отступишь, то грош тебе цена, Андрей. Подло будет с твоей стороны бросить нас всех на произвол судьбы. Ты человек новой эры, и сам это знаешь. И я… люблю тебя, потому что через тебя мне удалось полюбить мир и его грязь.
Губы молодых людей слились в поцелуе, глаза закрылись. Руки Андрея обвили гибкий стан девушки. Старый как мир инстинкт отключил рассудок, и тела всё плотнее стали прижиматься друг к другу.
– Нет, нельзя так. Это неправильно, – лихорадочно произнёс Андрей и отстранил от себя Наташу. – Мы же не животные. Прости, но я не люблю тебя. Даже если… Нет, и тогда я всё равно не имел бы права. Ты должна меня понять. Прости.
– Замолчи, – прошептала Наташа. – Я ничего не требую от тебя. Только одну ночь, одну только ночь. Я никому такого не говорила. Подари мне сегодня свои ласки, а завтра можешь вытирать об меня ноги. Ради тебя я всё стерплю… Бери меня… Я – твоя.
Она нежно притянула его к себе. Горячей дрожью обдало организм Андрея от близости зовущего женского тела. Воля юноши таяла с каждой секундой, как тает, чернеет, оседает мартовский снег в лучах весеннего солнца. То застенчиво и ласково, то с бесстыдной яростью сжимала она его в своих объятьях. Нравственные устои, которыми гордился Андрей, несмотря на их противоположность современным взглядам общества, рушились в столкновении с реальным испытанием. Куда, в какие земли побежала его твёрдость, – Спасский не успел разглядеть. Он почти потерял контроль над собой, почти смирился с тем, что в омуте страсти утонет его свобода… Да, кажется, выходил срок его независимости. Вода точила камень.
Но одна мысль каким-то чудом задержалась в голове Андрея, не ударилась в позорное бегство вместе с остальными и начала возводить неприступную крепость на развалинах воспалённого мозга. Короткая такая мыслишка, но уверенная, что её можно развить. «Меня засекли», – обрадовалась мыслишка и уцепилась за провода-извилины. «А что будет завтра, Андрей»? – вопила она в правом полушарии мозга. Потом эта мыслишка, не до конца убеждённая в победе, начала озорничать в левом. Не удовлетворившись и этим, она раскорячилась на Чёртовом мосту между полушариями и стала его раскачивать. Вниз полетели камни: «А… что… будет… завтра… Андрей»? Бульк… бульк… бульк… бульк… и – контрольный бульк.
– Наташа, я не могу, – смущённо произнёс Андрей.
– Брезгуешь мной?.. И ты такой же, как все. Уходи… Я не хочу тебя больше видеть. Ненавижу тебя, – заявила девушка, уткнулась лицом в траву и расплакалась.
Он привстал на колено, склонился над ней и поцеловал её в голову.
– Дело не в тебе, а во мне. Ты красивая, найдёшь себе хорошего парня, нарожаешь детишек, – ласково сказал он.
– А ты?
– А я буду свидетелем на свадьбе. Позовёшь меня?
– Кто ж меня возьмёт?! Я ж проститутка, торговка телом! Ты это знаешь, и всё равно хочешь сделать мне больно, – произнесла Наташа, всхлипывая.
– Но…
– Не надо. Я тебя люблю. Как ты не можешь этого понять, глупенький.
– Хватит реветь. Я для другого рождён и себе не принадлежу, – грубо отрезал Андрей.
– Да ты просто возомнил о себе не весть что, – перестав плакать, сказала Наташа.
Спасский приложил руку к сердцу. Оно билось ровно.
– Пульс не учащённый. Твои слова меня не задели. Когда кто-то говорит правду в отношении меня, я испытываю стыд. Сейчас этого нет.
– Да ты просто бесчувственный робот, равнодушный киборг. Будь проще, и люди к тебе потянутся.
– Хочешь, чтобы я стал простым как три рубля, а мою жизнь приравняли к жвачке со вкусом земляники, приобретённой в ларьке за эти ничтожные деньги? Пожевали, сладость иссякла… и выплюнули. А я всё-таки предпочитаю быть сторублёвой купюрой, от которой поначалу и избавиться то тяжело, потому что от её присутствия в правом кармане чувствуешь себя в относительной безопасности. Сотня знает себе цену, у неё за единицей два нуля. Значит, она не бахвалится. Три рубля сотрутся, заляпаются в руках, подарят сиюминутную радость-жвачку, а у сотни другая судьба. На неё многое можно купить: жвачку, хлеб, молоко, таблетки от головы… Ещё и сдача останется.
– Мания величия, – сказала Наташа.
– Нет, слабины я себе не дам. Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Чтобы кому-то что-то рассказывать, надо самому быть чистым… кристально чистым. Знаешь, кого мне жаль больше всего? Тех, кто запачкал себя в 90-ых, а потом решил стать законопослушным гражданином. В эпоху дикой, дикой России они бесчинствовали, и у некоторых из них должен был появиться стыд за совершённые преступления. Я бы принял их раскаяние, потому что они тоже люди, обыкновенные грешники, только в масштабах страны. Только там круговая порука, и они дискредитируют и подавят любого, если кто-то из их среды захочет открыть нам правду о совершенных злодеяниях. Поэтому все они должны будут уйти и дать дорогу другим. Все, абсолютно все… До последнего человека.
– Что ты всё о стране да о стране? Нас же никто не увидит, мы с тобой здесь одни.
– Кроме нас с тобой здесь, как минимум, ещё двое, – сказал Андрей.
– Кто же эти невидимые? – спросила Наташа и с интересом стала осматриваться.
– Как кто? – искренне удивился Андрей. – Бог и совесть.
– Какой ты всё-таки странный. Таких, как ты, уже не осталось.
– Здесь ты страшно заблуждаешься… Они как раз только начали появляться.
– Кого же ты боишься больше: Бога или совести?
– Совести, – не задумываясь, ответил Андрей.
– Почему?
– Потому что Бог милостив и может простить, а совесть – никогда. Она у меня такая, что только и ждёт, чтобы я оступился, осквернил себя. Она – дремлющий вулкан, мечтающий облить меня лавой. Кого-то она делает лучше, а меня заводит в самокопание. Я хочу быть примером, а она, гадина, бичует меня и приговаривает: «А вспомни то-то или то-то». И я вспоминаю, а потом не могу сделать то, что должен… Лучше бы её не было.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































