Текст книги "Ломка"
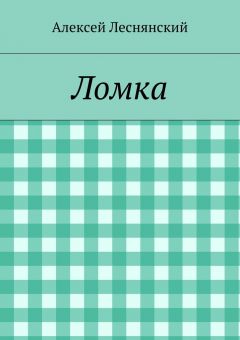
Автор книги: Алексей Леснянский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– А кислые лица недовольных? – спросил отец.
– Этим помогай, чтобы рядом с тобой им стало лучше, а следовательно, и тебе тоже.
– Так жить тяжело, – сказал отец.
– Не труднее, чем, отказывая себе во всём, копить деньги, а потом дрожать за них и себя по ночам.
– Всё равно тяжело.
– Легко, потому что начинать можно уже сейчас, а вечером ты уже будешь на подступах к счастью.
– Потерять всё?
– А приобрести то, чего не купишь ни в одном магазине и за миллиард.
– Нищие жалуются на судьбу, а я ни на что не жаловался, заработал спокойствие на завтрашний день собственным потом, – с достоинством произнёс отец.
– И нажил новую головную боль. Вы в этом равны. Они боятся, что им завтра нечего будет есть, а ты боишься, что кто-то – более могущественный – съест тебя.
– Деньги дают свободу. Благодаря им я могу делать всё, что захочу. Если свобода до сих пор и не полная, то это потому, что их недостаточно много.
– Полная свобода? Хорошо. Я не требую покупки Сейшельских островов. Сожги свой сейф, такую свободу ты можешь позволить себе уже сейчас.
– Лучше ты. Давай, сынок, – действуй. Уничтожь то, к чему ты не имеешь ни малейшего отношения, – сказал отец.
– No problem, – холодно бросил Андрей.
Глаза отца зловеще сверкнули. Зажигалка с пастью дракона, подброшенная властной рукой, несколько раз перевернулась в воздухе и скрылась в ладони сына.
– Я приступаю, – спокойно произнёс Андрей. – Только твоя зажигалка мне ни к чему. У меня своё огниво – пятидесятикопеечный коробок спичек.
Отец ухмыльнулся, поднялся с кресла и сказал:
– Одно «но». Первыми в огонь последуют деньги, которые у тебя, сынок, в карманах.
Андрей пошатнулся. Это был удар ниже пояса. Закружилась голова, перед глазами забегали радужные круги. Он думал, что держит ситуацию под контролем, но жестоко ошибся. Судорожно схватившись за чёрный корпус сейфа, Андрей только и смог прошептать:
– Папа, прости меня. Прости меня, папа.
– Тебе нет прощения. Ты, наверное, подумал, что стал выше меня. Запомни, парень, ты никогда не будешь выше своего отца, ты можешь быть только длиннее его, а теперь убирайся с глаз долой.
– Я не могу так уйти. Пожалуйста, благослови меня.
– Тебя?.. Ни за что на свете. Исчезни из моего поля зрения, хам. К хамам – хамское отношение. Тебе было мало того, что ты почти сразу же получил деньги. Ты захотел втоптать отца в грязь, поизгаляться над тем, кто кормил тебя и предоставлял полную свободу. Так вот, значит, чем обернулся мой либерализм.
– Я зарвался. Папа, прости.
– Вот тебе и свобода, за которую ты так рьяно бьёшься. Ослеплённый своей якобы правотой, ты стал покушаться на то, на что никогда не должен был покушаться… С человеком, с которым вы хотите сотрудничать, я поговорю сам, а теперь уходи.
55
И был поход… Ребята, нагруженные палатками, сумками с провизией, котелками, треногами, спальными мешками, форсировали на резиновых лодках протоку, которую курица и вброд перейдёт. В сердцевине кайбальского леса, где всё ещё можно встретить худосочного зайца, куда не проникают суетливые шумы проносящихся по трассе машин, был разбит лагерь.
В ночи запылал пионерский костёр. Плотная и, казалось бы, всесильная тьма, кланяясь языкам алого пламени, отползла за границы поляны, на которой расположились ребята. Юго-восточный мальчишка-ветер из любопытства заглянул на освещённую лужайку и стал проказничать. Заснувшая трава была разбужена юношеским порывом воздушного невидимки и резко заколыхалась. Она напоминала голодных птенцов, вытянувших свои некрепкие длинные шейки и болтавших ими в поисках мамки, обещавшей прилететь с дождевым червячком. Набесившись вволю, ветерок успокоился и, наверное, устыдившись своего озорства, начал ласково поглаживать перевозбуждённую полянку, словно извинялся за причинённое ранее беспокойство.
– За что будем пить? – спросил Гадаткин, когда увидел, что все пластиковые стаканы наполнены.
– Предлагаю за Россию! – подбросив сухих веток в огонь, громко сказал Спасский.
– Я, конечно, тебя уважаю, но за Россию пить не буду, – сказал Митька. – Почему я должен пить за то, чего пока ещё нет? Вот когда появится, тогда, пожалуй, и намахну за неё стопарик.
– Давайте-ка лучше за нас и за наших девчонок. Вы только посмотрите, какие у нас красивые девушки, —
– Хорошо! Раз уж этого хочет Спас, выпьем за Россию, которая – Мы! – весело произнёс Забелин.
– И которая – Я! – кокетливо прикоснувшись к Саньке, сказала Женя Вишевич.
– Стало быть, и которая мы с Корешом. Два года как никак в кирзачах проходили, – поддержал Брынза.
– Я – не я, и лошадь не моя. Ладушки, не буду отставать от коллектива. Выпью за дурацкую Россию, которая – Я! – выкрикнул Митька.
– А мне, короче, придётся опрокинуть стопку за Россию, которая – Он! – рассмеявшись, сказал Олег Данилин, кивнув головой в сторону вечно молчаливого Романа Сметенко.
– Нет уж, за себя я как-нибудь сам выпью, – кое-как выдавил из себя Роман.
– Неужели Сметана заговорил? – удивился Кореш. – Автоматически поднимаем бокал за Россию, которая перестала молчать.
– А я не только выпью, ребята, – сказал Спасский. – Я просто напьюсь до чёртиков за Россию, которой от самой себя уже тошно!
– Только не спейся, братан. Иначе в следующий раз ты по определению будешь пить за Россию, которая – Я. Признаюсь, что с недавнего времени не равнодушен к алкоголю, – искренне произнёс Санька.
– Сага, а ты не хочешь выпить за рыжую Россию, представленную в моём лице? Ты ж ведь любишь меня?.. Сознайся же, – самоуверенно сказала Галя Козельцева.
– Нет, за рыжую бесстыжую Россию я пить не буду. Хватит ей мне голову морочить. Я выпью за большую, но глупую Россию, которая – Я, – ухмыльнувшись, ответил Сага.
– Теперь уже просто за большую, – подметил Кореш, взявший на себя сегодня роль острослова.
Наташа Заварова отделилась от ребят и подошла к костру. Взгляды ребят обратились к ней.
– Я красивая? – спросила она.
– Если честно, то да, – глядя на девушку с нескрываемым восхищением, произнёс Володя.
– Да! Да! Да, чёрт возьми! – не выдержал Митька и отвернулся, чтобы никто не заметил, как в одну секунду на глазах у него выступили слёзы.
Крик отчаяния разнёсся по лесу, и тишина разлетелась на осколки:
– За прекрасную Россию, через которую прошли все кому не лень!.. За Россию мёртвую, но теперь воскресшую!.. За Россию не по своей вине падшую, но всем простившую! За Россию грязную и продажную, но всё осознавшую!.. За Россию, которую – Я!.. Похоронила сегодня в себе!.. Навсегда!.. Не чокаясь!
– Господи ты Боже, – прошептал Гадаткин (его глаза были полны ужаса).
– Свершилось, – произнёс Андрей и залпом выпил.
Его примеру тут же последовали другие. Рухнув на землю, рыдал Наташин брат, но никто не подошёл, чтобы его успокоить.
Спасский раздавал книги. Он знал, что Достоевский бы им гордился, если бы жил в наше время. А прозорливый Гоголь сказал бы что-нибудь наподобие: «Я вернулся, – и что с этого? Моя рука не выведет ничего нового, потому что к словам, занесённым мной на бумагу в золотом веке, нечего прибавить. Правда, и отнять тоже нечего. А я бы, не сомневайтесь, сделал это. В моей России, как и прежде, две беды: дураки и дороги. Я умер, юноша. А ты живой… У каждого столетия своя задача. 18-ый век – боль. 19-ый век – всё та же боль, но уже выявлены симптомы, поставлены проблемы, и кто-то что-то пробует делать. 20-ый век – ампутация. Боли нет, но и рук тоже. Одни светлые головы остались, да и тех иначе как предателями и калеками не называют. 21-ый век – регенерация. И новая боль, но только не из-за болезни, а оттого, что отрастают новые руки и режутся зубы… Пришло время бить по бедам.
– Да, пришло время быть победам, – сказал Андрей ребятам. – Проглатывайте их, а потом меняйтесь… книгами и сами.
Полетели часы, произносились новые тосты. Ребята делились друг с другом своими планами на будущее. Это был странный поход. Молодёжь не веселилась, не пела песен и не танцевала, но была счастлива, как бывает счастлива всякая молодёжь, когда в душе сорок процентов босоногого детства, тридцать процентов запредельных мечтаний, двадцать процентов кажущейся взрослости и десять процентов реальной возможности сохранить такое соотношение. Андрей понимал, что воспоминания о сегодняшнем дне сотрутся из памяти его друзей, но не расстраивался.
В час ночи стало твориться что-то невообразимое. В глазах девушек и парней появилось замешательство, которое вскоре сменилось тревожным безумием. Луну заволокло тучами. Налетел резкий порыв ветра и привёл в движение притихший лес. Тлеющий костёр затрещал, разбрасывая искры в разные стороны. Костя Чеменев поднялся со своего места, его ноздри расширились, и он стал жадно втягивать воздух. Его зрачки были пусты. Постояв немного, он опустился на колени и приложил ухо к земле.
– Я что-то слышу, но не могу выразить это словами, – сказал он не своим голосом.
Следующим поднялся Гадаткин. От алкоголя его пошатывало, и зрачков тоже не было видно. Он лёг рядом с Костей и широко раскинул руки, как будто хотел обнять землю.
– Позывные, – сказал он. – Нам посылают сигналы континенты.
– Лицом на Запад, душой на Восток… смотрим мы, – несколько раз повторил Спасский.
– Евразия! – произнесла Наташа.
– Россия! – сказал Митька.
– Сибирь! – бросил Забелин.
Когда показалась из-за чёрных облаков полнотелая луна, а ветер стих, никто из кайбальцев не мог вспомнить, что произошло. Молодые люди дискутировали по поводу массового психоза, который овладел всеми, и в конечном счёте пришли к выводу, что причина общего помутнения рассудка – не на шутку разыгравшаяся природа. Взявшись за руки, они закружились вокруг костра. Один лишь Спасский, оставшись в стороне, смотрел в направлении горных хребтов Саян и горько улыбался, потому что помнил всё от начала до конца. Ежеминутно находясь в подвешенном состоянии между прошлым, настоящим и будущим, он страдал от того, что никогда не вернёт первого, не насладится вторым и не увидит третьего. Понимающий то, о чём смутно догадываются другие, он наконец-то подыскал сравнение своему положению… Да, он тот самый греческий воин, сражавшийся с персами близ Марафона. Когда уставшие эллины радовались одержанной победе, ему был отдан приказ: «Беги в Афины и возвести Греции о том, что враг сломлен, и отряды его рассеяны». Страна оливковых рощ и славных трибунов жила в тревожном ожидании вестей, которые должны были прибыть из Марафона. Ни одному царю, ни одному гражданину греческого полиса не было известно то, что знал быстроногий гонец, с каждым километром приближавший свою смерть. 42 километра 195 метров одинокий и обессиленный воин заставлял свои ноги передвигаться быстрее, а лёгкие ещё немного потерпеть. Его прошлым было идущее позади войско отважных греков, настоящим – изнуряющий бег, будущим – смерть от разрыва сердца. Когда, бряцая доспехами, герои Эллады войдут в ворота Афин, безымянного гонца уже не будет в живых. С ним сейчас и олицетворял себя Спасский, и ему не было жаль себя, потому что он предвидел, как будут развиваться события в дальнейшем. Об этом говорила сама история, развивающаяся по спирали.
Разобщённая Россия даст миру свои Фермопилы – битву, которая должна состояться спустя десять лет после Марафона. У него не вызывало сомнений, что в недрах народа подрастают сегодня свои спартанцы, которых не купишь, не запугаешь и не обманешь. Вооружившись мечом справедливости и прикрывшись щитом народной правды, они примут бой за всех против многих, как это случилось тогда – в Древней Греции.
Запахнувшись в плащи цвета зари, триста человек легли костьми, завалили ущелье своими телами, но не сдались. Леонид пошёл на бой с персами, когда вся Спарта вместе с нерешительным советом старейшин отмечала один из многочисленных праздников. Он не учинил мятежа против кучки негодяев, из личных амбиций отсрочивших общее выступление, не воспользовался своим авторитетом военачальника, чтобы взять с собой как можно больше людей и тем самым расколоть город на подчинившихся и не подчинившихся Совету. Он покинул Спарту с горсткой храбрецов, чтобы показать Греции, как от отваги немногих будет решаться судьба целой страны. Обороняя узкий проход Фермопильского ущелья, они затоптали конницу, превратили «бессмертных» Ксеркса в «смертных», доказав миру, что со свободой в сердце жить легко, а умирать ещё легче. Каждый спартанский гражданин, проткнутый ли мечом, пронзённый ли стрелой, раздавленный ли колесницей, умирал за что-то только своё и при этом за что-то общее, которое даёт ему это «своё». Пав смертью храбрых, они заслонили собой ту зародышевую модель демократии, которую воспримет Россия через две с половиной тысячи лет и которую тоже надо будет отстаивать.
Ничего не изменилось со времён Древнего Мира. Если читатель вдруг подумает, что в 480-ом году до нашей эры спартанцы вышли против внешнего врага, то автора этой книги надо гнать из рядов писателей, как не умеющего ясно выразить свою мысль. А ещё для пущей профилактики закидать его камнями, чтобы не разбрасывал на страницах своего произведения словесного помёта и двусмысленной чепухи. А также побить, как следует, но не до смерти, а дабы понял, в какую область ему следует удариться, чтобы принести максимальную пользу обществу, и где не будет какого-либо вторжения в человеческую душу, которое он предпринял, решив опробовать себя на литературной стезе. Он хоть и молодой, но всё поймёт и отправится, куда глаза глядят. Например, вытачивать на станке болванки, чтобы самому не прослыть болваном; или кур начнёт разводить на золотые яйца, которые затем будет бить-бить, и ничего не добьётся, потому что, когда предоставлялась возможность, не написал о том, что триста человек вступили в бой не против миллионного войска Ксеркса, а за… За объединение раздробленной Греции.
Глядя на Саяны, Андрей думал о том, как преломится достоверный факт из истории Древнего Мира на почве российской действительности, и он боялся. Но не за тех, кого будут травить за правду, словно волков; эти сделают свой выбор, как однажды его сделал он – Спасский. Парень опасался за светлые идеи, которые с подачи коррумпированной верхушки превратятся в преступные. Народ ведь опять может поверит в ложь. Власть тут же перекроет дыхательные пути свободы, как только почувствует угрозу для себя, только те, кто выйдет на арену борьбы, не остановятся. Сначала наивные и трогательно верящие в идеалы демократии, они замкнутся в себе от ненависти и всеобщего непонимания, а потом страна взорвётся бунтом. Такого будущего Андрей опасался больше всего, но не сомневался, что оно наступит, если господин ВВП будет продолжать и дальше удваивать ВВП за счёт нищего населения. Там, в просторных коридорах вседозволенности, даже и не подозревают о том, что дали стране 90-ые. В то время как партноменклатура привыкала к новой кормушке, в России рождались дети, которыми никто не занимался. Часть из них забрала наркомания, часть – преступный мир, но третья и самая главная часть из них читала теперь уже никем не запрещённые книги, впитывала в себя самую разную информацию, чтобы к 2005-ому, 2010-ому году вырасти в людей, которые превыше всего будут ценить осведомлённость, свободу и одинаковые для всех законы, позволяющие личности полностью раскрыться в любой сфере деятельности. Ещё часть (и их тоже немало) будет готова к борьбе. Итак, по его мысли, к 2010-ому году касте «воров» придёт на смену каста «строителей», которую будет прикрывать каста «воинов».
– Господи, дай терпения русским спартанцам. Они уже на подходе… Как-то их встретит Россия? Тюрьмами? Заказными убийствами?.. Не исключено.
– Андрей, о чём думаешь? – спросил Володя.
– Всех не пересажают. Не передушат всех, – улыбнулся Андрей. – Мальчики и девочки, которых они не принимали во внимание, скоро вырастут в строителей и воинов за великое будущее нашей страны. 80-ый, 81-ый, 82-ой, 83-ий, 84-ый, 85-ый, 86-ой, 87-ой, 88-ой, 89-ый, 90-ый, а вот-вот и 91-ый, 92-ой, 93-ий, 94-ый, 95-ый, 96-ый, 97-ой, 98-ой и 99-ый годы рождения обнаружат себя.
– Постой-ка, постой-ка. Куда размаслался? А как же 79-ый? Я, например, с 79-ого.
– Пионером что ли успел побывать?
– Успел, – а чего такого?
– Ничего, просто станешь им во второй раз.
– Ну-у-у.
– Баранки гну… 79-ый заносится в числовой ряд с…
– 6.05.79 – ого, – произнёс Гадаткин.
– С мая включительно. Быть по сему.
56
Спасский давно не спал так хорошо, как в эту ночь под открытым небом. Сень сказочного кайбальского леса успокоила его, отогнала тревоги, зарубцевала душевные раны, которые с восходом солнца вновь должны были вскрыться и закровоточить. Ему снилась мама, которую он безмерно любил. Он ни разу не признался ей, что она является самым дорогим для него существом, потому что только по отношению к ней он считал излишним открытое проявление чувств. Он всегда был холоден с ней, а особенно в последние годы. С семнадцати лет он начал выстраивать стену между ней и собой, и делал это сознательно, как будто хотел уберечь их обоих от глупой, как ему казалось, привязанности. Он мечтал о том дне, в который она его полностью разлюбит, чтобы идти вперёд без оглядки назад, без боязни причинить ей боль. Андрей решил, что она не должна страдать, если с ним вдруг что-то случится, а для этого нужно было создать между ними глухую стену взаимного отчуждения, и он старался, искусно пренебрегая ею. Она задавала ему вопросы, а он оставлял их без ответа. В этом и заключалась его любовь к ней. Если бы он только знал, сколько ночей она проплакала, чувствуя, что теряет сына. Глупец, он думал, что ему удалось осуществить задуманное, потому что наконец наступили дни, когда она перестала докучать ему днём, а ночью (он не мог видеть её и слышать) подходила к его кровати, поправляла на нём сбившееся одеяло и разговаривала сама с собой, убеждая себя, что разговаривает с ним. Со своими жестокими мерками он не понимал того, что материнская молитва с благоговением принимается Девой Марией, у которой тоже был сын. А чтобы о чём-то просить Божью Матерь, она должна была знать, чем живёт её земное продолжение, но она даже не догадывалась и мучилась от этого. На смену цивилизациям приходят другие цивилизации, и только материнская молитва за своё дитя всё так же неизменна, проста и в простоте своей бесконечно сильна.
Андрей проснулся от резкой боли и почувствовал, что к его горлу приставлен нож.
– Подъём, тварь! Это был твой последний поход, потому что сегодня я перережу тебе глотку. И попробуй только пикни, сволочь.
Андрей узнал Сергея Бакаева.
Спасский шёл впереди, Бакаев позади. Когда они отошли на значительное расстояние от лагеря, Бакаев приказал своему пленнику остановиться и связал ему руки за спиной.
– Помнишь погромы? Как ты спирт на землю выливал? – с ненавистью спросил Бакаев.
– Да, – твёрдо прозвучал ответ.
– Тогда ты опозорил меня, и за это умрёшь.
– Да, ты прав, – рассеянно сказал Спасский. – Я готов и не боюсь смерти, потому что тебя, как я понимаю, не купишь.
– Решил посмеяться надо мной?
– Нет, что ты, – спокойно ответил Андрей.
– Ну и гад же ты! – затрясся от негодования Бакаев. – Я же прикончу тебя… Тебе конец, крыса.
– Я всё успел, меня на земле уже ничто не держит, кроме твоей медлительности. Не томи, кончай со мной скорей, потому что больше мне нечего передать людям, а мешаться под ногами я не хочу.
– Ты – кретин! – заревел Бакаев. – Жизнь дорога всем!
– То, что я кретин, ты сказал не первый, но уже точно последний. Сегодня не я умру, а ты.
– Ошибаешься, Спас, – засмеялся Бакаев. – Этот Достоевский абсолютно прав. Есть дрожащие твари навроде тебя, а есть право имеющие, навроде меня… Полночи с фонариком над «Преступлением…» просидел.
– Выходит, ты уже прочитал его книгу? – радостно произнёс Андрей.
– До половины, но смысл понятен: мочи всех, кого считаешь нужным мочить. Нет, ты не умрёшь! Ты сдохнешь, как собака! Все в деревне знают, что ты не умеешь плавать. Такой большой, а топор топором. Видел когда-нибудь утопленников? Они такие опухшие, что на них страшно смотреть. Всем будет противно стоять рядом с твоим гробом, но никто и виду не подаст, что ему блевать хочется. Ты будешь омерзительным, и на второй день тебя забудут.
– Серёжа, – подавленным голосом произнёс Андрей.
– Чё Серёжа? Ну чё Серёжа? Измену схавал – да?
– Нет, – прошептал Андрей. – Нет… Книги нельзя читать до половины… Их надо полностью, до конца читать… И понимать!
– Всё итак понятно. Пшёл!
– Мама, мамочка, прости меня. Я всё сделал не так. Я запутался, мамочка, – думал Андрей, когда Бакаев вёл его к речке. – Некому теперь будет заботиться о тебе, ведь меня скоро не станет. Почему я один у тебя? Почему у меня нет братьев и сестёр. Мама, а что такое любовь? Я даже этого не знаю, мама. Этот парень думает, что он убьёт меня… Нет, я сам себя… Я не позволю, чтобы он взял грех на душу через меня. Это будет самоубийство, мама. Я скажу Господу, что это самоубийство, и Он мне поверит. Сегодня я видел тебя во сне. Ты даже не представляешь, какое это счастье видеть тебя во сне, мама… Речка уже близко. Ещё вчера я глядел на неё и радовался, а сегодня она принесёт мне смерть… Осталось двести шагов… Солнце встаёт… Я застану восход, мама… Хорошо, что меня не станет на рассвете, потому что до ночи ещё далеко… Нет, я не всё рассказал. Не всё…
– Что ты замедлился? Передвигай своими ходулями быстрей, – бросил Бакаев.
– Сергей, выполни две мои просьбы, пожалуйста.
– Пошёл ты… Фильмов что ли насмотрелся?
– Нет, ты не так понял. Они не лично меня, они всех касаются. Как представится возможность, сообщи ребятам, что сегодня каждый человек персональную ответственность несёт за свои поступки. Это в эпоху Советской России многое Бог прощал, потому что идеологический пресс был, и на партию грехи людей падали. А сейчас мы напрямую с космосом связаны и отчитываемся за злодеяния без посредников, так как у нас теперь выбор есть, а раньше его не существовало.
– Если пять минут назад я ещё сомневался в том, что тебя надо грохнуть, то теперь я окончательно убедился, что ты полудурок, и твоё место на кладбище.
– Да, ты прав, – тихо произнёс Андрей и прибавил ходу. – И ещё, пока не забыл. Я отдал двести тысяч на хранение своему университетскому товарищу. Он должен отдать их мне или моему доверенному лицу… Он живёт на Пушкина, 80, квартира 24. Скажешь, что тебя отправил я. Пароль – «Андреевский флаг».
– Да ты чё – охренел что ли? Какие деньги?
– Отдашь их Гадаткину. Он знает, как ими распорядиться. Сможешь?
– Обрыбишься!
Спасский встал как вкопанный:
– Тогда кончай меня здесь или до воды тащи волоком.
Бакаев повалил Андрея на землю и приставил нож к горлу:
– Здесь так здесь. Одно движение – и каюк.
– Не надо. Если на теле останутся следы насилия, тебя вычислят. Дай мне слово, что исполнишь мои просьбы, и тогда я сам прыгну в воду.
– Хорошо, – быстро ответил Бакаев. – А теперь пошли.
– Верю в тебя, – ответил Андрей и, сгорбившись, направился к реке.
В лучах восходящего солнца Абакан был великолепен. Его воды не бурлят, не создают шума, хотя нельзя сказать, что они текут медленно. Если бы речка вдруг пересохла, то пейзаж кайбальского леса не утратил бы своей трогательной красоты, но глаза человека, забредшего в лесную глушь, всё равно бы чего-то искали.
– Сергей, я сам, – сказал Андрей и шагнул с обрыва в воду.
Бакаев бросился вслед за Спасским, вытащил его из воды и, схватив за волосы, заревел:
– Ты будешь жить! Хотел отмучиться? Не попрёт! Я буду мучиться, а ты больше будешь мучиться, потому что рядом такие, как я: нищие, тупые и сволочи! Ты ничего с этим не сделаешь, ничего не поправишь! Да, я выродок, но и ты от меня недалеко ушёл! Ты только сгусток зла во мне различил! Ты с чёрным во мне готов бороться, а о пяти процентах белого и слышать не хочешь! Это страшнее страшного, когда вот так вот! Ты во мне пять процентов поддержи, позавидуй им. Может быть, мои пять твоих восьмидесяти стоят!
Андрей вырвался из рук деревенского и бросился в воду.
– Не уйдёшь! – крикнул Бакаев и выволок Спасского на берег. – Плохо ли, хорошо ли движемся – ещё непонятно, но с тобой один чёрт куда-то движемся! Я тебя лишаю права на смерть! Так что терпи!
– Нет, я не хочу, не могу больше! Пусти меня! – крикнул Андрей и забился в истерике.
– Тихо, тихо, тихо. Спокойно, малый. Я, когда в тюрьме срок мотал, тоже хотел себя порешить, а потом, значит, передумал. Если спросишь: «почему», не отвечу. Ненавижу ведь тебя, а и надеюсь тоже. Как так может быть?.. Объясни.
– Не знаю, – сказал Андрей и высвободился из расслабленных рук Бакаева
– Это с непривычки всё, с непривычки, – задумчиво произнёс деревенский. – Знаешь, чё? Грохнуть я тебя всегда успею. Давно я за тобой следил, а теперь пуще прежнего буду, никому в обиду не дам.
– А почему именно за мной? Почему?
– Непонятный ты. Вот скажи мне, кто из нас хотел Спасского убить?.. Ты или я?
– Думаю, что оба.
– А кто же его тогда спас?
– Ты спас, – ответил Андрей.
– Я Серёга, а ты – Спас. Так кто же из нас его спас?
– Ты… Я-то его в конце убить хотел, – сказал Андрей.
– Чем это он тебе насолил? – спросил Бакаев.
– А тебе чем?
– Постой, постой, – запутался Бакаев. – Кто сейчас рядом со мной сидит?
– Я, – произнёс Андрей. – А рядом со мной?
– Я, – ответил Бакаев. – Так кто же из нас настоящий?
Спасский задумчиво посмотрел на своего собеседника, и одолела его такая тоска, которая для нашего человека со счастьем под ручку ходит; от которой все боли земли в душу проникают, но и радости тоже. Такая вселенская тоска много больше быстротечного счастья. Она сродни покою, которого ищет человек, не поспевающий сегодня за временем, так как сложно втиснуться в рамки того, что завтра раздвинет пределы и передвинет границы. Тоска отдышаться даёт, переосмыслить пройденное и задуматься о том, кто ты есть и кем мог бы стать, если бы почаще смотрел внутрь себя. Спасский заглянул в тайники своей души и увидел, что там темно и сыро. Он бесконечно обрадовался, что в нём самом есть ещё неосвещённые уголки, открывать которые будет так интересно, как это произошло сегодня, когда Сергей прожектором обыкновенных слов прошёлся по тайнику и на мгновение вырвал у мрака истину, которую Андрей так хотел отыскать.
– Как же возлюбить ближнего, как самого себя? – думал он прежде, а теперь знал точно: «Не борись с плохим, а наслаждайся хорошим в человеке. Этому учиться надо, и я научусь, пусть даже для постижения сего пройдут десятилетия… Да… удивительна Россия в начале нового тысячелетия. Она такая же, как и раньше. От всякого жизненного пирога она вперёд всех вкусить успевала, а потом давилась своими же собственными детьми. Ей для поиска идеи, которая может объединить народы, никого и ничего не жалко. Строгая у нас Матушка до жестокости, а и любим её, потому что с кривичей да радимичей другой не знали. Нет, не бросала она нас и не бросит никогда. Это мы её разоряли, делили, покидали, а она плакала и наказывала нас, потому что каждому нашему порыву, каждой мысли, каждой идее беззаветно вверялась. Такая вот она у нас… Смотрим мы на тебя сегодня и видим, что ты растерялась. И похуже, конечно, времена были. Только сегодня перепуталось всё. В разладе с собой, с людьми, со всем миром я! Вот оно моё страшное, загадочное, жестокое, великое и чудесное время моё! По себе о тебе сужу. По Гадаткину, по Забелину, по Митьке, по Наташе, по отцу своему. Я ведь полагал, что знаю, как разрешить твои проблемы. Марш-броском хотел. Сарынь на кичку. Окриком богатырским. Удалью молодецкой. Посвистом соловьиным. И завяз, Господи ты Боже, – не выбраться… Ответь мне: наступят ли дни, когда самое страшное зло и самое великое добро разделятся в сердце русского человека? Ведь живёт он, а одно от другого отличить не может. Помогает он одним бескорыстно, а других обкрадывает, унижает и обижает. На всякое дело у него своя правда и своё оправдание.
– Андрей, очнись.
– Да, да, конечно… Что с тобой?
– Плачу я. Не видишь – плачу. Я сейчас мир спасти могу, а завтра забуду о том, о чём плакал… И воровать буду. Не поверишь, но если бы меня кто обокрал, я бы не обиделся. Даже выпил бы с таким человеком.
– А как же я? Ты ведь меня за то же самое…
– Не сравнивай. Ты меня в открытую перед всей деревней унизил, – перебил Сергей.
– Я не хотел. Честно – не хотел.
– А ты думай теперь, для того тебе и голова дана.
– Не понимаю. Я так много думаю, не перестаю размышлять… Научи меня.
– Странно… Не знаю, как себе помочь, а как тебе – знаю. Ты всё усложняешь, поэтому и надорвался. Представь себе автобан, и ты как будто едешь по нему. Сколько, думаешь, в машине у тебя человек?
– Я один.
– Нет, пусть твоя «тойота» лучше будет переполнена до отказа.
– Хорошо… Дальше, – сказал Андрей.
– С тобой едут самые разные люди. Но кто за рулём?
– Я, – твёрдо ответил Андрей.
– Правильно. А куда едешь?
– Домой.
– Даже и не сомневаюсь, – улыбнувшись, произнёс Сергей. – Домой так домой. То есть конечный пункт тебе известен, а вот местность, по которой в данный момент несёшься, тебе, к сожалению, не знакома. Дорога-то вся раздолбана!
– Ты же сказал – автобан.
– И где ты у нас автобаны видел? Нет их у нас, – зло произнёс Сергей.
– Не стану спорить… Согласен.
– А те, кто рядом с тобой, знают эти гиблые места, все ямы и ухабы. Но и среди них разброс мнений. Один кричит – прямо, другой – налево, третий – прямо, четвёртый – сдавай назад, пятый – прибавь скорость, шестой – сбрось обороты. Они гомонят, а ты не нервничай, не переживай и не волнуйся, а едь себе и едь, прислушиваясь ко всем и ни к кому конкретно. Никуда они не денутся, потому что на улице зима лютая, а у тебя в машине как никак тепло… И баранку кто крутит?
– Я, – с гордостью ответил Андрей.
– И тупиков не бойся, для них у тебя на коробке передач задняя скорость имеется. Им хорошо и весело, поэтому им хочется немного тебя пораздражать, поплутать самую малость, поколесить маленько, так как ты и твоя машина им по душе, бесспорно.
– А если бензин кончится?
– Ты это брось! – с недовольством произнёс Сергей. – Ты полный бак заправил, так как с самого начала был в курсе, что дорога дальняя, а контингент в салоне – бредовый.
– Верно, – согласился Андрей.
– Путают они тебя, злятся, а ты не забывай, что не они тебя, а ты их везёшь. Где надави на них, приструни, а где и прислушайся к их советам. Ты дальнозоркий, а они близорукие. Ты видишь конечную цель, а они чуть дальше носа. Справитесь!
– А у меня карта есть?
– Конечно, есть, но резону с неё никакого. Порви её, потому что каждый год вырубаются леса, появляются новые болота, размываются дороги. Климат – и тот меняется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































