Текст книги "Каратели"
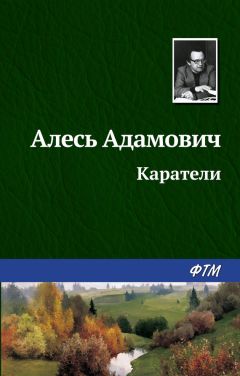
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Вот тут Дирлевангер разозлился. Снова постучал по снаряду, и тяжелое железо снова не отозвалось.
– Говорите спасибо этим вашим партизанам!
И тут уж совсем вышел из себя! На кого разгневался, кому и зачем объясняет, будто оправдывается? Да еще по-ихнему старался сказать, мучительно собирая из всех уголков памяти русские слова! И все из-за этого толсторожего Иуды!..
– Господин офицер, госпо… – закричал мужчина, увидев, что главный немец собирается уходить. Заревел на руках у него пацан, в ужасе таращась на немцев, пополз на плечо, хочет за спину спрятаться, и дядька голым пацаньим задишком, как тараном, налетел на немецкого офицера, пробиваясь к Дирлевангеру. Его отшвырнули назад.
– Я есть ошибка! – закричал дядька из Кировского СД, ломая язык на немецкий лад.
Муравьев смотрит и слушает все, что происходит, и все происходящее как-то окрашено его мыслью о будущих делах и поступках, которыми он все исправит, все, все искупит!.. Почему только будущих? Он и сейчас может кое-что сделать, вот хотя бы этого осведомителя до конца и перед всеми разоблачить. Чтобы услышала и высокая женщина, которая ни на кого не смотрит, прижимает к себе девочку и все говорит, все разговаривает с ней: «Мама с тобой, мама с тобой, мама будет все время с тобой, мама с тобой, с тобой, с тобой!..»
– Здесь говори! – мстительно, зло приказал Муравьев.
– Тут нельзя… там, я там! – все пытается прорваться дядька.
– Здесь, тебе говорят!
– Я работал… Я ходил в Кировск… Мне не дали взять, дома у меня спрятан документ, я могу показать… Каждую неделю докладывал…
– Неправда, теточки! – Это закричала жена его, вертя шеей. – Не верьте, неправда!
А сама с детьми все равно поближе к мужу, к воротам, к спасению, а ее толкут прикладами, отшвыривают солдаты.
– Мамочка, просися и ты! Мамочка, просися и ты! – детский крик на руках у той высокой женщины. – Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскоквать, глазки будут лопаться, выскоквать!..
Муравьеву почудилось, что старый гаубичный снаряд, лежащий на стуле – черная от грязи свинья! – дышит, надувается, что вот сейчас рванет, не выдержит и все разнесет, всех поднимет к небу! Невольно поспешил к выходу, следом за Дирлевангером. А солдаты уже взялись выносить снаряд, со стуком сняли его на глиняный ток и покатили, подталкивая сапогами. А за спиной у них, у Муравьева, в нем – все тот же одинокий женский голос, и его не заглушает, а как бы поднимает и поднимает к черному небу общий предсмертный гул и стон:
– Не бойся, деточка, мамка с тобой! С тобой я, моя слезинка! С тобой! Люди все здесь, не бойся! Люди все здесь, все!
Дирлевангер вдруг повернулся к Муравьеву, посмотрел на него внимательно, усмехнулся широким своим ртом и приказал, чтобы мужчину из СД поместили с полицейскими семьями.
– Вэн эс им бессер гефельт дорт цу бренен![9]9
Если ему там больше нравится гореть! (нем.)
[Закрыть]
Дядька все выдирался из ворот, уже полуприкрытых, его выпустили – с одним ребенком на руках. И десяток крепких солдатских рук, тел навалилось на рывками сходящиеся створы ворот. Дядька из СД еще пытался объяснить, что у него осталась там жена и еще дети, бросился к Муравьеву:
– Господин немец, господин немец! У меня документ, я могу показать…
– Уходи, гад, пока не поздно! Вон туда его, в тот дом. Да тащите его!..
* * *
Уже прозвучал над тобой голос, гиперборей! Прозвучал и навсегда останется – детский: «Вочки наши будуть выскоквать!» Что после этого голоса все слова, которые ты будешь говорить, – себе или другим? Что?!
* * *
Еще напирали десятки солдатских рук на ворота, искали, чем их укрепить, а уже два воза соломы – одновременно из-за двух углов – въехали на площадку перед гумном. С бронетранспортера снимают канистры. И тут что-то случилось – к возу, что подъехал справа, побежали солдаты.
Дирлевангер стоит возле машины, а водитель Фюрер щеточкой смахивает с его рукавов, спины пепел, сажу, опасливо тянется к фуражке, но тут штурмбанфюрер сердито оттолкнул руку водителя и тоже стал смотреть, что там за беспорядок происходит.
Пустяк, пришлось застрелить подводчика, проявил строптивость! Уже сваливают, к стенам укладывают солому, завалили и тело подводчика, а гауптшарфюрер, доложив о происшествии, толково и неторопливо продолжает командовать операцией.
Для всех, может быть, и пустяк, а для Отто Данке, солдата и крестьянина Отто Данке, то, что произошло, едва ли не катастрофа! Как этот бандит, как он, будто клещ, вцепился в ремень Оттовой винтовки, как не отпускал и все что-то кричал, какое-то одно слово: Ludzi! Ludzi! И все были свидетелями беспомощности Отто, видели старческое бессильное брыкание то правой, то левой ногой в попытке оттолкнуть взбесившегося подводчика, забрать у него свое оружие. Сам штурмбанфюрер мог увидеть! Пока не подбежали и не выстрелили, бандит напирал с выкатившимися глазами на Отто, не выпуская его винтовки, и повторял это свое слово… А они ведь два часа были вместе, и ничего такого за ним Отто не замечал. Вместе собирали и грузили, укладывали на телеги то, что может пригодиться в большом немецком хозяйстве, Отто даже помогал поднять мешок, если тяжелый, или железную борону. И спрашивал, как это называется, как это? Показывал пальцем и глазами спрашивал, а советский крестьянин все называл по-своему, чудно так: «Chlep», «Borona», «Korofa»… А вот эта вещь, которую он выкрикивал: «Ludzi, ludzi», не попадалась на глаза – Отто помнит, что такого слова в их разговоре не встретилось, не было. Почему такое несчастье должно было именно с Отто Данке случиться, почему? Вон стоит с автоматом и ухмыляется, подмигивает из-под каски Герман Хехтль, у него, с ним ничего подобного никогда не приключится, хотя он жулик, бездельник городской, каких среди немцев немало выросло после той войны, в голодные годы. Когда офицеры не смотрят в его сторону, молокосос Герман, опустив автомат, вскидывает над головой, как молящийся иудей, обе руки, изображая наивысшую скорбь и печаль. Хоронит уже Отто Данке, его доброе имя солдата и немца. Но какую черную душу нужно иметь, чтобы так обмануть доверие, надругаться над немецкой добротой! Правду говорят, что все они здесь бандиты, грязные и неблагодарные существа, только похожие на людей. Вот и шарфюрер Белый, а второй даже гауптшарфюрер был, в мундирах немецких – за одно слово постреляли друг друга. Все время жди от них чего-нибудь. Скорее бы, и правда, была везде Германия, настоящая, только немецкая! Так с ним хорошо работали, разговаривали, помогал ему – и вдруг как взбесился! Вцепился, как зверь: Ludzi! Ludzi! Сколько помнит себя Отто Данке, судьба с ним обходилась, как мачеха. Как соседи с Германией всегда обходились. Лежит теперь под соломой у стены, ему что, лежит себе! А Отто думай, как и что ему скажут, когда батальон вернется в казармы. Лишится всякого уважения у гауптшарфюрера, а могут еще и поощрительной посылки в Германию лишить. А уж как этот жулик-молокосос будет издеваться! Закинув вырванную из рук бандита винтовку за спину, Отто захватывал руками столько соломы, что приходилось придерживать и подбородком, и животом, и коленями, носил и укладывал вдоль стены, таскал и старательно укутывал стену сарая. Что-то очень знакомое, домашнее в этих действиях: бери скользким пластом улежавшуюся солому и прикладывай к стене, как пластырь! Это у других все сразу было, а Отто Данке, пока стал хозяином хороших построек для скота, вынужден был и вот так действовать в морозные зимы. А ведь бог не обидел Отто ни умом, ни трудолюбием, но ему все не везло, пока не везло в Германии. Радио – вот что помогло Отто понять, кто повинен во всех его и Германии бедах. Сначала ему не очень нравился голос фюрера: слишком громко кричал и, главное, всех поминал, за всех переживал, а крестьянина будто и нет в Германии. Рабочие у них – «новое дворянство», студенты – «молодость Германии», даже женщины – что-то такое! Но какая может быть сытая и здоровая Германия без уважения к бауэру. Спохватились и уже не забывали больше: и «кровь», и «почву», и то же «дворянство» – все, все теперь крестьянину! И в газетах, и по радио, и специальные агитаторы на велосипедах по селам разъезжали, со стягами и музыкой. А все несчастья и обиды оттого, что Германия всех и всегда спасала, дарила культуру и машины, а русским даже мудрых царей и цариц, а взамен – ничего, кроме зависти, неприязни, постоянной неблагодарности! Взять тех же поляков! Разве не Германия помогла им стать государством, а чем отблагодарили? Отто сам проходил через Польшу, когда германские войска отступали из России, и знает, какие они, поляки. Вот их да чехов фюрер и наказал первыми. Или все эти русские: сейчас воют в сарае, жутко и слышать и видеть такое, но что было бы, если бы фюрер их не опередил и они ворвались в Германию? Если уж немцы вытворяют бог знает что – большевики вынудили их забыть свою доброту! – то чего можно ждать от азиатов?
Страшно представить, что ждало бы Германию, если бы не фюрер!
Солому уложил у стены ровным валиком, где надо взбил, распушил хорошенько. И особенно на том месте, где лежит этот бандит. Но кто на это обратит внимание? Кто и когда ценил честность и добросовестность немца? Вот когда что-то не так у тебя, без вины виноват, все заметят, а потом, в другое время в твою сторону и не глянут. Но отчего беды, неудачи всегда липнут именно к Отто Данке? Почему легко жить бессовестным, таким вот, как Герман Хехтль? Скалит зубы, кривляется, свинячая собака! А Отто не до того, ему бы как-то совладать с дрожащими руками, и губы, щеки вдруг стянуло, стали как чужие. Скорее бы уже, ну что они так кричат, воют? Скорее бы всему конец! Лицо перекашивается, одеревенело, и эти руки еще – сейчас все увидят, заметят, вот сейчас снова будут смотреть на бедного Отто, на неудачника Отто!..
* * *
Из будущих исследований, материалов о гипербореях:
«Излюбленный и самый неотразимый их аргумент: «Мы предупреждали!» – после чего гипербореи считают себя вправе делать с другими все, что подскажут злоба или месть, властолюбие или корыстолюбие. Но самый главный их подсказчик – обида. Так мучительно, невыносимо перед всеми и всегда быть правыми! И потому они постоянно и заранее обижены на тех, кого им надо убить, замучить, обобрать. Всегда помнят лишь собственные убытки и кто, когда причинил зло или неудобство им. Но сразу и навсегда забывают зло, которое они причиняли другим. Они прямо-таки потеют справедливостью, правотой своей перед всеми и во все века!
«Мы предупреждали оппозицию!..» «Мы предупреждали вьетнамцев, пусть пеняют на себя!..»
«Как они могли, неужели это правда, то, что вы рассказываете о Хатыни?» – нет, это уже не немец спрашивает, верит и не верит, а турецкий журналист. В ту минуту он совершенно искренне не помнил, забыл о такой же резне в армянских селах еще в 1915 году. Как объяснить эту способность людей, народов помнить одно и не помнить другое? И возможность быть человеком и гипербореем одновременно. Или – сегодня человеком, людьми, а завтра уже гипербореем, гиперборейцами!..»
* * *
Уже перестал бить последний пулемет, уже затихло гумно, совсем затихло, и хорошо слышны стали жадные, жирные всплески пламени, черный треск и чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И тут вдруг медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Видно, сорвали сумасшедшей стрельбой все запоры-завалы, потому что давно никто уже не бился, не напирал изнутри и никто из ворот не вышел, не выбежал. Каратели, вначале насторожившиеся, когда поняли это и поверили в полный порядок и тишину за воротами и стенами, начали постепенно отступать подальше от огня и приближаться к школе. Грязно-желтый дым все гуще наливался жирной смолью, тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров.
И тут высокий «иностранец» в темной шинели, у которой полы по-бабьи подняты к поясу, заложены за ремень, вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящий через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало, без нужды, просто от полноты душевной. А если иметь в виду присутствие штурмбанфюрера – то и с вызовом, нарушая порядок. Отгрохотал и осматривает свой пулемет, внимательно и неторопливо, словно он тут один и он единственный знает, что надо делать, как поступать. Все невольно переводили взгляд с него и на штурмбанфюрера – что-то произойдет сейчас! – и этим как бы связывали, связали их, Тупигу и Дирлевангера. Полицай наконец повернулся ко всем, и, наверно, ему показалось, что был, а он не расслышал приказ какой-то. Все глаза показывали ему на штурмбанфюрера, и Тупига прямиком пошагал к Дирлевангеру. Подошел и стал перед ним и даже ухо полуоторвал от плеча, полувыпрямил скособоченную шею, отчего ростом стал выше штурмбанфюрера: «Я здесь, раз ты звал зачем-то. Если для того, чтобы сказать спасибо, данке – что ж! Но от вас дождешься!..»
Оскар Дирлевангер в упор рассматривал жилистого высокого «иностранца» с косо висящим на груди русским пулеметом, явившегося к нему – не за поощрением ли? И не просит, а как бы требует чего-то – такие у него глаза. Да он что, на самом деле жить расхотел?
Тупига спокоен: прятать ему от Доливана нечего, весь он здесь со своим пулеметом! Пусть сачки шарахаются от этого немца, а Тупига ничего не просит, но и не боится никого. Если есть тут кто не сачок, не ловчила-бездельник, а, наоборот, мастер в своем деле, так это они двое, и никто больше. И Доливан, если не дурак, обязан это понимать. И понимает. Потому и усмехается и даже как бы подмигивает Тупиге. Пусть скажет слово, намекнет, и Тупига с удовольствием – одной очередью, одним разворотом! – повяжет и снопиками уложит этих сачков и дармоедов, что сгрудились, топчутся возле Доливана. Впрочем, и сам немец этот немного с придурью, и на него еще палка нужна: какую-то жидовку с собой таскает!..
Оскара Дирлевангера передернуло так, что высокие, острые колени чокнулись друг о дружку – как только не зазвенели! Раздраженно глянул на Муравьева: «Что здесь происходит?» Муравьев сделал жест, как муху отогнал:
– Уходи, кретин!
Тупига пожал плечами и пошагал. Неторопливо уходил от существа, которое никак не могло погасить в своем сознании картинку: не спеша, с растяжкой кладет руку на кобуру, вытаскивает тяжелый «вальтер», поднимает на уровень лица, глаз «иностранца», дожидается, пока спокойная уверенность сменится удивлением, ужасом, и нажимает на спусковой крючок…
Только здесь, теперь Муравьев решился доложить штурмбанфюреру о непонятной и неприятной истории: «иностранец» шарфюрер Белый стрелял в унтершарфюрера Мельниченко, унтершарфюрер тяжело ранен, шарфюрер убит. К его удивлению Дирлевангер новость принял совершенно спокойно.
– Ин Могилев! Алее вирд зих ин Могилев клэрен![10]10
В Могилеве! Все будет в Могилеве! (нем.)
[Закрыть]
Сказал это и распорядился выстроить две шеренги, коридор – от школы и до пылающего гумна. Онемевшее гумно ревело по всей длине, в нем и над ним бушевал смолисто-черный вихрь, все разрастаясь, забирая и то небо, которое еще оставалось открытым. Обсыпаемые сажей, пеплом существа в немецких мундирах спешили, вытягивались в две шеренги – одна напротив другой. Зачем и что будет происходить, что надо делать дальше, никто не знал. Дирлевангер же мрачно стоял у своей машины и молчал. Раздражение, которое в нем заклокотало, когда «иностранец» подошел и тупо-нагло стоял перед ним, уже оседало, но круги пошли далеко, привычно захватывая и Люблин, и партайгеноссе Фридриха, и Берлин… Там у них отношение к Дирлевангеру хорошо если такое же, как ко всем командирам таких, подобных команд. А то и хуже, чем к другим. Другие «чистые», а у него «сброд»! Некоторые умники вообще считают функции подобных формирований скоротечными – пока удастся усмирить тылы. И не понимают, что тогда-то настоящая работа и развернется, и таких команд потребуется сотни и сотни. Если вы, конечно, не собираетесь всю немецкую армию превратить в «айнзатцкомандо»! Пренебрежительное отношение к любым и всяким особым командам, ясное дело, подогревается соперничеством и ревностью со стороны крематориев-стационаров. А вдруг «передвижные крематории», вроде дирлевангеровского, продемонстрируют и свою дешевизну, и большее соответствие целям и планам окончательного урегулирования. Вдруг да сделаются из подсобляющих основными! (Именно из лагерных канцелярий вылетают самые кусучие бумаги-ищейки и преследуют, преследуют Дирлевангера!) И конечно же демагогически ссылаются на предупреждения, указания самого фюрера: отныне и во веки веков на этих территориях оружие будут носить только и исключительно немцы! Но для того чтобы правило стало нормой, раньше нужно отнять это самое оружие – вместе с кровью! – у всех этих русских, белорусов, украинцев и прочих, а кое-кому, наоборот, вручить. Что и делается. А куда денешься, когда такая обстановка? Повторять общие формулы, вместо того чтобы добывать для фюрера новые факты, – чья же это обязанность, если не практиков? – конечно, легче и приятнее. Всегда будешь прав и будешь слыть надежным национал-социалистом. Боитесь, что такие формирования выйдут из-под немецкого контроля? Но только не у Дирлевангера. Все дело в руководстве, в руководителях! Не вырвутся из-под руки Оскара Дирлевангера – столько раз убеждался, а надо, так и продемонстрировать мог бы…
А тем временем в четких действиях команды произошел явный сбой. Слишком долго не подавались и не передавались необходимые распоряжения. Молчал мрачно Дирлевангер, молчали выжидательно и фюреры чином поменьше. Шеренги, образовавшие коридор от здания школы к пожираемому пламенем гумну, томились бездельем. И от жары, от вони. Крыша, стены гумна уже обрушились, догорают, но пламя не только не спало, а все больше ярится, выбрасывая с оглушительным сковородным треском-скворчанием черные клубы дыма и удушающей вони. Те, кому выпало стоять ближе к гумну, корчатся от тошноты, уже рвет-выворачивает нескольких немцев и «иностранцев», и почти все они вытирают рты, губы, сплевывают – если не им, то их желудкам, нутру уже невыносимо это пиршество.
Из школы, чуть не падая, выбежал борковский полицай, а следом появился разгоряченный немец-конвоир. Кто-то, значит, распорядился. Но тот, кто это сделал, дальнейших распоряжений в присутствии штурмбанфюрера делать, видно, не решался. И конвоир и полицай не знали, что делать дальше, а на них сразу сосредоточилось общее внимание. Полицай с непониманием и ужасом смотрел на кого-то поджидающие шеренги, на клокочущее в конце живого коридора страшное огнище.
А Дирлевангер, казалось, не замечал, что все ждут его слова. Да, да, все дело в руководителях, в руководстве! Вся система в его батальоне, наполовину состоящем из чужестранцев, на то и направлена, чтобы твердо, уверенно понуждать их делать то, что они, может быть, делать и не собирались никогда. Час, минуту назад не собирались. А вот еще этих убьешь или готов лечь в яму сам? Столько раз не ложился, а тут уже готов собой заплатить за чужую жизнь! Чужой платить за свою – это как-то легче и привычнее, не правда ли? Ну, а свой дом, если бы приказал Дирлевангер, поджег бы? А если в доме кто-то есть? Смотрят, прильнули к окнам, а их муж-отец идет с канистрой, ноги заплетаются, но идет, идет их муж, идет их отец! Или это уже слишком, фантазия невозможная? Случая такого еще не было в практике батальона. Но это совсем не значит, что он невозможен и его не будет – такого поучительного, интересного случая. Зачем же тогда батальон называется экспериментальным? Случается, все случается! У самих у этих бандитов бывает, когда и жизнью собственных детей платят!.. Как тогда, у лесника на хуторе… Семеро детей поставили, подровняли всех по росту и росточку у стенки: ну, отец-мать, говорите, кто из деревни служит у бандитов проводником, кто водит их мимо немецких постов к железной дороге? И сколько раз ты сам водил? Жена до третьего выстрела тоже молчала, только вскрикивала тонко после каждого, а дальше не выдержала, хватала мужа за колени, за ноги, умоляла сделать так, чтобы хоть остальных, самых маленьких, не убили, а он стоит как истукан и только воздух заглатывает, давится… Вот тогда и подумалось: ну, а вы, вы в своих собственных стрелять будете? Смогу я, Дирлевангер, заставить вас? Как кто-то – того лесника. Если не кто-то, так что-то. Ну, а что сильнее и убедительнее, чем страх за собственную жизнь? Не вообще страх, а если сделать так, что у тебя ничего не осталось – ни друзей, ни родни, ни родины, только эта самая жизнь. Так уж устроены люди, что ценится она особенно тогда, когда ничего уже не стоит. Когда все остальное у них уже отнято, навсегда. Держаться им уже не за что, так хотя бы за жизнь! Даже скучно с ними, с такими. Ну разве проймешь их какими-то борковскими полицаями? Тут не такой нужен зигзаг. Ну ничего, я вам еще подберу вариант, долго не забудете!
Дирлевангер все молчал, не приказывал, а немец-солдат, который вывел из школы полицая, как бы поддаваясь требовательному ожиданию шеренг, зову живого коридора, уводящего к пылающему костру из трехсот человеческих тел, стал тихонько подталкивать полицая в ту сторону. Откуда-то вынырнул Тупига, подбежал и сорвал с полицая нарукавную повязку. И тоже подтолкнул его туда же. Испуг и беспомощность на круглом, каком-то бабьем лице недавнего полицая сразу возбудили презрительно-враждебное к нему чувство и немецкой и «иностранной» шеренг – жестокое и веселое чувство. А он еще спросил, громко и нелепо:
– Это куды! Мне туды?.. Што вы, што гэта вы, людцы!
– Ага, туды-сюды! – передразнил его Барчке, остро ненавидя весь свет из-за своей распухшей физиономии, и особенно своих полицейских ненавидя, и хотел ударить борковского полицая кулаком по шее. Неловко, плохо достал по причине своего малого роста и трусливой вертлявости полицая. Но это действие словно притянуло к жертве других. Набежал немец-конвоир, оттесняя полицаев коромыслами локтей и забирая, отнимая принадлежавшее ему, стал толкать, заталкивать борковца в живой коридор. Все нет распоряжений, что делать с человеком, который, точно заяц, забежал не туда, куда хотел, но уже с ним что-то делают, что-то веселое и страшное: подталкивают, проталкивают его туда, куда его распятые ужасом и непониманием глаза боятся смотреть. На бабьем лице полицая удивленная, извиняющаяся улыбка: «Вот видите, вот видите, меня затолкали сюда, я не виноват!..» А люди в шеренгах как бы поняли наконец, зачем, для какого дела их выстроили. Как кишка сама начинает проталкивать пищу, сжимаясь и подергиваясь, как только что-то попало вовнутрь, так и шеренги пришли в движение, судорожно задвигались, заработали. Немец или ненемец, поочередно или вместе подталкивают, зло или снисходительно бьют человека, которого протолкали к ним другие, с которого сорвали полицейскую повязку, а коль сорвали, то так и следует. Его подхватывают и пинают стволами винтовок и автоматов, пересылают дальше – чтобы все попробовали и всем хватило!
– Што вы?.. За што? Я ничога не знаю!..
Крик этот, дурацкий, бестолковый, всех и злит и веселит. Человека снова и снова отпихивают на частокол автоматных и винтовочных стволов и катят, катят – все ближе к ревущему огнищу. Тогда он упал, скорчился, поджал под себя ноги, накрыл затылок, голову руками и замер под ударами сапог и прикладов, и только слышно было словно из земли идущее, удивленное: О! О! О! Четверо, взяв его за руки-ноги, поволокли к огню. Сначала вяло и беспомощно висел и только снизу глядел все еще с неловкостью в глазах: он такой тяжелый, а они зачем-то его несут, натруживают себя! Но тут же, будто сейчас только понял, куда и зачем его тащат, резко распрямился, двое отлетели, но ног его не выпустили, удержались, и снова сжали его в мягкий ком, но он снова, как пружина, распрямился, выбросил ноги. Подбежали другие, чтобы помочь – не ему, а тем, четверым, пламя выло уже совсем рядом, обжигало, мешало работать, и тут он все-таки вырвался и пополз, пополз, но его схватили за ноги и как лягушку поволокли туда, где скворчит-стреляет пламя, угли. Кто-то из шеренги прикладом ударил в голову, и он перестал пальцами цепляться, рвать траву…
А из школы уже второго вывели. И теперь все происходило по-другому, тверже, увереннее.
– Тупига! Где Тупига? – крикнул Барчке. Из-за глянцевых распухших щек не видит, что Тупига рядышком стоит. Тупига подошел к полицаю и уже демонстративно, ритуально рванул с него повязку. Но она лишь растянулась и осталась на рукаве. Они оба стали снимать, стаскивать ее – борковский полицай помогал Тупиге.
– Забери у него и мундир! – орет-разрывается Барчке.
Сняли и немецкий френч.
– Ну, сачок! – сказал Тупига. – Вот ты и попался! Пошли давай!
Схватился за ствол и за вытертый до лакового блеска приклад своего пулемета и, как граблями валок сена, погнал, попер борковского дядьку перед собой – по живому коридору. И обе шеренги снова помогали им бежать. А навстречу жгло, страшно и до тошноты сладко воняло. Там, где жарища оттеснила, отогнала шеренги, где помогать было уже некому, эти двое остановились – борковский полицай и могилевский. Пулемет уже мешал могилевскому, а борковскому помогал ужас, и борковский осилил Тупигу. Рванулся в сторону – бежать. До этого могло даже казаться, что здесь все, включая и полицейского дядьку, заняты одним делом, выполняют что-то одно. Оказалось, что нет: один хочет сжечь другого, а тому этого не хочется, потому что сжечь собираются именно его! За ним погнались еще несколько карателей, настигли, схватили. Немцы. А может, и австриец там был. Возможно, что это был словак. Или мадьяр. Или латыш. Или француз. Или кличевский полицай – белорус. Пятеро фашистов, пятеро гипербореев окружили полицая, а он за них хватается, как тонущий, обессиленно пытается перехватить удары, пинки, обрушившиеся на него со всех сторон. Ему заломили назад одну руку, вторую и повели, легко и быстро, нагибая голову до самых колен. От дикой боли плавного и послушного разогнали и пустили вперед – прямо в стонущее огнище! И даже искринка не взлетела – такой вязкий и черный был огонь.
Разгоряченные лица снова повернуты к школе. На лицах немецкой шеренги держится и не сходит: «Совершается, происходит то, что должно происходить, потому что иначе это не происходило бы в присутствии штурмбанфюрера и нижестоящих фюреров».
А на лицах местных и не местных «иностранцев» то вспыхивает, то гаснет и снова появляется: «Что происходит и почему? Эти борковские, ясное дело, связаны с бандитами. И вообще они… Да что думать, конечно же бандиты! А с нами – со мной! – такого произойти не может! Но из-за них, из-за таких и я должен бояться! По-ошел, морда, еще упирается! Раньше надо было, бандит сталинский!»
– Пошел, сачок, сколько тебя ждать будут! – устремился Тупига к новому полицаю, которого вытолкали из школы. – Особого приглашения ждешь?
Схватил и завернул за спину его руку, а немец с большущими очками на крохотном личике схватился за вторую руку и тоже завел ее назад, стоймя поставил, как рычаг дрезины. И побежали. Голова полицейского (с него уже и повязку не срывали) наклонена почти до колен, он видит лишь ноги свои, куда-то несущие его, спешащие, а шеей, волосами, кожей головы уже ощущает близкий жар. Только услышал, как вдруг страшно затрещали его волосы, а дикая боль в руках, лопатках на миг отступила, но ударила другая – в каждую клеточку тела! Тупига и немец как с разогнанной дрезины соскочили: с разбега пустили, свою жертву прямо в огненное жерло. А сами стукнулись друг о дружку, немец даже упал, и Тупига сразу показал ему и всем: я ни при чем, сам упал! Но немец ничего, улыбается, в шеренгах засмеялись. Тупига нашел в траве и подал немцу очки. А в этот миг в огнище взметнулась еще раз человеческая фигура, странно выросшая, с поднятыми руками, погасила смех и пропала. Но смех тут же вернулся, упрямо, назло всему: хмельная, не уходящая веселость одинаково окрашивала обе шеренги глаз, ртов, подбородков.
Когда десятого борковского полицая весело затащили, как кабана, закатили в жар, хотя этот упирался, отбивался больше всех, выл и кусался, Оскар Дирлевангер велел подозвать к нему того полицейского в шинели и с пулеметом, который старался заметнее всех.
– Тупига! Тупигу! – строго понеслось от Муравьева к Барчке, суетливо – от Барчке по шеренгам. И только Тупига не засуетился. Отдыхая на ходу, стирая сажу с пулемета, оглаживая его, как охотник шею умной, удачливой собаки, направился к Дирлевангеру. Тупиге в общем-то наплевать, что и как эти немцы, даже в офицерских фуражках, сейчас думают о нем. Он вовсе не для них старается, а потому, что в любом деле не выносит сачков. Развелось сачков – мочи нет!..
Снова они стояли друг напротив друга, одинаково худощекие, длинноногие, сажа, как бы уравнивая их, одинаково ложилась на помятую черную пилотку и на скошенную назад черную фуражку, на солдатские сапоги с широкими голенищами и на лаковые офицерские голенища, на эсэсовский плащ, которым адъютант прикрыл плечи Дирлевангера, и на идиотскую – в июньскую-то жару! – шинель Тупиги.
Штурмбанфюрер внимательно, даже с интересом разглядывал раба, а Тупига, наклонив голову, всматривался в глаза своего «Доливана», как курица в чашку с водой, где что-то непонятное, но живое плавает-копошится. Тупига все же уважительно сдерживал тяжелое дыхание, злое и веселое от недавней возни с борковскими сачками. Нет, пусть все видят, как выделил Тупигу сам Доливан! Интересно все-таки, чем наградить собирается? Что ж, дают – бери, а бьют – беги! Но и сдачи сумей дать!..
Оскар Дирлевангер разглядывал стоящего перед ним «иностранца» с пулеметом поперек груди. Нет, не в пулемете дело. Если раб есть раб, пулемет всего лишь инструмент. Как и любой другой. Не пулемет не понравился Дирлевангеру, а глаза, дерзкая уверенность раба, что он нравится немецкому офицеру, что он заслуживает одобрения, поощрения. Вот он как выглядит – раб, из которого не вышибли уверенность, что он может знать мысли, угадать поступки своего господина! Да он хуже, опаснее тех, кто уже сгорел!.. Достать пистолет и поднять на уровень этих глаз, и ждать, а потом выстрелить…
Тупига видел, как рука немца легла на кобуру: неужели «вальтера» не пожалеет?! Громко произнести: «Данке, господин штурмбанфюрер! Хайль Гитлер!» Тупига, если надо, сумеет отрапортовать не хуже этих куркулей-бандеровцев! С кобурой подарит или так? Не в кармане же носить…
Нет, у Дирлевангера этот день особенный: день рождения Паулины Херлингер, его добрейшей мутти! Она была очень верующая и пусть почивает спокойно: в этот день сын ее не убьет своей рукой даже мухи. Даже вот этого бунтовщика!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































