Текст книги "Каратели"
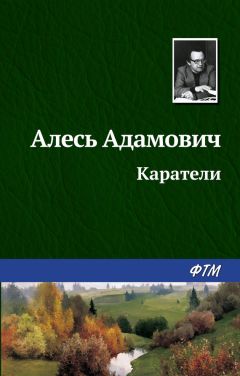
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
– Коба, пальчики оближешь, какую я тебе Мамлакат приготовил!
Потом лишь заметил, что почти все его «школьницы» – из этих. Себе он прямо на улице отлавливает (и говорят, пьет с каждой за здоровье Сталина: попробуй не выпей его сонный порошок!). Ну а мне, наверное, специально подбирал (может, даже на пару с Кагановичем). Приручали: а вдруг какая-нибудь «дщерь» приглянется вождю по-настоящему, задержится при нем надолго. Нашли чем приманивать! Пришлось и прощелыге Лазарю Моисеевичу сделать вид, что никакой дщери, как и брата, у него не было и он ею не пытался приманить вождя. Ничего противнее баб на свете нет, у всех у них одно на уме: забраться в душу поглубже. Заберется, а потом выскакивает как сумасшедшая: ах, не тот, ах, не такой, у меня другой идеал! Для миллионов ты вождь и учитель, а для нее ты просто хороший или дурной «характер». Это для них на первом месте. Что грузинка, что цыганка или русская – все они одинаковы. «Дщери», те вроде бы похитрее должны быть, но и их слишком пугало происходящее, руки-ноги отнимались. Ужас, слезы в глазах, а стола того с бериевскими фруктами, конфетами, винами как черта испугается, сидит на краешке стула или прижалась к стеночке, а тут дверь открывается и входит… товарищ Сталин! Так и не придет в себя за весь вечер, сколько ни разговаривай, ни улыбайся – вялый труп, противно, на боль только и отзывается. А одна отбивалась, даже царапала, дура: «Ты не Сталин, неправда! Рыжая вошь! Вы тут банда, одна банда!»
Что, джигиты, захотелось повторить сибирские грешки? Но уже с удобствами. Конфетами да фруктами заплатить тому чалдону? Стыдись, ты все-таки не мингрелская свинья! Испуганные школьницы Лаврентия ничуть не лучше того, что оплачивается Сталинскими премиями. У балерин, по крайней мере, без обмороков. Говорят, эта свинья Берия спаивает девочек, заставляя пить «за Товарища Сталина» – мастак!
Нет, а что-то все-таки есть в самом слове, в имени Сталина! Главное, чтобы ты знал, кто ты на самом деле. А иначе как бы сумел прищемить всех, да каких умников?! Даже приходит в голову: а жаль, что так рано ушел «лояльный» да «корректный». Мало, мало нам было отпущено времени. Моего времени. Нет, не сумел помереть вождем! С этим своим неблагодарным завещанием! «Грубый, жестокий товарищ Сталин»… А кто, как не Ильич попрекал того же товарища Сталина за либерализм и мягкотелость? За кисельную диктатуру. А какой обидчивый под конец стал, хитрить по-детски начал – туда-сюда кидался, даже Троцкий снова понадобился. Все не мог, не хотел поверить (до слез), что в руках у меня они – и он сам, и остальные, и революция. И что наступило мое время – спросить за все обиды и унижения. От[о]мстить. За все. Как они красовались друг перед дружкой! Со своими заслугами да языками, образованностью, талантами. Долго пришлось ждать своего часа, сколько нервов тратить, чтобы не сорваться раньше срока: месть – такое блюдо, которое лучше есть холодным.
Где теперь ваши громкие имена? Теперь имена ваши в моих руках. Как решу, так и звучать им.
А вот «Сталин» – что-то в слове этом, от меня самого не зависящее. Что-то такое есть. На Черчилле проверил – уж на что зубр, – действует. До смешного, до страшного, как тогда на панихиде по Максиму Горькому. Он в цветах на возвышении в центре зала, сердитые усы, руки торжественно сложены, и мои все мастера культуры при нем, как положено, почетный караул, весь в слезах. Вошел товарищ Сталин, разумеется, не ждали, глаза всех – ко мне, на меня. И вот тут я загадал: будут или не будут? Аплодировать. Никуда не денетесь, будете!.. Кто-то первый хлопнул испуганно, но все тут же присоединились, зааплодировали. Даже те, что в карауле в слезах застыли…
Нет, не увильнут и эти, как ни хочется Эренбургам с Маршаками увильнуть, не писать и не подписывать обращение-просьбу о переселении за Енисей, за Лену всех евреев. Подальше от гнева народного.
Ничего, как повиснут на Красной площади в белых халатах (именно в белых, убийцы в белых халатах!) да начнется в народе, чего следует ожидать, сами запроситесь – подальше!
Ста-лин… Ста-лин! Даже холодом проползает меж лопаток, когда никого нет рядом и вдруг начинаешь произносить, повторять это имя – как не свое. Что-то есть, гудит в нем, какой-то колокол. Есть, есть нечто такое!.. Из большой крови такое имя отливается. Из страха и народного поклонения. Кому-то, может, хотелось бы по-другому, а по-другому не бывает.
Так и не проснувшись окончательно, он снова начал погружаться в привычный полусон-полуявь. В этом состоянии слух его как у зверя – ловит все оттенки тишины и шорохов в комнатах, на просторной, опоясывающей дом веранде, над головой на втором этаже, во дворе под деревьями, у ограды. Надо встать и попить, надо, но где ключ от шкафчика с водой? И наган – куда он исчез? Выкрали!.. Вдруг ощутил, что провалился и тонет: ноги потеряли опору, тело погружается в теплую болотную тину, ноги ищут, ищут что-либо твердое и не находят! Как за соломинку, схватился за снова и снова возникающую догадку: сон это, сон, сейчас проверю! Погружусь с головой и тогда попробую вздохнуть. Если легко вдохнется, не захлебнусь, – значит, действительно сплю…
Осторожно, потом глубже, с облегчением, восторгом убедился – дышит, можно дышать! Но тут же ощутил, что с ним, спящим, что-то делают. Они здесь! Они уже здесь! Смяли охрану, сорвали запоры, вломились – они во дворе, на веранде, в доме. Так и знал: охрана к ним переметнулась, все они заодно и против! Назад нырнуть, туда, в темную теплую тину, где так безопасно дышится, но не пускают, схватили за ноги, за руки, держат – кого-то дожидаются, для него держат…
Когда враг будет в ста километрах от Москвы, мы вас, бездарных бюрократов, будем расстреливать!..
Топот ног на веранде, чей, чей это визгливый голос за окном? А, подлец, и ты здесь! Здесь он, это Троцкого голос, Льва Давидовича, значит, обманули, снова обманули. Живой и этот. Слетаются, все собрались, воронье! Тольвютиге вольфе…
Самого себя видит далеко внизу. (Вот так из-за Стены часто смотрел на площадь, чешуйчатую, как спина допотопного животного.) И собственной спиной ощущает твердую, неровную брусчатку: распластан, навзничь опрокинут, а над головой раскрашенные, в ромбиках каменные шары Василия Блаженного. Хохочет прямо в лицо, шут гороховый! Никогда церковью и не был. Шутовства ради и поставлен. Зря, зря не отдал его на метро проныре Кагановичу. Но у него, у этой пародии на храм, – ни одной мраморной плиты ни внутри, ни снаружи, нищий скоморох в колпаке с бубенчиками, готовый за грош сплясать-повеселить. Уцелел, сволочь, отсиделся придурком возле царственного, чинного Кремля, а теперь аж заходится, колышется от злорадного хохота. Под самой Стеной отсиделся, как шут при царе-батюшке, и теперь он со всеми заодно, орущими, набегающими, – купола раздуваются недобро, будто кобра, каменно стучат друг о дружку, как огромные бильярдные шары. Вот-вот на голову скатятся…
Не дошли руки до многих, а теперь все они, уцелевшие, твои враги. Отсиделись, дождались. Сбежали под Стену, набежали со всех сторон на площадь – сколько их, хохочущих злобно! Отталкивают друг дружку и лезут, лезут, таращась недобро-весело.
– Вот тебе, царь всея Руси! Всех времен, всех народов!
– Куда, куда ты братьев и отца моего девал, самозванец?
– Смотрите, смотрите, да у него лба нет, один нос и щетина!
– Вот он! А какого малевали! Урка – отмороженные глаза!
– Гришка Отрепьев! Оська-корявый!
– Просрал Россию, с Гитлером снюхался!
– Приперло, так заканючил: «Братья и сестры!..»
– Чего от него хотеть, всю жизнь кого-нибудь обкрадывал. Тащит у своих и у чужих! Самозванец! Дублер!
Все новые бегут-набегают со всех сторон, изо всех улиц. Даже из ворот, из-за Стены. И там прятались, под крылышком у подлеца Лаврентия. Повисли на каменном парапете, напирают на чугунную решетку Лобного места (а, вот где я лежу) – дождались своего часа, а я распластан принародно голый! Так и не надел мундира, черт бы побрал эту дуру Матрену. Куда она его запрятала? Радуются, беснуются, будто лжецаря схватили. Так ничего и не поняли. Да вы что, забыли, что против царя была революция? Разве он, даже истинный, может в России объявиться открыто? И разве в форме дело? Только антицарь вернет вам самих себя. Я вам Россию вернул, а вы не хотите замечать этого. Сами не знают, чего хотят. Всегда царя хотели и вечно бунтовали против. Все не по ним!..
Таращатся жадно, злорадствуют по-хамски, мстят за лакейство свое: добежали, дорвались – куда и приблизиться робели!
А Блаженному-скомороху и совсем удобно: как пацан на пожаре, он надо всеми, выше всех забрался. Даже кресты с куполов не сняли. А надо было головы! Шары-купола толкаются, стучат друг о дружку: всем так хочется видеть царя-вождя на Лобном месте, рассмотреть получше. Стучат… Стучат? Какие шары – это в дверь стучат. В дверь!
Вцепился в дистанционный запор, чтобы не открылась случайно дверь, чтобы помешать войти. Но понял, что уже вошли, что это сын. Да, это он, с ним так и осталось все неясным. Были, были дети и до него: один родился в Курейке, но там и остался, пропал с глаз, потом еще один сибирский, кажется, в Енисейске живет, взрослым его не видел, а Лков – сын от законной жены, к тому же грузинки. От такой покорной, набожно-преданной родился упрямец – все поперек воли отца. Еще ребенком убегал ночевать к Троцкому! Жаловался соседям, что отец у него «сумасшедший». Меня не так отец драл – я разве кому жаловался? Жаловался я?
Любимица одна – Светланка. Кровь аллилуевская, цыганская. Надина. Было в них, Аллилуевых, и возле них многое, чего порой так хотелось самому иметь – веселость, доверие, преданность друг другу. Мерзавцы! Они, это они настраивали Надю. Пистолет кто подарил? Братец подарил. А письмо, последнее, – не только ее мысли в нем.
Сын Василий на Аллилуевых не похож – охламон, грубиян, хотя и предан отцу слепо. Светланка же что-то ихнее взяла – это раздражает, прямо за волосы дернул бы, но за это же все, Надино, она тебе нужнее всех.
Ну а ты, постылый, настырный, чего пришел? Все что-то доказать пытаешься, всю жизнь чего-то хотел от отца. Учился по-дурному, женился по-дурному, что ж, твое дело. Жил чуть ли не в коммуналке, характер выдерживал. Но ненадолго хватило. Сопляк, стреляться вздумал! Взяли моду! Только изувечил себя. «Ага, не попал! Не умеешь, не берись!..» – аж заплакал, когда сказал ему это. Что, отцовских слез ждал? Ну, чего пришел снова, говори!
– Чем тебе снова не угодила моя Юля, жена?
– Твоя вдова? Одна другой стоит, что у тебя, что у этого охламона Васьки. Уже и русских баб вам не хватило. Подсунут вам сионисты, вы и счастливы. Вон и со Светланкой – не отбиться. Выросла дура, без мозгов!
– Ага, вот что у нас теперь!
– И теперь, и всегда. И надо наконец разобраться, не твоя ли благоверная в плен тебя, дурака, уговорила. Наследник! Как ты еще с Власовым не снюхался?
– Что еще?
– Улыбайся, улыбайтесь. Но я наконец разберусь, кто Наде письмо помогал сочинять. Завещания мне свои подбрасывают. Взяли моду. Как это ты еще не написал? Зато теперь все ходишь с челобитными.
– Прошу тебя, не трогай Юлю, совсем осиротишь девочку нашу. Хватит уже, насиделась в твоих лагерях.
– Жена офицера, сдавшегося в плен!
– Так ты ее за это?
– А чем она лучше других? Змея есть змея, а тюрьма есть тюрьма. Все должны быть равны перед законом. А то привыкли. И мои соратнички тоже.
– Перед законом!
– Да, и не удивляйся. Пора за все годы разобраться. А Гуле твоей лучше будет, чем с такой матерью. Она из твоей дочки сделает штучку. Уже и про Светланку мне сообщают: допускает антисоветские высказывания!
– И когда ты наезжаешься? Скоро самого себя засадишь. Да и так уже сидишь. Через окошечко кормят? Вот через это?..
– Ты для чего явился, изменник?
– Темное от щетины лицо, в истлевшей от грязи и пота красноармейской гимнастерке (поверх сибирский бушлат накинут), без ремня, рваные галифе сползают с тощего живота, босой… Глаза воспаленные, немигающие.
– Ну и чего тебе надо? Вижу, вижу, они подослали! Знаю, кто тебя подбивает.
– Никто меня не подсылал. Ты сам позвал, я слышал твой голос.
– Он голос мой услышал, как же. Я думал, придет сын, а явился вражина, не лучше тех. Да и чего ждать от изменника родины!
– Изменники те, кто нас отдал в плен.
– Что ж ты там не застрелился? Дома пофорсить мог, а как пришлось…
– Всю кадровую сдали в плен. Именно: сдали! Тухачевский да Уборевич, Гамарник такую армию подготовили. А ты выдал ее Гитлеру. Связанную по рукам и ногам – страхом перед твоими энкавэдэшниками и верой в твое всезнание. Мало, так еще хотел, чтобы сами себя постреляли. Чтобы некого было стыдиться? Да о ком я, о каком стыде?! Не тот ты человек… Слушай, я давно хотел про довоенное спросить, про расстрелянных командиров. Почему именно сорок тысяч?..
– А я хотел спросить: что ж ты не застрелился? Герой!
– Хороши вы тут, стратеги! Какой это умник аэродромы все сгрудил у границы, в пределах досягаемости? Даже бомбардировочную авиацию. Склады все тоже, прямо в руки, бери. Зато зэков, не поленился, – подальше на восток! Лагеря перемещал, значит, знал, что не на «чужой» будем воевать территории. Знал, что делал. Знал! А с войсками что сотворили? Безоружных отдали, красноармейцы сами по себе, техника сама по себе. Корпус гранаты на одном складе, рукоятка – на другом. Танки без бензина. Потому что своих боялся больше Гитлера. А недорасстрелянное командование – тебя больше, чем фашиста. И зачем старую границу растащили, все укрепления, хотя на новой еще не построили?..
– Ты чьи мемуары пересказываешь?
– А я вот что подумал: знал, знал ты, что делал! Только сейчас на ум пришло. Ты этого и хотел: чтобы вначале было хорошее кровопускание – уже от Гитлера. Чтобы забыли твою войну с народом. Война с Гитлером, мол, все перекроет, спишет. Специально подставился. Но не рассчитал. А иначе ничего не понятно. Только нарочно можно было так подставить армию, страну.
– Бред! Ты с чьего голоса поешь, подлец?
– Так или не так это, но кровь пускали на пару. Дублерская работа. Там – с Троцким на пару. Тут – с Гитлером на пару. Постой, их и в гражданскую, «спецов» – офицеров, было ровно сорок тысяч. Ты их уже под Царицыном начал топить целыми баржами (как потом крестьян в Северном море), но тебе с Ворошиловым помешали, не дали. Через двадцать лет все-таки сделал по-своему. Всех, кого Троцкий привлек и кого Ленин от тебя уберег, а заодно и новые кадры. А новых-то почему? Для цифры?..
– Знаю, не можешь простить, что не выменял тебя на какого-нибудь генерала или Паулюса.
– Вот за это спасибо. Если ты действительно отказался. Искренне говорю.
– Ты, может, и в плен сдался, чтобы судьбу их «разделить»? Этой блажи и у мамаши твоей хватало! Юродиво семя. Христосик лагерный!
– Знаю, знаю, что мой несчастный плен ничью судьбу не облегчил. Наоборот, ненависть к сыну ты на них перенес. На всех, кто оказался в плену. Или просто под оккупантом.
– А как я должен смотреть на предателей? Ишь, побежали! Ну, ну, скатертью дорога!
– Я давно убедился, что о каких-то вещах с отцом моим бесполезно говорить. Немцы, дурачье, обрадовались: сына Сталина держат в руках!.. Расчет на чувства, о которых человек по имени Сталин представления не имеет. «У меня нет плененного сына в Германии. А есть предатели». Ну да что об этом, я ведь правда был счастлив единственный раз там, когда понял, что обмен не состоится. «Там все мои сыны» – на большее лицемерие и товарищ Сталин не способен. Ну, да ладно, прости, что схамил. А когда подвели к проволоке – я уже знал зачем, – думал, ну, хоть так искуплю…
– Вот где Тифлисская духовная заговорила – во втором колене.
– Извини, я не о том хотел. Это уже говорено у нас, переговорено.
– О чем же?
– Почему у тебя глаза открыты?
– А какие должны быть? Не надейтесь, я еще живой!
– Они у тебя открытые, когда ты спишь. Ты же спишь?
– Не рассчитывайте, не просплю.
– Когда ни приду, они у тебя и во сне открытые.
– Ошибаетесь, дорогие мои, крепко ошибаетесь, если думаете, что, когда сплю, – это ваше время. Сон – вот моя тайная полиция, мой Фуше. Не обманет и не продаст. Надо, так и про самого «прокурора», Лаврентия, все вызнаю. Снов столько, сны такие, и мыслей от них столько, что мог бы труд написать, как по языкознанию. И помощнички, зануды академики, мне тут не нужны.
Во сне человек не солжет самому себе. Другим – да, а себе – только правду: как подумал, что чувствует – так оно и есть, можешь написать и в дело подшить. «Шел и денежку нашел», как пела когда-то Светланка, и если тут же, не хитря и не мучаясь, отдал, вернул чужую денежку – такой и есть, знай, что ты отдашь на самом деле. Или вдруг увидел, понял во сне, что не веришь человеку, боишься его, – не медли, прими меры. «Соратничек» приходит утром, в глаза заглядывает, думает, что все как было вчера, а его уже раскусили и только наблюдают: ну, ну, покажись, покрасуйся! Ах ты, гнида, двурушник, подлец! Стоит и не знает, что он уже труп. Сколько лет мог терпеть присутствие уродца Поскребышева, и вдруг этот сон. (Лаврентий, лиса, со своей стороны нору делал, рыл под моего секретаря, и думает, что я к его намекам наконец прислушался, а на самом деле – сон.) С огромным наганом, лысина как страшный кладбищенский череп, а мы все перед ним – дети, я и мои братики, сестрички, которые в нашей семье малыми умирали. Сбились в кучку от страха, друг за дружку прячемся.
Вот и сны у меня наследственные. Достались вместе с империей. Интересно, заметил кто-нибудь, что по уставу Петра Первого на звание Генералиссимуса претендовать имеет право только человек царской крови?
– А охранка – тоже по наследству?
– Кто, кто здесь?
Он спал. Спал с широко раскрытыми глазами: медленно медленно вращались белые, огромные, а по краю, по кругу загнанно бегал полузакатившийся зрачок, распятый ужасом.
Никто не знал, что он уже пятнадцать лет спит с раскрытыми глазами. И он сам не знал.
Он не знал этого сам, как не знал и того – а сказать ему кто бы осмелился? – что все последние годы-десятилетия люди, впервые к нему приближающиеся, дико пугались резкого запаха, исходящего от вождя. Нечистоплотный запах вдовца-старика, не пропадающий совсем даже после хорошей бани.
Вождю даже нравилось, что люди пугаются. Но что многих пугал их собственный нос, опасный провокатор, – об этом, конечно, не догадывался.
(О чем еще, о чем-то еще я хотел подумать, вспомнить?..) Все время помнил, знал еще об одной какой-то гадости, мерзости, подлости – где-то здесь, здесь, в этой комнате! Ах да! Вот куда уже добрались. За всем не уследишь, не станешь заглядывать в каждый словарь. Случайно Даля открыл – и пожалуйста: «Коба – кол, пень, надолба…». Не «самоотверженный», «благородный», а вот что. Стоит книжечка в школьной библиотеке, невинная такая, любой может снять с полки и прочесть: партийная кличка вождя – синоним всякого хлама, а вовсе не романтический герой. Где она, эта мерзость, ну, ну, как там сказано?..
– Нет, я все-таки догадался, отец, откуда цифра 40! Царицынский синдром. Самая большая, кровная, на всю жизнь обида для моего отца – помешать ему, не позволить кого-то убрать, истребить, на кого он нацелился. Хоть через сто лет, а своего добьется. Заодно и обидчика убрав. Ну ладно, крупных военных и вообще военных – они все-таки сила. А всякая власть сильных опасается. Особенно неправедная, узурпированная власть. Но дядька, дядька зачем тебе?
– Какой еще дядька?
– Да из колхоза. Какими набита земля вокруг всех городов и городишек. Не говоря уже о Сибири – в вечной мерзлоте, и через триста лет будут натыкаться на их тела. Чего только мы не наслушались в своих шахтах. Мы про немецкий плен, а они нам – про гомельскую «парилку».
– Что ж, я слушаю. Потом я скажу, а ты послушаешь.
– Хватают такого дядьку в его деревеньке, везут в районный центр. Долго выбивают из него японского или абиссинского «шпиона», «террориста». Упрямится: дом-то близко, все еще кажется, что это сон дурной, вот-вот к жинке и детям пустят. Увезли моего дядьку подальше, аж в Гомель. Далеко слава шла о гомельской «парилке» после трех-четырех суток стояния в задыхающейся, сбитой в распаренный ком толпе, лежания под массой полуживых тел, зуботычин специально подобранных уголовников человек сам полз к двери и вопил: следователя мне! все скажу, все подпишу, во всем признаюсь! За глоток воздуха жизнь готов отдать. А по ту сторону двери за столиком сидит человек в очках, с бумагами. И стул свободный напротив. Садись, и будем вместе работать. Я тебе помогу. Следователю некогда, надоело придумывать, сочинять шпионские сценарии – это уже был 1938 год, – лентяй поставил дело на самообслуживание. И юриста в помощь выделил (из числа подследственных). Нечто вроде юридической консультации. Прозвали его, консультанта-помощника, «лысым доцентом». От многих я слышал про «лысого доцента», нечто вроде лагерного юмора. Потому что другие истории уже никакого юмора не содержали, сплошь чернота. Так, значит, приглашает «лысый доцент»: садитесь и рассказывайте биографию, кто вы, откуда, какие у вас поблизости промышленные и военные объекты. У моего дядьки в Польше брат жил, тоже крестьянин. А, вот это хорошо! Напишем, что он приходил ночью, польская охранка, дефензива, забросила. Живет твой брат, конечно, плохо, за границей народ бедствует, так он приходил именно поэтому: хотел поправить свои дела, заработать злотые, чтобы детей накормить. Какие оборонные объекты в вашей местности? Никаких? Ну, мост там, водонапорная башня, железная дорога? Мостик через ручей в два бревна? Ничего, проверять никто не будет. Вы, значит, сговорились, что взорвешь мост в случае, если начнется война. Да не бойся, за это не расстрел, я тебе не враг! А кого ты завербовал? Как никого? Не финти! Дело так не пойдет. Кто тебя, мы установили. Теперь – кого ты, лучше кого-либо из начальства. Лучше – нескольких. Председатель колхоза, секретарь сельсовета или хотя бы учитель, ветеринар. А из города у вас начальство бывает? Поэт приезжал, это, интересно, кто же? Белорусский? А, во-во! Давай его нам, националиста! Значит, ты завербовал земляка-поэта: взорвать мост… Да не важно, сколько он там метров-сантиметров, ваш этот мост!..
Ну, как, отец, чем не московский процесс? Вот рассказал и сам наконец понял, можешь не объяснять: дядька нужен, чтобы страна в ваши московские дела полностью поверила. Вот, вот, нужен фон, достаточно густой. Если рядом, если соседи – враги, везде враги, шпионы, то уж что говорить про Москву!..
– Я вот смотрю и соображаю, кем стал мой сын.
– Что, вполне созрел для такой «парилки»? Да, вот только нас уже Гитлер свел, сжил со света. Я и говорю: на пару стараетесь, работаете. Не один, так второй…
– Что ты мне своим «лысым доцентом» тычешь в рожу? Мало ли перегибов на местах! Вредителей. Я, что ли, виноват, что мы строить зачали в такой стране и с таким народом? Тут скоро и меня самого оговорят. Уже добиваются, чтобы сам на себя клеветал.
– Это кто же посмел? Что, неужто «лысый доцент»? Неужто он?
– Клеветали на Ленина. Когда требовали явки в суд. (Ну, где клеветали, а где не клеветали – мне это лучше, чем кому другому, известно.) И немецкого шпиона, и ту же охранку (вот именно, охранку!) предъявляли. Что ж, мы должны были отдать Ильича? Как будто что-то имеет значение, когда речь вообще о том, чтобы перевернуть, заново написать историю.
– Слушай, слушай… А ведь ты мог и Ленина обвинить на каком-нибудь «процессе»?
– Заговорил, изменник!
– Не я заговорил. Я только пересказываю. Не хотел, но раз ты начал… Твои четыре года в Костино да Курейке, аж до самой революции, – знаешь, как их политические зеки по дням изучили. Лучше, чем ваш институт марксизма-ленинизма. Мол, отчего Сталин не убегал на этот раз, даже попытки не делал и вообще – ни звука, ни слова написанного: как и нет его? Целых четыре года, аж до февральской революции! А не оттого ли, что жандармы снова потребовали от Кобы службы, а уже не хотелось? Стал членом ЦК, заметен, на виду – выдадут, если снова отмахнется от жандармов, ну а революционеры с такими не церемонились. Вот там, тогда и возненавидел люто тех, кого в 37-м под нулевку срезал. За весь тот страх и безвыходность, когда, может, и повеситься хотелось.
– Вот уже до чего договорился! И это – сын?
– Не я, старые революционеры, они без конца обсуждают там, что да как и почему так получилось, что всех, всю революцию ты загнал в Сибирь. Куца тебя загоняли. Мертвые мослы их без конца перемывают твои живые кости: когда и кем был Сталин. И кто ты на самом деле. Вот что это за бакинская история? С Шаумяном. Правда, что тебя хотели судить бакинские рабочие? Партийным судом. За то, что ты будто бы из зависти к авторитету Шаумяна выдал его полиции. Это где-то в 909-м, что ли.
– Клевета. Ты что не знаешь, что правду конвоируют батальоны лжи? Да меня самого тут же сослали.
– Правильно. Чтобы спрятать концы. У них там на все есть объяснение. Я ничего не утверждаю. Еще этого мне недоставало: чтобы отец мой (отец все-таки) оказался агентом охранки!
– Спасибо, сын, хоть за это! Знаешь, как я измучился. Просыпаешься и ощупываешь руками стены. Клетка! Кругом враги. И чужие, и свои – враги. Даже мертвые предают. Даже те, прах которых в Кремлевской стене. Вдруг узнаешь: и этот такое про тебя сказал, говорил!.. Знал бы ты, как тяжело всегда одному!
– Стащил! Украл! Сапоги, идею коллективизации спер, план индустриализации, идею, имя… У левой оппозиции, у правой, у Троцкого, у Зиновьева, у Бухарина, у Рыкова, у Гиммлера, у Гитлера…
Ага, украл, стащил, ну так нате вам эти проклятые сапоги! На всех портретах – пожалуйста, лижите их. А усы, а они чьи? Можете изучать, сравнивать. Кто у вас там: Ницше, Горький, Пржевальский, Пилсудский – ну, у кого позаимствовал?
Все и всегда с самого начала надеялись, рассчитывали, что «грузин», усатый «дядюшка Джо», – простак, простачок: сделает свое – нет, их дело и уйдет. Даже дурак Зиновьев рассчитывал. Не ушел, ах, какой нехороший, не нравится, не понравилось! И нашим умникам, и чужим, заграничным. Не знают, как, с какой стороны укусить, так хоть этим – не свое у Сталина все, чужое, дублер! Особенно Троцкий старался. Пока не доигрался. Да нет, дорогие мои, заблуждаетесь! Царь не тот, кто царь, а для кого любое кресло, или табурет, или тюремная скамья – трон. Кто знает, всегда знал свое предназначение, свою миссию. Что такое генсек, чего стоила эта должность прежде? Никто и не зарился особенно: письмоводитель, клерк, канцелярская душа. А они все как один р-р-революционеры! Мыслители! Им подавай если должность – так «любимца партии». Не меньше. Где они теперь, все эти любимцы, отцы, дедушки, бабушки революция? А те, что остались еще, все не могут поверить, что получилось не по-ихнему, не по книжечкам. Что в эмиграции, что в Сибири – у них одно дело – сплетничать!
Когда-то я даже гордился тобой, отец, считал твои победы твоей правотой.
– Ты еще здесь?.. Ну а разве я не победил?
– Да, конечно, как говорится, дело правое!..
– Да! Да! Да! А что не в белых перчатках, так все равно никто и никогда в белых перчатках ничего не построил. Была такая личность, Христос, – пытался, а чем кончил?
– Но все-таки какой ценой? И главное, что получилось?
– Если бы ты был поумнее, объяснил бы я тебе, что существует закон больших чисел: если у человека неограниченная сумма денег, проиграть он не может. Сколько бы ни терял вначале, в конце все денежки приплывут к нему. Потому-то богатые богатеют, а бедные нищают.
– Денежки, может, и вернутся, а жизни загубленные?..
– Предела и ограничения нет и быть не должно ни в чем, и тогда ты свободен. В любом маневре. Противник в теснине, в узком ущелье всяческих «табу», а ты как в степи – выбирай любой маршрут, заходи с любой стороны.
– А тебе, отец, не страшно?
– Ты чем меня пугаешь, сопляк?
– Я о крови. Когда предела нет. А вдруг история и впрямь согласится, что действительно нет и не было равных тебе.
– Истории сантименты ни к чему. Она в советских школах не обучалась. Мы поэтому и войну чуть не проиграли – да, вот почему! – что на «бедных Лизах» да Татьянах Лариных вас учили… Не забыть об этом, и тут нужно брать круче, со школами да вашими книжечками!.. Так о чем я? Да, психология больших чисел: если я тебе должен один рубль – это моя забота, а если миллион – не спать будешь ты. Одна смерть – трагедия, ахи да охи над трупом, а миллион смертей – всего лишь статистика, статистика же бесстрастна. Так что, чем больше цифра, тем меньше ахов да охов. Наоборот: героика. Вот по каким правилам история пишется. Боишься крови – нет тебе пути в историю. Волков бояться – в лес не ходить. Сам народ сказал.
– А все-таки страшно. Вдруг на тебе, именно на тебе, отец, история споткнулась, поскользнулась. С нею это случается. Не раз случалось. Но не на краю пропасти. А тут эта бомба. Если предела нет и пусть живет закон больших чисел – тогда и человечество не предел. Кто-то и через него перешагнет. Штучка для этого уже изобретена. Она есть и у них, есть у нас, а скоро будет у всех.
– А при чем здесь я? Что тебе все «страшно» да «страшно»? Чем ты меня пугаешь? Я хоть и отец изменника, но не из пугливых. В обморок от крови не падал.
А вдруг твои противники ни за что не захотят выходить из той теснины, ущелья? А это полчеловечества. Потому только, что наверху ты поджидаешь, куда ни ткнись – Сталин, Сталин! А если для них страшнее или противнее смерти имя моего отца? Ты ведь можешь быть страшнее. И противнее. Можешь! Это я говорю – твой сын. Но победить их тоже нельзя: у них бомба. И мир рухнет – с проклятием твоему имени!..
– Хоть одно разумное слово сказал. Меня вычеркнуть никому не удается. Запомнюсь я всем подлецам! Чтобы маленький ребенок запомнил Гостя-Князя на всю жизнь, родители больно бьют мальчика по щеке, когда Гость собирается уходить. Кавказский обычай. Все забудешь, а боль помнится. История будет помнить Сталина. Так что зря надеются некоторые. Придешь, если придешь, в следующий раз, у меня новости будут. Большие новости. Уходя из этого мира, надо ударить напоследок. Как еще не ударяли…
Он сполз с печки, ощутил ногами жестковатый ворс ковра, пошевелил пальцами. Стащил следом беличий тулуп, накинул на голое тело. И не заметил, что ему не пришлось открывать глаза. Кряхтя и матерясь по-русски и по-грузински одновременно, как делал всегда, оставаясь один, он направился в уборную. Давило за грудной клеткой, деревянно ныл затылок, болела (последнее время сильнее стала болеть) высыхающая рука. Усевшись на круглую доску, он смотрел на исхудавшие и как бы чужие колени, ноги, только сросшиеся пальцы всегда знакомо свои. Антихристовы! Гримаса беззвучного смеха перекашивала лицо, делая его испуганным. Удивленно поднятые брови, мокро обвисшие усы, морщинки-лучики старичка-лесовичка у недобро стерегущих глаз… Его глаза ящера не смеялись, но смех душил, дергался где-то в животе: да, это я, это и есть я, я!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































