Текст книги "Каратели"
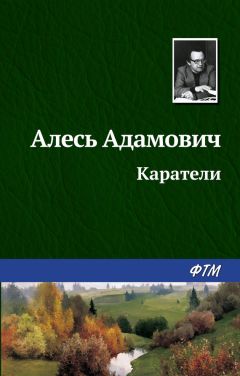
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Что всегда нужно, так это чистилище. Ах, рай – глупости все, а вот чистилище – ничего не скажешь, римская церковь понимала толк в таких вещах. Есть чему у них поучиться и в партийном строительстве: ничего гениальнее, чем орден меченосцев, не придумал никто. Разумная. политика, ничего не скажешь. В раю наглеют, в аду звереют, зато чистилище для человека – в самый раз. Идеальное место. На словах называть можно как угодно – земным раем, светлым будущим, как угодно, но никто ни в чем не должен быть уверен, все должны помнить – вот это помнить должны! – и не такие заслуги были у людей! Если в чистилище висят плакаты, то вот этот должен быть обязательно: «И не с такими заслугами летели в тартарары!» (Лают, лают псы! Что-то все-таки происходит. Что?..) Никто, никто не должен считать, что недосягаем. Мои соратнички слишком поверили, что навеки приписаны к своим громким именам. Имена легко переделываются, переписываются. Или забыли? Одно, два слова добавить: «Иудушка» или «враг народа», «фашистская сволочь», и любое имя уже – как приговор, как удар дубиной по голове. Кое-что и мы помним из ваших биографий, на всякий случай помним. Заглянул бы каждый в свое досье – дыхания бы у вас поубавилось. Чистюль среди вас нет. С чистюлями, с «любимчиками партии» мороки побольше было, и то справились. Дети, главное звено – дети. Слабее всего человек, когда связан по рукам-ногам детьми, семьей. Дети – вот точка! Ну, а уж родители у каждого есть, были. А значит, и родимые пятна. Чистеньких вообще не бывает. А если таким кажется – он-то и есть самый опасный. Просто хорошо замаскировался. Разве 1937-й и 1938-й это не показали? Примеров миллионы, все убедились.
Нужны новые люди, новые идеи. Эти уже закостенели, застыли на трусливых догмах. Им бы только жить. Даже после вождя.
И главное, чтобы каждый знал, как ему ни скверно, что кому-то еще хуже. Вот и в аду не один, а как утверждают – девять кругов. Соседу хуже. И ты можешь еще добавить ему, поверх головы догрузить. Позволено, разрешено. В тридцать седьмом да тридцать девятом уже и остановить трудно было. Лаврентий даже хохмил: скоро и сажать некого будет! И некому! Только начать. Посмотрим, посмотрим, куда все эти болтуны, мемуаристы денутся. Как ветром сдует.
Народ болтунов любит. Но святых иметь обожает, хлебом не корми, а святого подай! Отняли царя, Боженьку – из Мироныча святого стали лепить. Ну что ж, мертвый святой – еще святее. Так что все правильно.
Ах, как этот самый Мироныч перед голосованием, когда его посетила «черноземная» делегация – челом били, звали на трон, генсеком, – как он разволновался. А не потому ли, что ходоки угадали его темные мысли – почувствовали подлецы: ихний, свой! А златоуст решил, что его трусливый отказ сесть на место товарища Сталина дает ему право всех поучать. Ах, будь не такой-разэтакий, а будь хороший, лояльный, доступный, как я! Как, как всем им хотелось, хочется на свой копыл переделать, перетянуть. Он, значит, им свой, против него только три голоса, а три – это не триста. (Исподтишка напакостили в урну, насолили товарищу Сталину – победители!) Да только не то важно, как голосуют, важнее, кто подсчитывает голоса!.. А этот лавочник Лазарь уверен, что по гроб жизни ему обязан за его арифметику – за то, что всем оставил одинаково по три голоса.
Пакостят трусливо, с бегающими глазками. Одна только Надя всегда высказывалась открыто – в лицо. Проклятая цыганская, аллилуевская порода! Мамочка все науськивала. Надя уже криком кричала: «Ты зверь, зверь! Зачем ты приказал расстрелять ребят из нашей Промакадемии?! Нет, это я, я виновата! Они мне поверили, а я думала, ты на самом деле не знаешь, что люди, что дети уже пухнут от голода в твоих колхозах. Рассказала тебе, дура, что люди говорят. Да не мама, чего ты к ней вяжешься, – все люди! Фамилии выспрашивал, я говорить не хотела, я чувствовала. Ты и тут из меня шпика сделал! Кто возле тебя, сам становится таким же. Теперь я понимаю – а тогда была дура! – чего ты добивался от меня в Горках. Тебе надо было шпионить за Владимиром Ильичем… Ты и из него зэка сделал. Всех засадишь за проволоку и будешь на всю страну улыбаться: обаятельный, сердечный грузин! Все скоро будут тебя ненавидеть. Куда спрячешься от всех? Как можно так жить? Это же страшно, что, что ты с собой делаешь?..»
Пожалела! На том проклятом вечере молчала, но глаза кричали, я же видел. Ну, виноват, ну, не сдержался. Я же видел, о чем она думает, никого не слышит, не замечает. Ну, разозлился: «Выпьем за разгром оппозиции!» – не поднялась, назло, из упрямства. «Эй ты!» – что-то еще сказал. Наверное, обидное. Но и я, и мне нелегко – один остался, все злорадствуют, ждут, когда Сталин с его колхозами рухнет. И она с ними, не со мной. Говорят, плеснул в лицо ей из фужера. Или окурок швырнул. Не помню. Был потом на даче. Со зла – с бабой поехал. А она позвонила, ей сказали: тут жена такого-то. А эта дура взяла и застрелилась. Убежала домой и застрелилась. Письмо оставила… И провожала ее, между прочим, молотовская Полина, хитрая жидовочка Жемчужина. О чем, о чем они разговаривали? Успокаивала! Знаем, как вы умеете успокоить. Наверное, про наших с Авелем балерин сплетничала. Наверняка!
Нужна, нужна свежая кровь, молодая! Люди, для которых ничего без Сталина нет и не было, для которых товарищ Сталин был всегда и не быть его не может.
И пистолетик-то игрушечный, раз в год стрелял!..
Глаза здесь, они не уходят, не отступают. Недобрые глаза монашенки. Проклятая старуха! Да, да, да, злой, грубый, жестокий, хуже некуда! Что еще, что?
…Что это? Кто, кто там? Шарят по двери чьи-то руки, пытаются открыть, войти. Где наган, что это? Всегда же был под подушкой! Куда, куда Матрена запрятала мундир? Войдут и застанут голого…
Звуки ночи, каждый врозь и все вместе, шорох деревьев за стенами, шаги возле забора, удары крови в пылающий мозг – все громоздилось и тут же рушилось, давило на мозг, расширяя зрачки ужасом.
Время от времени кто-то приказывал громко и испуганно: «Не спи! Не имеешь права! Они уже здесь, они здесь!»
Почему сплю, когда еще ночь? Самые опасные часы суток, не имеешь права! Надо бежать к двери и держать, не впускать. И звать на помощь. Кого, кого? Как раз и позовешь убийц. Все цареубийцы, все! Куда Матрена всё подевала? В шкафу смотрел, нет! Голый, а они вот-вот… Войдут, вползут, прячась друг за дружку, тасуясь, как карты в руках ловкого шулера. Он, это он, мингрел проклятый, их держит, тасует – потные, волосатые руки. Очковая змея! У всех у заграничных тоже были пенсне. Знак, пароль у них, что ли, у этих английских, японских, польских шпионов?..
Стал бояться Главного Мингрела и во сне. Значит, правда. В снах чувства не лгут. Да, значит, да. Нет, так нет. Еще вчера, еще днем казалось, что доверяешь человеку, можно доверять, а во сне: да нет же, знаю точно, уверен – враг! И все ясно! Как, как допустил, что они все заодно и против меня? Расслабился, устал за войну. Отвлекся. Самоуспокоился. И сразу колоду, карты перехватили другие руки.
Никто, никто не знает, каково это: годами, каждый день видеть у себя в кабинете убийцу – ничтожество, пролившее царскую кровь. Была примета: веревка, которой удавили человека, приносит удачу. Обзаводились, на кусочки резали. Таким талисманом был Поскребышев: всем хвастал, кретин, что участвовал в екатеринбургском расстреле. Но моих расспросов пугался, что-то почувствовал, подлец. Стал бумаги терять, пропадать у него стало все. Но отстранил я его, и все пошло еще хуже. Как и после дурака Власика. Стал я нюх терять, слух. Будто и правда талисман выбросил.
Все, все они прирожденные заговорщики! И ты от них зависишь, сколько ни меняй, сколько ни убирай. Какой-то Игнатов на месте Власика. Простофиля Власик – дал я дураку генерала, он и вообразил, что тоже фигура, – все-таки был надежнее, чем этот Игнатов. А что, если подсунули? Откуда мне знать, чей он. Змея Лаврентий пытался и охрану заменить: сибиряков на грузин. На мингрелов своих, конечно. Еще раз выдал себя, Главный Мингрел. Выдал! Но Кунцево не Горки. А как хотелось им засадить товарища Сталина, и правда, как зэка какого-нибудь. Хоть бы в Кунцево. Вы бы придумали что-нибудь новенькое, не воровали чужой ход, прием. Чтобы на мне же и повторить. Врачами хитренько прикрылись: «Запретить всякую деятельность!» Забота о Вожде. Пожалел волк кобылу! А больше вам ничего не надо? Что удалось когда-то товарищу Сталину, не удастся вам. Вам не удастся. Дважды в одну реку… Диалектику вспомните, если забыли.
– Святое зачатие! Кошачий палач! Выблядок! Сапоги украл!
И конечно же про «папашу Игнатошвили», чьи штаны он будто бы донашивает, – весь набор оскорблений и сплетен, обидных подозрений, намеков.
Орут, визжат, приплясывают цыганской оравой, колотят друг друга по затылкам, по спинам. Наглые физиономии, гримасы, усмешечки, проступающая на прыщавых щеках онанистов молодая небритость. Глаза у. будущих духовных пастырей какие-то неприлично раскоряченные, разбегаются, как шары по бильярдному полю.
– Не три, а триста! Триста! Триста! Лупи жулика!
Прорвалась, хлынула, залила все внутри обжигающая обида – не уходящая никогда, постоянная, сколько он себя помнит, старая, и все новые обиды. Сцепились, завертелись с собачьим визгом.
– Выблядок! Палец Антихриста! Иосиф святой!
«Палец Антихриста» – это про сросшиеся на левой ноге пальцы. А «Святым Иосифом» обзывали в Гори и отца. Бесо, Виссарионом – в лицо, а за спиной, вслед – Святой Иосиф! Дескать, сынок твой святым зачатием рожден. Потому и на священника учится аж в Тифлисе. А на денежки чьи? Вдовца Игнатошвили, это всем известно. Бедный Бесо, глупый смешной Джута! Какая уж там «сталь»? Тряпка! Так ему и надо, будет знать, осетин, как брать в жены грузинку, истинную картвели: Екатерина, ого, разве такой муж ей пара? В такой бедности жить, стирать чужое белье, латать перелатанное? Смирный, мягкий Джугашвили, когда выпивал, делался диким, необузданным, бросался на обидчиков с кулаками, хватал камень из-под ног, кричал: «Убью! Меня обижай, а за сына убью!» Но потом начинал избивать сына, остервенело, себя не помня. Пока мать не вмешивалась. (Вот и руку, дурак, повредил, сохнуть стала.) Вдруг заревновал, что сын будет учиться на священника: «Он мой сын или не мой? Я сапожник, и ему быть сапожником». А потом отца убили. Где-то в соседнем Телави, куда он время от времени уходил со своим сапожницким инструментом – делал людям сапоги, чувяки. Или просто умер – в какой-нибудь ночлежке. Екатерина Джугашвили даже не поехала хоронить. «Туда и дорога!» – все, что услышал от нее сын. Она скажет – всю жизнь потом не забудешь. И не простишь. Когда в 1936 году приехал к ней – царем приехал, каких Грузия не знавала, всей России хозяин! – что от нее услышал, от матери? «Лучше бы ты сделался священником…» Для чужих людей – милая старушка Каке, зато с сыном держала себя так, как когда-то с пьяницей мужем. И сюда, и к ней добрались гады, кто и Надю настраивал! А приезжал к ней сын, чтобы наконец о главном поговорить, узнать всю правду о своем рождении, происхождении. Об отце. Но услышал: «Лучше бы ты… священником… А то всё в цари, всё в цари!» Наверное, догадывалась, отчего столько не заглядывал, а тут вдруг приехал, сразу сурово, нелюдимо замкнулась. Заговорила, как с мужем когда-то разговаривала. Так и не расспросил о жизни в Тифлисе, когда служила горничной у Великого князя, его Императорского высочества Михаила Николаевича. Кто бывал, кто приезжал еще в этот дом – пришлось узнавать по документам. Пржевальский, этот шпион-ученый побывал. А сам Александр III? Про это еще в училище говорили, слышал… А молоденькую горничную как-то очень торопливо, внезапно сплавили в глухое Гори, и она тут же вышла замуж за незаметного осетина, сапожника.
Странный царь этот Александр III, самый вроде бы незаметный в истории России, промежуточный какой-то, а сколько оставил после себя – одна сибирская дорога чего стоит!..
В Гори, в духовном училище, сны видел, голоса слышал, и чем больше измывались над невзрачным, малорослым Иосифом Джугашвили, тем яростнее держалась, жила в нем великая догадка, тайна – государственного значения. Царь, царский плод – уж не это ли тайна матери? И его, Иосифа, пьянящая тайна.
Как-то услышал, уже в семинарии (по ночам любили пересказывать светские романы), историю принца и нищего, нищего принца, и еще больше, уже по-взрослому поверил в детские свои сны и голоса. Все совпадает, все! Особенно эти, ну, прямо-таки пророческие обиды и несправедливости, пинки со всех сторон. Теперь уже никому не удавалось обидеть его по-настоящему. Никакими намеками на грязного вдовца Игнатошвили. На всегда пьяного отца (будто бы отца) Бесо. В мечтаниях по-царски величаво расправлялся со своими обидчиками. И чем больнее оскорбления, удары, издевательства, тем слаще было представлять, рисовалось, как это произойдет: как у всех вытянутся физиономии, забегают глаза, как засвербят спины. Вот он, тот миг! Все духовенство Тифлиса темной стеной застыло на площади перед входом в семинарию. Тут же и директор, и семинаристы. Все, все повалились на колени. И первый – ненавистный наушник инспектор Бутырский. Вот так! Только белые колонны над входом в здание, как всегда, прямые, строгие. И сын тоже стоит на коленях. Но это сын. И он знает, кто он. Знает, кого ищут и не могут отыскать родные глаза. Беспокойные, никем другим не интересующиеся. Увидел, подходит. Поднял с земли и поцеловал, прижался роскошной своей купеческой бородой, пахучими усами. (Кажется, выпивает папаша, вот только не уловить, какие у них там на севере вина. Не одна же водка!)
Смотрят отец на сына, сын на отца. По-разному это происходило. Но сын всегда вел себя скромно, и если мстил, то только укором и прощением всем-всем подлецам. А отец всякий раз реагировал по-другому. Виновато смотрел: его сын рос, вырос в нищете и обидах. Иногда гордо: вот какой у меня наследник! Бывало, и гневно: кто посмел с моим сыном, с наследником, – вот так?!
Но чаще они просто не замечали никого: стоят коленопреклоненной шеренгой, ну и пусть стоят, затаив дыхание, а Отец и Сын ходят-прохаживаются. Рука об руку. Или на плече державная рука. На голове ладонь его, пальцы ласково перебирают короткие волосы наследника. Ко-ба… Ко-ба… Еще тогда, в тех мечтаниях и обидах, зазвучало это имя, пусть внутри, пусть не слышимое для других. Партийной кличкой стало потом, гораздо позднее. Были потом и другие клички – Давид, Нижарадзе, Чижиков, Молочный, Иванович, Солин, Сталин, но Коба, имя благородного героя из романа Александра Казбеги «Отцеубийца», восходит к самым ранним мечтаниям-предугадываниям. Пожертвовать всем и всеми, как он. И умереть мстителем, никем не оцененным, чужим всем. Только потом поймут…
А что? Почему бы и нет? Самое немыслимое случалось в этой стране. Что самое невероятное, то и есть правда. Лаврентию кто-то из Грузии прислал свою диссертацию, где и Петр Первый – грузин. Научно доказывалось. Восковая «парсуна» из петровской кунсткамеры сама за себя говорит – грузин типичный! Вроде бы Романов согрешил с грузинской княжной, дальше всякие подмены-замены. Но если так, получается, что и здесь товарищ Сталин не первый! Дублер и здесь. Диссертанта с его диссертацией Лаврентий засунул подальше…
А потом вдруг исключили из семинарии: перестали поступать деньги оттуда, откуда они всегда поступали. Причину, объяснение нашли простое: стал пренебрегать учением. В Гори сплетничали: папа Игнатошвили обеднел. Или к старости жаден сделался, перестал платить за учение сына. Хитрая Каке всех убеждала, что это она сама забрала сына из семинарии – за здоровье его боится. По старой памяти поколотить даже попыталась своего недоросля: «Ты все в цари, все в цари!» – ей сообщил кто-то, что выгнали-то за драку, глаз выбил семинаристу.
Да нет, при чем тут чей-то глаз, какой-то чиновник в каком-то учреждении взял да и зачеркнул нужную строчку. Не понимая, не зная, к чему прикасается, чью волю зачеркивает. И вся жизнь пошла по другому руслу.
Мало, так еще эти сапоги, кражу сочинили: стащил, мол, чтобы заплатить за семинарию, из-за них-то и выперли!
– Эй, задница, сапоги где, верни! Кошкодав сухорукий!
И ту кошку, кем-то подвешенную, замученную, на него повесили. Всё на него.
– А ну становись, четырехпалый, отгадывай! Становись, становись. Да не подсматривай. Привык!
Все до одного против тебя. Все до единого. Это у них игра такая – моментально обрушиваться на облюбованную жертву. По какому-то стадному сигналу. Схватят, заломят руку за спину: становись, начинаем с тебя! И лупят по ладони – до ожога! – отгадывай кто. Если угадаешь, будешь со всеми против кого-то одного. Но как удержаться, не заспешить, не влупить недавнему своему обидчику. А он ждет этого, сразу на тебя и укажет. И снова все у тебя за спиной, шепчутся, шушукаются, спешат, толкаются, примериваются, кому бить.
Сапоги, кошка, жалкий отец, который не отец, – твоя тайна, но у всех на языке. Почему так? И как тут было спрятать от них сросшиеся пальцы на ноге, если в баню ходить надо, скопом ходят семинаристы, как солдаты. Четырехпалый! Даже во время молитвы не оставляют: вскинет руку, склеив два пальца, и скалит, подлец, зубы. Вот и теперь, здесь – ударили и лезут, лезут прямо в лицо пальцами. Многие нарочно два выставляют, слипшиеся. Угадай, кто ударил, суют, суют наглые, ненавистные пальцы, чуть не в глаза тычут, и каждый из кожи лезет, чтобы обмануть, заморочить: я, я это, боюсь, что покажешь на меня! Ох, не успел отскочить, видишь, на одной ноге стою, балансирую, ну все, попался!
Ну так не надейтесь, что вас вылавливать будут одного из сотни, сотню из тысячи – лупить, так сразу по сотне. По тысяче. По миллиону! Ни один подлец не спрячется. А вы что думали, каждый рассчитывал: вычеркну Сталина, оставлю Мироныча – поймай меня за руку! Бей по тысяче – никакая единица не спрячется. Главное, чтобы работа эта никогда не прерывалась. Чем больше людей, тем больше врагов. Тычут, тычут пальцами в глаза, а если ты ошибся, не угадал, кто ударил, с торжествующим воем разворачивают и готовятся бить снова, шепчутся, оговариваются. И не знают, подлецы, что за негустыми деревцами сквера, здесь же, у здания тифлисской семинарии, уже стоит Он – на высоком, как столб, пьедестале. Тот, над кем вы измывались, уже стоит за сквериком, поджидает вас…
Они не знают ничего, а ты знаешь. Враги все, ты один, а они скопом, и каждый уверен, что поэтому защищен. Ложь и двурушничество в десять слоев, сколько тут всяких наворотов: от лжепритворного спокойствия, святой отрешенности на физиономии до столь же притворного испуга – суют, суют пальцы-спариши.
– Угадай, ну, Фикус, угадай!
Кровь хлынула в глаза, ослепила испугом, яростью. Кто, кто выкрикнул, посмел? Знают, знают, и эти знают что-то! Но откуда, как? От Тухачевских да Уборевичей – от кого же! Копали, докапывались, подлецы. Да нет же, нет, доказать могу. Давид Бакрадзе, вот кто – «Фикус»! Его кличка, его, установлено. А ее мне цепляют, снова на меня вешают? Значит, копают, докапываются, ищут, примеривают, навешивают, какая под руку… Сведения, значит, у меня были верные: докапывались! Они здесь, Троцкий там, а цель одна: убрать Сталина. Свалить, сожрать любым способом. Ишь, Ганнибалы хреновы, собирались все в ромбах, шпалах, таращились на бумаги, решали-голосовали: сообщать или не сообщать народу, что великий вождь – бывший агент царской охранки? А если я про вас сообщу народу? Да, да, что враги, шпионы! Кому поверят, фашистские ублюдки, вам?.. Шпионы и есть, сны не обманули, как из сна – внезапное сообщение от чехословацкого президента, настоящие документы, выкраденные у немцев.
Разве объяснишь дуракам, что время было такое, что вот и Роман Вацлавович Малиновский, социал-демократический депутат, который в Думе речи произносил, не им (а знали бы вы кем!) написанные – от имени партии произносил, – и он тоже, да, да, служил в охранке. Портной – была его кличка. И давал эти речи жандармам читать, перед тем как выступить. И читали, ну и что, но зато слова социал-демократов звучали на всю Россию. Так чего больше – вреда или пользы от его знакомства с жандармами? Может быть, вынужденного, совсем не добровольного знакомства. Хорошо было Бухарину, отсиживаясь в заграничных читалках, тыкать пальцем в Малиновского. Чистоплюи библиотечные! Тычут! Тычут! А ты бы сам попробовал повертеться в этой жандармской России, тогда бы понял, что к чему. Это тебе не на руках ходить. Спортсмены! Что не все дороги к высокой цели прямые! А вам бы все по линеечке, по книжечкам! Спор был в партии, и не все сочли, что вреда от Малиновского было больше, чем пользы. Сам Ленин на этом настаивал, объясняя свое к нему доброе, более чем доброе отношение, он чем-то нравился ему, всегда нравился. Но кому и что этот пример доказал бы, докажет, если им важнее, им нужен голый факт: был или не был завербован? Что, мерзавец Орлов сказку вам рассказал, как Роман меня протолкнул в ленинское ЦК? Ну а что он меня, Малиновский, мерзавец, тут же спровадил в ссылку – это вы знаете? Документы есть, документы!.. Орут, выкрикивают и уверены, что сойдет им это, что спрячутся за спины ухмыляясь. Может быть, и он здесь – тот, кто придумал гнусную кличку? Сидит за грузным, как он сам, столом и пьяными глазами прикидывает – подойдет, не подойдет: Сту-лов… Графинов… Фикус? (Примеривает, подлец, и этот примеривает!) Головой упирается прямо в царские сапоги: портрет Александра III, как будто нарочно, для большей издевки…
Да нет, сон это, все это сон!
– Так, так… Следовательно, из села До-до-ли-ло, так, Тифлисского… В священники готовился, хорошо. Что ж ты, братец, шалить начал? За убийство, понимаешь, чем пахнет? Нехорошо! Приметы, так, родинка, родинка… второй и третий пальцы сросшиеся… Не вполне, как бы сказать, эстетично, отец-мать тут промашку дали. Пил отец-то, сильно запивал? Впрочем, пардон. Ик-ик! Изжога, черт ее побери! Короче, хватит играть в кошки-мышки, бегать туда-сюда, добегался, послужим отцу-батюшке. А? Или я что-то не так сказал?..
Жандармская образина, от его сивушного дыхания мухи пьяно ползают по грязному окну, и сосет, сосет под ложечкой до тошноты: так попался, так влип с этой дурацкой рыбалкой-охотой! Выстрел получился случайный, в колено (из его же, пристава, ружья), но подлец поднял такой крик, злобный, с оскорблениями, грозьбой, с хватанием за ноги, как-то получилось, что и второй ствол разрядился…
– Так, так… Покушение на убийство представителя власти. Хоть он и дружок тебе… Так что думай сам, помогай. Как же мы тебя окрестим, Иосиф из… из Додо-Лило? Мухин… Стулов… Что тебе самому нравится? Или Кадочкин? Вот что: Фикус! Как-никак тоже южное растение, особая примета. Так и записываем. Змея есть змея, а тюрьма есть тюрьма.
Да не было, не было этого! Ни жандарма под царским портретом, ни той проклятой охоты – кто, кто смеет навязывать мне этот бред? Примеривают какого-то Фикуса. Может, я еще и Портной? Я же сплю, сплю! А все как живое. Сам начинаешь верить, такое все. Но я же не Ериков-Бакрадзе, вы что, вы что! Это его кличка – Фикус. Я еще не в руках у вас! И нечего сочинять за меня какую-то ахинею. Не заставите на себя наговаривать. Пользуются тем, что я уснул, что сплю, заболел. Да, я болен, эта неудачная баня… Не так, слышите, было! И ничего не было. Фикус, какой Фикус? Может, я еще и японский шпион? И вредитель в придачу, диверсант? Решили на испуг меня взять? Не на того нарвались. Товарищ Сталин на себя клеветать не станет. Я вам не Бухарин и не Зиновьев. Вы перепутали. Никому не позволю чернить товарища Сталина! Слышите, никому!
Из прошлого катятся бревна, как в Енисей по настилу, – и все под ноги, под ноги! Как тут отдашь себя всего делам и заботам сегодняшним, если из далекого-далекого прошлого вот такие, в три обхвата, бревна? Не успеешь оглянуться, а уже надо и от новых увертываться: лес рубишь – не зевай! Как сквозь сибирскую чащу-тайгу, продираешься через полчища врагов. Казалось прежде: есть проблема – убери человека. И проблемы нет. Но, сколько ни убирай, никуда не деваются, не отступают и вчерашние – стоят, особенно по ночам. Вчерашние, сегодняшние и даже завтрашние – стеной окружают. Да; и завтрашние! И надо, приходится с этим что-то делать. Глупо дожидаться, пока бревно свалится на голову. Прибежала, вбежала Светланка, но увидела отца и, как обычно, испугалась, хотя именно ко мне с чем-то бежала, разгоряченная. (Что во мне такого, что даже дочка пугается в первый миг? Другие – это хорошо, так и должно, но что дочка – иногда обидно.) Ну, что тебе?
– Папа, это неправда, неправда, что я слышала?
– Что правда, неправда, где слышала?
– Будто ты детей велел расстреливать! Детей врагов народа.
– А ты думаешь, дурочка, они бы тебя пожалели? И не твое это дело. Постой, постой, кто, кто это тебе сказал?
Нет, нет, не расспрашивать: именно так было тогда с Надей, ее матерью. С ними, бабами, все непросто. А следовало бы, а надо бы змею прищемить – уже и к дочке подползают…
– Кто тебе все-таки сказал? Надо человеку разъяснить. Может, человек не понимает.
Сколько их, шепчутся, нашептывают, затаили «фактики», а потом вытащат, будут во всю глотку орать-вопить. Кто эту меру посоветовал – приравнивать и двенадцатилетних к настоящим террористам, врагам народа, – именами их пренебрегут. В ответе за все и всех твое имя. Самая подлая штука – это что всегда кто-то помнит. Сколько ни срезай и как глубоко ни забирай – корешки остаются. Они – в детях. Дети – главное звено. Всего в «Краткий курс» не загонишь, частоколом не огородишь. Вот и с войной надо, надо как-то разбираться. Все больше охотников обнаруживается сочинять мемуары. Эти напишут! Что у товарища Сталина никаких заслуг в революции нет и не было – ни в Петрограде, ни в Баку, что и в Октябрьском восстании не участвовал, заслуг не было даже в типографских делах. Кусают, даже ползая на брюхе. А после новых мемуаристов окажется, что и Отечественную выиграл не товарищ Сталин. Жуковы да Рокоссовские все исправили да направили. Растащут победу по своим книжечкам, мародеры! Ух, как красовался на белом коне перед Мавзолеем! Илья Муромец! Уже и картину намалевали: копыта коня выше Бранденбургских ворот! Как когда-то того мазилу – на лыжах. Красавчики-победители. Кого бы вы победили без Сталина? Что под Царицыном, что под Берлином. Или эти ленинградские Кузнецовы-Попковы – тоже музейчик себе соорудили. Не дожидаясь, когда уйду, при мне, совсем обнаглели! А что после будет? Ну нет, кто вас выдвинул, тот и задвинет. Чтобы никому неповадно было. Раздави гада! Раздавить и спать спокойно…
И какие цифры выкапывают! Уже и двадцать, и тридцать миллионов в войну погибших. Под мудрым, так сказать, руководством. Да что вы церемонитесь: судить такого генералиссимуса!.. Цифры ваши – что это, как не подсказка Западу: с Россией можно не считаться, пожестче надо, дивизии только на бумаге! Не больше, чем у Папы Римского. Вот она, ваша история, – если не подлецы, кто ее сочиняет, не агенты, то слепые кроты. Вот кто вы – если с классовых позиций. Да, да, а вы думали, что цифра, арифметика – выше классового интереса? Бить, бить по голове дурной, пока не посветлеет! Что там языкознание, если с войной вот такое! И сколько новых, завтрашних врагов подрастает. Они уже здесь!
«И тогда плевали Ему в лицо и заушали Его, ударяли. Говорили: прореки нам, кто ударил тебя?»
Прочитали-пропели, вонючки в рясах, за спиной, как молитву, и тут же – удар, как ожог! Развернулся и ткнул пальцем наугад. (Наган, наган – остался там, под подушкой!)
– А, не угадал! Поворачивайся, сухорукий, становись снова. И не подсматривай, Фикус, привык. Глядите, эй, да он шкуру проиграл! Клейменый, заложил шкуру! Поменял, подменили!..
Окружили, разглядывают – на животе, на руках-ногах. За спиной ахают и хохочут. Сам глянул на свой живот, на руки и обмер. Разукрашен тюремной наколкой, как павлин, – в разные цвета. Голубое, розовое, черное. «Не забуду…», «Нет счастья…» – визитная карточка уголовников. Тут же и матерщина, подлые приглашения: «Плюнь мне в харю», голые бабы. Но больше и чаще всего вдоль и поперек: «Фикус», «Фикус», «Фикус».
Подлецы, подлецы, кто посмел, когда сделали это со мной? Нельзя спать, нельзя, нельзя спать!..
В лагерях вот так развлекаются рецидивисты: человеку нечем отыграться – ставь шкуру. Проигравшегося расписывают наколкой коллективно, что и кому в дурную башку взбредет. Лаврентий докладывал, что таким путем и вражеская пропаганда ведется. Написать могут что угодно, а он и понесет по лагерям. Иногда проигрывают в карты политического, но ты обязан его не убить, как это прежде бывало, а именно разукрасить. Такое условие. Связав или как угодно (может быть, оглушив его по голове), но проигравший должен написать на политическом, на его шкуре, ругательства в адрес вождя и тому подобное. Фактическое убийство. Только не сами, а администрация их приговор приводит в исполнение, не оставлять же у всех на виду живую пропаганду.
Вылавливать приходится и тех, у кого на разных местах выколото, что он-де «сын Сталина». Это все слухи про тех – двое или трое? – что родились в Сибири. Было, было, чего только не было. Когда ты был никем, до того, как стал всем. Когда сибирский чалдон мог Сталину угрожать, топором размахивать, требуя жениться на несовершеннолетней, забеременевшей… Живут где-то, все под присмотром Лаврентия – наверное, мингрелу приятно: как бы там ни было, а родная Сталина кровь у него под полицейским надзором.
А на спине, что там? Хохочут за спиной особенно. (И вдруг он увидел себя сзади. Это невероятно, но он действительно видит: карта страны у него через всю спину, а по ней колючая проволока толстым венком. Классно сделанная наколка! Цветная даже.) Вертишься и закручиваешь вокруг себя еще больший хохол.
Никому, никому верить нельзя! Какой-то русский царь массажиста выписывал из Германии, но не почему-либо, а потому, что лучше к немцу, чем к своему, спиной повернуться. К кому угодно, только не к своим.
Как они подъезжали к вождю, поближе, поближе, чтобы сделать орудием собственных целей. О, это они умеют! Соратничков всех опутали, бывало, глянешь вдоль банкетного стола, и все ясно как божий день: жены у всех как сестры родные. Дщери Сиона… И дурака Ваську моего опутали, и Светланку тоже – не успел от одного избавиться, тут же какой-то Морозов на смену.
Теперь, только теперь многое стало понятнее. Уж как старался, как старался Берия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































