Текст книги "Каратели"
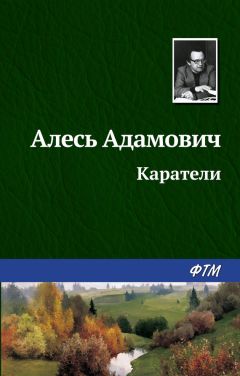
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Ваша, ваша теперь очередь, самостийники, петлюровцы. Тридцать или сколько там вас миллионов контрреволюционеров, и каждого можешь, не глядя, посылать, куда поехали калмыки или татары. Нет, этих подальше. А что, если вместе с этим шутом, с Никитой? А почему бы и нет? Вот удивятся хохлы: как можно, нас же много! Именно потому: новые времена – новые масштабы. (Давно бы надо сделать, не подыскивать какие-то особенные земли: не хотели на метровом черноземе – поживите на вечной мерзлоте!) И Никитка обидится: такой свойский, такой рубаха-парень, а его туда же. Торгашеская душа Каганович, этот пролетарий из-под прилавка, нутром учуял конкурента: здорово он подкузьмил Хрущева с этими его агрогородами. Ишь, нашлись теоретики. Растворили бы в деревне и Москву, и Киев, только позволь. Тянет, тянет хохла в кулацкие гнезда. А еще сынок у него такой: яблоко от яблони. Все изменники. Не забыл товарищ Сталин, как вы устроили себе подыхаловку в 33-м. А по вашему примеру и русские. На погост, но только не в колхоз! Чтобы еще злее Сталина ненавидеть. Все бегали, бегали то к Бухарчику, то к Миронычу, то еще куда, пока в объятиях у Гитлера не оказались. И думаете, сойдет вам это только потому, что вас много? Ну, далеко убежали? Да нет, снова мы встретились. Но если так любите бегать – пожалуйста. Хоть на край земли! И эшелоны подадим. Вот именно, если так вам хочется – подальше от Сталина. Тридцать, пятьдесят – какая разница? Теперь счет на сотни миллионов – в Европе, на миллиарды – в Азии… Освоим и пустыню Гоби, если тесно станет. Армяне, эти кавказские жиды, увернулись тогда, но теперь не удастся – Алтай тоже горы, назовем какую-нибудь Араратом, если им это так важно!.. Найдем уютное местечко и для подлеца Лазаря Моисеевича с его торгашеской нацией – глаз не сводят с Америки. Украинские куркули помогут спровадить вас, ну а другие – их самих.
Гниль из подпорченного мяса не выковыривают – чем больший кусок отхватишь ножом, топором, тем лучше для здоровья. И чтобы до Главного Мингрела добраться, приходится начинать с маленьких мингрельцев. То же самое и с народами-вредителями. Начал с малых, переходи к большим. Татары там, калмыки, евреи, а уже потом – «самостийники». Ну и дальше.
Где-нибудь за Енисеем встретитесь все, и у вас будет достаточно времени выяснить, кто больше ненавидит Сталина. Нет, интересно: сами они остановятся в этом деле или как в тридцать седьмом – до упора, когда уже и выселять некого и некому будет?..
Что, «дублер»? И думаете, что оскорбили, унизили? Чем? Что самое трудное, опасное досталось не вам? Сталину досталось? Походили бы вы сами над пропастью по имени Россия! Над мелкобуржуазным кратером да с такой ношей, да по нехоженому пути! Я же вижу, видел, как жадно вы смотрели из своих углов, со своих нар, ждали, чтобы свалился. И марксизм вам уже не нужен, и социализм, черт с ним со всем, только бы Сталин опростоволосился.
Ну, а теперь что скажете? Придется выпрашивать у Сталина, у вашего «дублера», хоть какое-то местечко в истории. На трибуне истории – в день Самой Главной Победы. Которая впереди. Там, там «точка», и видит ее только Сталин. И ваша судьба – и живых и мертвых – там, хотя вы этого еще не знаете. Вот когда история будет переписана окончательно. В сравнении с чем все прежнее – всего лишь репетиция, бои местного значения. И тогда посмотрим, кого история поставит на первое место! Где Ленин, а где Сталин.(У него слова, не более того, Сталин же – сама практика. Он лишь пугал словами буржуазию всех мастей, а слова в дела воплощать дано было Сталину. Да он и сам понимал: где не слова, не интеллигентская болтовня, а дело нужно делать – поручал Сталину. Сколько раз, пока эта баба не влезла в наши дела. Ах, грубый, ох, не годится быть генеральным. Как будто не сам он придумал это: «Генеральный секретарь» напротив фамилии Сталина в списке 10-и самых верных ленинцев.
Это они, они! Воровски постукивают в дверь, зовут, мое голодное молчание их, видите ли, напугало, они взволнованы, не случилось ли чего с Иосифом Виссарионовичем. Охрану, конечно, арестовали. Или вырезали. Если она не заодно с ними. От самой Москвы толпами бегут через лес, от самого Буга и Днепра бегут, бросив фронт, все бросив, с единственным желанием – добраться, отомстить, выместить злобу. Тольвютиге вольфе! Мало, мало на вас Гитлера, немцев!..
– Да открой, это я!
Голос незнакомый, но таким кажется свой собственный, если слушать со стороны. Звучащий с киноэкрана или по радио.
И сдерживаемое дыхание – прижатым ухом даже сквозь обитую дверь ясно слышно.
– Да ты что, не узнаешь? Ладно притворяться: я это, я! Да я – СТРАХ твой! Узнал ведь.
– Что нужно, кто звал, кто позволил?
Фу, гад, так напугать! Это ж надо, какая чушь приснилась-пред ставилась.
– Перестань, вождь, комедию ломать. Никогда в спец-пропуске я не нуждался. Роднее у тебя никого нет.
Смеется, издевается, подлец!
– Что мне ты или другой, подумаешь – страх! Голому дождь не страшен. Я ухожу, совсем, мне теперь ничего не страшно.
– Ну вот и прекрасно. Так что здравствуй! Признаться, я боялся, что будет слишком много визгу, соплей, восточной дипломатии – весь набор. Все мы боги, пока других потрошим, души из тел выковыриваем. А когда из нас – вопим и взываем. Как наш Зиновьев. Изображал из себя Красного Галифе, а когда самого потащили, как барана, убивать, взвыл: «Товарища Сталина! Мне товарища Сталина!» Напомнить, возможно, хотел, что именно он проталкивал генсеком тебя. Или как с Каменевым от завещания тебя защищали. А нам теперь как? Не мингрела же нам с тобой кликать! Этот пожалеет.
– Кто вас всех сегодня подсылает? Постой, постой! А не твоя это работа – Яшка с его «лысым доцентом»? Что ты этим хочешь сказать, чего добиваешься?
– Там, где я, хе, хе, Страх Смерти, там бродит и совесть. Поблизости. Если она еще жива. Ну, а если не совесть, то хотя бы «лысый доцент». Вроде солитера. Не в душе, так в желудке, но какая-то работа все-таки происходит внутри…
– Не надоело ерничать? У меня серьезные планы…
– Определить врага, подготовить все, неожиданно нанести удар, уничтожить его и пойти спать! Это – как стакан хорошего вина… Знаю, знаю твои планы. Нет, на этот раз – речь совсем о другом. Только договоримся сразу – не играть в знакомые игры. Не стоит она того.
– Что?
– Жизнь эта самая. Ну что за удовольствие: вечно сидеть за колючей проволокой и чтобы пищу подавали, как зеку, и ни минуты без страха… Без меня, хе, хе, то у есть. Пожизненный узник! Глянь-ка: да ты в гробу заживо заключен! Эти доски до потолка, кто это придумал? А под конец, гляди, и дело припаяют – с этой охранкой. Да ну их всех! Бессмертия не получилось, не вытанцевалось, мы уже поняли с тобой. Так ради чего волынку тянуть?
– Ты о чем это?
– Как о чем? Полчаса толкую…
– Я чувствую себя… Я совершенно здоров!
– Какое уж тут здоровье? Раньше, бывало, после баньки – как младенец, джигит! Кстати, почему именно в бане так приятно ругать, поносить Советскую власть? Парильщики, слушая тебя, в обморок падают. Даже слушать такое боятся.
– Надоело! Надоело! Сколько ни бейся – бардак! Потому и решил: все сначала! Никогда у меня столько сил, столько идей не было.
– Ну, с тобой не соскучишься. Какое начало? Какие идеи! Опять через Колыму гнать людей к счастью? Не наскучило? Финита, как говорят иностранцы. Ты что, не слушаешь, с чем я пришел? Тебе, тебе надо умирать! На этот раз – тебе! Теперь расслышал?
– Вот ты и выдал себя! Они, это они тебя подослали!
– Да не они, успокойся. Мы с тобой сами: тихонько, помаленьку, по-стариковски… Когда-то надо же.
– Нет, ты послушай: хохлы-самостийники и прочие помогут торговцам-отравителям – аж до Колымы земля обетованная! А следом и сами – запрягайте, хлопцы, коней! Да, не забыть и про этих партизанчиков, белорусских. Каждый второй – прирожденный террорист. Мао Цзэдун охотно подбросит сто миллионов, чтобы поселить у нас. Разместим. Вот зачешется Европа, если сто миллионов азиатов да на место хохлов! Прямо под нос всем этим французам, англичанам. С раскосыми и жадными глазами, а?.. Мудрый, ничего не скажешь, обычай: чтобы кто-то тебя запомнил – ударить побольнее. И неожиданно. Такое – надолго. Не скоро забудете товарища Сталина!
– Сердце жмет? После баньки. И голову как обручем, да?
– Да я всех переживу! Кавказская порода долговечная. Мне надо, я не для себя, надо!.. Все загубят – слепые кроты. Кому все оставлю? Да они все уступят врагам, только бы шкуру сохранить.
– Финита! Амба! Крышка! Какое еще слово есть? Кранты! Капут!..
– Не может быть, чтобы вот так сразу! Давай посоветуемся. Ну, пожалуйста!
– Да хоть миллиард или всех, сколько осталось на земле, заложи вместо себя – не выкупить. Раз пришел срок.
– Нажаловались на меня, я знаю. Это они умеют – писать, жаловаться.
– Послушай, это уже скучно. Ну, сколько можно? Как чужими головами рассчитываться – герои, боги, ничего нет легче! Но только зайдет о своей речь…
– Ну хорошо, хорошо, не сердись. Я все сделаю, что скажешь. Но не сразу же. И если приговорили, пусть сами осмелятся, а не подсылают вместо себя. Пусть, но глаза в глаза. Хочу увидеть подлеца. Я его всю жизнь ждал.
– Нет, ты кого хочешь уморишь. Ну, пойми, где и кого я буду сейчас искать? И ты не подумал: а вдруг набежит столько, что забор повалят? И цветники вытопчут.
– Вот и поглядим. Ну, что тебе стоит? Народ любит товарища Сталина!
– Ты действительно уверен, что любовь, зачатая от СТРАХА, от меня, хе, хе, сильнее всего остального? А мы не зря время теряем?..
– Должен, должен у человека быть шанс? И столько не завершено. Вот и ботинки… Для Матрены Петровны, у нее день рождения…
– Слушай! А что нам далеко искать? Этот не подойдет? Всмотрись?
Подошел к зеркалу ближе. И ему навстречу ступил, как бы наперерез угрожающе двинулся низенький старикашка с сердитым одутловатым лицом, поковырянным оспой, с неподвижными глазами ящера, грязно-серые усы свисают мокро, тяжело. Босой, в обмятом, как со сна, мундире с огромными бутафорскими погонами, с них свисает позлащенная вытертая бахрома.
Смотрели друг другу в глаза. Ты все в цари, в цари!.. Лучше бы ты!.. Нет, лучше бы ты!.. Никогда ни к кому не испытывал такой ненависти, – сдавило горло, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Даже грудь заболела. Почувствовал, как яростно забилось сердце, обгоняя собственные удары, руки-ноги загудели-загудели, обмякли. Как обручем, сдавило голову. Последний светлячок, какие-то пятнышки на пещерно-черной стенке того, что называют душой, – возможно, это была просто жалость к самому себе, – тускло замерцали и стали гаснуть, пропадать. Существо с мозолистыми от ненависти ладонями (от вечно сжатых кулаков – ногтей), не любящее и не жалеющее никого, даже самого себя, только ненавидящее, – обречено.
Чтобы не упасть посреди комнаты, оттолкнулся рукой от пианино, боком, боком, чуть не задом заторопился к уплывающему дивану, рухнул.
С непонятного возвышения оглядывался на глухие окна, устроенные так, что в них можно выглянуть, но снаружи заглянуть невозможно. И все равно оттуда смотрели, он это знал. Это ОНА там стоит, смотрит. Не то мать, не то смерть, уже казалось ему, что они – это одно, что и мать, как все на свете, хочет его смерти. «Лучше бы ты, лучше бы ты!..»
Что-то хотел сказать, жалкое, последнее, оправдываясь, – и именно про детей, про детей! – но тут произошло, случилось очень простое, элементарное, механическое: давно переродившиеся, старчески хрупкие трубки-сосуды не смогли удержать напора крови и гнилостно расползлись – кровь хлынула в черепную коробку, мир ею моментально наполнился и тут же погашенно исчез.
Но он еще дернулся – к людям. Позвал – людей. И упал со скользкого дивана.
Убила кровь, собственная. Лежал посреди комнаты на полу в нелепом бутафорском мундире. Глаза были закрыты. Впервые за последние пятнадцать лет глаза были закрыты.
Помощник коменданта «ближней дачи» П. Лозгачев:
«В полдень охрана заметила отсутствие какого-либо движения в кабинете и комнатах Сталина. Это насторожило всех, но примерно в 18.30 в кабинете и в общем зале зажегся свет. Все с облегчением вздохнули, полагая, что сейчас последует вызов кого-либо из нас. Но вызова не последовало ни в 19, ни в 20, ни в 22 часа. Охрану стало охватывать волнение, ибо явно нарушался распорядок дня Сталина, хотя это и было воскресенье. Обычно по выходным распорядок не менялся. В 22.30 охрана стала подозревать неладное. Старостин, будучи старшим сотрудником, стал настойчиво посылать меня к Сталину. Я же отвечал, мол, ты старший – ты и иди первым. Так мы препирались, кивали друг на друга и каждый боялся входить к Сталину без вызова. Наконец пришла почта. Это послужило поводом зайти к Сталину. Я взял письма и твердым шагом направился на доклад. Прошел одну комнату, вторую, но Сталина нигде не было видно. Наконец заглянул в малую столовую и увидел перед собой ужасную картину. Все во мне оцепенело, руки и ноги отказались подчиняться. Возле стола на ковре, как-то странно облокотившись на руку, лежал Сталин. Он еще не потерял сознания, но и говорить не мог, случилась полная потеря речи. Все же он, видимо, услышал мои шаги и слабо поднятой рукой как бы подозвал к себе. Я подбежал к нему и спросил: «Что с вами, товарищ Сталин?» В ответ услышал невнятно произнесенное что-то вроде «дз». На полу лежали карманные часы первого московского завода, газета «Правда». На столе – бутылка минеральной воды и стакан.
По домофону я срочно вызвал Старостина, Тукова и Бутусову. Они тотчас прибежали, и кто-то из нас спросил: «Вас, товарищ Сталин, положить на кушетку?» В ответ последовал слабый кивок согласия. Общими усилиями положили его на кушетку в столовой. Сразу же стали звонить в КГБ Игнатову, но тот оказался не из смелых и переадресовал нас к Берии. Возникла необходимость перенести больного в большой зал. Мы все вместе это сделали, положили Сталина на тахту и укрыли пледом. По всему было видно, что Сталин озяб, очевидно, он пролежал в столовой без помощи с семи-восьми часов вечера… Я остался дежурить возле больного».
Вспоминает М. Старостин: «Я тут же позвонил Маленкову и сообщил о несчастье с товарищем Сталиным. Спустя примерно полчаса Маленков позвонил мне и сказал: «Берию я не нашел. Ищите его сами». Прошло еще полчаса. Звонит Берия: «О болезни Сталина никому не говорите и не звоните».
Продолжает П. Лозгачев: «Сижу один у постели больного Сталина. Тяжесть на душе невероятная. Угнетает беспомощность. Старостин бегает, шумит, мол, звони, Лозгачев, начальству. А кому звонить, когда все, кому положено, о болезни Сталина знают. Тяжела и томительна была для меня эта ночь. К утру виски мои поседели. Я продолжаю находиться возле Сталина один. Минуло два часа ночи, а помощи больному ни от кого нет. В три часа ночи 2 марта слышу: подошла к даче машина. Я обрадовался. Думаю: наконец-то прибыли медики, которым я смогу сдать больного Сталина. Но я ошибся. Оказалось, что приехали Берия и Маленков. Берия, задрав голову, прогромыхал ко мне в зал. У Маленкова скрипели ботинки. Он их снял и, держа ботинки под мышкой, вошел в носках. Встали соратники поодаль от больного, некоторое время постоят молча. Сталин в этот момент сильно захрапел. Обращаясь ко мне, Берия сказал: «Ты что наводишь панику? Видишь – товарищ Сталин крепко спит. Не поднимай шумиху, нас не беспокой и товарища Сталина не тревожь». Я стал доказывать, что товарищ Сталин тяжело болен и ему нужна срочная медицинская помощь. Но соратники не стали меня слушать и поспешно удалились из зала. Берия обрушился с бранью на Старостина, из потока сквернословия печатной была лишь одна фраза: «Кто вас, дураков, приставил к товарищу Сталину…» С тем Берия и Маленков уехали.
Часы пробили 4, 5, 6, 7 утра. Медицинской помощи Сталину нет как нет. Все это стало походить на предательство.
В 7.30 утра приехал Хрущев и сказал, что скоро прибудут врачи из кремлевской больницы».
Вспоминает В. Туков: «Я позвонил Молотову и сообщил о случившемся со Сталиным. Молотов сказал: «Позвоните членам Политбюро и сообщите им о болезни Сталина. Я сейчас приеду».
Продолжает П. Лозгачев: «Между половиной девятого и девятью часами прибыли врачи, среди которых был П. Е. Лукомский. Медики очень сильно волновались, руки у них тряслись. Даже не смогли снять с больного рубашку – так волновались. Пришлось разрезать ее нолсницами. Осмотрев больного, врачи установили диагноз: кровоизлияние в мозг. Приступили к лечебным процедурам – укол камфары, пиявки, кислородное вдувание. О хирургическом вмешательстве речь не шла. Какой хирург мог взять на себя ответственность? К тому же Берия нагонял на врачей страх зловещим вопросом: «А вы гарантируете жизнь товарищу Сталину?»
На второй день о болезни отца дали знать Василию Сталину. Он приехал с топографическими картами, полагая, что отец устроит ему экзамен как авиационному начальнику. Светлана также была вызвана к больному отцу».
Из воспоминаний В. Тукова: «Василий Сталин появился на даче в пьяном виде и с порога принялся кричать: «Сволочи, загубили отца!» Кое-кто на него ощетинился, а Ворошилов стал уговаривать: «Мы все меры принимаем для спасения жизни товарища Сталина».
О болезни Сталина узнала вся страна. На даче все чаще стали раздаваться звонки врачей-доброхотов, просивших допустить их к Сталину и уверявших, что они его вылечат. Звонили далее из других стран. Один доброжелатель оказался особенно настойчивым. В конце концов к аппарату подошел Берия. Без особых предисловий он спросил настойчивого эскулапа: «Ты кто такой? Ты провокатор или бандит?» Собеседник, видимо, понял, с кем имеет дело, и положил трубку». (Материал А. Т. Рыбина и В. А. Попова.)
Попытался открыть глаза, когда услышал над собой, откуда-то сверху:
– Мертв! Тиран мертв!
Увидел, показалось, где-то под самым потолком, но тут же нырнувшие книзу вампирские плотоядные огромные присоски-линзы. Навалился горой – ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Гнев на миг вернул искру сознания.
А-а-а, подлецы, рано обрадовались!
Куда ты меня ведешь? Что это за коридор?
– Бутырская тюрьма. На суд идем.
– Кто будет судить?
– Следствие закончено. Вот конверт, протоколы – подписывал?
– Ничего я не подписывал. Если кто ждет от меня самооговора…
– Подписал, не подписал – срок подошел, суд.
– Кто будет судить?
– Троица.
– Тройка? Особое совещание?
– Разве я неясно выразился: троица?
– Ты же говоришь – Бутырская тюрьма.
– Разве я сказал: Бутырская? Ну, значит, Лефортовская, без разницы… Не имею права разговаривать с конвоируемым.
– Зачем ты аплодируешь?
– Кто аплодирует?
– Ну вот ты же.
– А, это! Положено стучать ключами о пряжку или хлопать в ладоши, чтобы встречный конвоир успел поставить своего арестанта лицом к стене. Чтобы вы не переморгнулись.
– Товарищ Власик, прошу, никто же не видит! Скажи: у них есть доказательства? Есть у них документы, что… я ну, агент? Нет у них ничего! А документов-то нет!
– Без разницы. В этом суде не доказывают. Зачитывают приговор в полстранички – он уже у них там лежит, готовый, – и шагай, раб божий, в лагерь или под вышку. В какую комнату пакет, такой и приговор: первая – десять лет, номер два – двадцать пять, а в третьей – только расстрел. Конвейер.
– А мы в какую, наш номер?
– Не имею права.
– Прошу, Николай Сидорович, никогда не забуду! Ты не обижайся, что так получилось у нас с тобой. Теперь я вижу: ты самый преданный. Это все Берия, он наговорил: «Власик-растратчик. Власик потерял бдительность, врачей-отравителей пожалел».
– У тебя всегда кто-то виноват, только не ты. Ну да Власик не такой человек, зла не держит. Дурак-белорус. Только зачем было генерал-лейтенанта отнимать?
– Верну, все верну! Скажи…
– Ну, в ту самую.
– В третью?
– Да.
– Где же правда? Где законы? Власик, сделай, сделай что-нибудь! Мы же сейчас придем, будет поздно.
– Тише, там идут! По тому коридору. Лицом к стенке! Быстро! Стоять так и не сметь поворачиваться!
– Не беспокойся, не беспокойся, Власик. Ты только попробуй обменять.
– Что обменять? Стой, не вертись!
– Пакеты, комнаты.
– Ну, падла, как ты быстро соображаешь.
– Какая ему разница? Прошу тебя, Власик.
– Разница-то есть: десять лет или вышка.
– Конвоиру, я сказал, никакой разницы.
– Захочет ли рисковать. Был бы я генерал-полковник…
– Вернем, все вернем, товарищ Власик.
– Стоять к стенке! И не подсматривать! Кому сказал?
…Все же не выдержал, глянул из-под локтя. И встретился глазами с Яшей, Яковом! Со все знающими, понявшими глазами сына. Власик наседает на конвоира, что-то быстро, горячо шепчет белобровому веснушчатому парню, прижимающему синий пакет к нагану на бедре, а чуть в стороне стоит Яков, в своих солдатских обносках, с заросшим лицом, и смотрит на отца огромными глазами.
А тут еще голос услышал, словно из стены, в которую упирался ладонями: «Лучше бы тебе не родиться! Он же внук мне, наш бедный Яша!»
Да что вы смотрите на меня? Все смотрите на меня! Вы мертвые, я же знаю, что вас нет. И вы знаете, что нет вас. Жалеть надо живого, живого! Если ты мать, если ты сын! Вам все равно, это живому не все равно…
Он вдруг ощутил, что с его лицом происходит что-то странное, давно забытое, не понял что! Но увидел потемневшую полоску на рукаве мундира, мокрую, и догадался, что плачет…
– Да минет тебя, отец, чаша сия…
Яша, сын! Прости, простите меня, если можете! Это он все, он – Сталин. Он все отнял. Ненавижу! Он отнял у меня детей, семью, он, Сталин: я боялся его, боялся, что если тебя связывают дети, страх за их судьбу, жалость к близким, он по этому и ударит. Как ударил Каменева, Бухарина… Да и всех других: в страхе за детей предали себя, все предали! Это он умел, умеет – ненавижу!
– Ну, хватит, поворачивайся. Ушли.
– Что? Что? Поменялись?
– Уговорил. Вологодский лапоть все-таки помнит генерала Власика. А когда увидел твой мундир генералиссимуса…
Спасибо, Николай Сидорович, никогда не забуду твою услугу!
– Но ты молодец: как быстро сообразил! Здорово ты себе дублера выхватил!
– Как ты сказал, генерал Власик?
– Дублера. А что?
– Ты неправильно сделал, ты не должен был сказать так, товарищ Власик.
– Что, опять разжалуешь Власика?
– Всегда буду помнить…
– Память у тебя не дай Бог. Но Власика всегда доброта губила. Никак не научат дурного белоруса.
– Все, все будет, верну.
– Даже не спрашиваешь – в какую? В комнату какую.
– Но не в третью же, не в третью?
– Двадцать пять лет – тоже не мед. И не рассчитывай, что убежишь. Это при дурном царе вы бегали.
– Ты снова аплодируешь? Главное, что не та комната, это главное! Но почему здесь столько дверей? Ты же говорил – три номера, а здесь…
– И были прибиты досочки: 1, 2, 3. А теперь на красном стекле цифры горят…
– Второй, второй… Где второй?
– Как тебе не терпится получить двадцать пять!.. Но и правда, тут только номер третий, вышка – на всех дверях.
– А где же наша, наша?! Что ты стал как пень? Дай!
– …Прижимая синий пакет с именем Якова Иосифовича Джугашвили к груди, бежал по сужающемуся коридору, как из одного зеркала в тусклую глубину другого; двери нескончаемо множились в мутной дали, и над каждой пылала смертельная цифра «3». Дышать было все труднее, нестерпимо болела грудь, ее просто разрывало, каждый глоток воздуха прорывался в сдавленную глотку как бы вместе с острым, зазубренным металлическим штырем – они втыкались во внутренности и оставались там, и оттого тело становилось все тяжелее, как бы чужим.
А из-за узких дверей с огненной цифрой доносилось одно и то же, одно и то же слово: «Проклят! Проклят! Проклят!»
Вот тут он в последний раз открыл глаза, и все, кто имел право приехать на «ближнюю дачу», присутствовать при его кончине, запомнили этот миг: вдруг окинувший их всех дикий, лютый взгляд.
Навалились все, не вздохнуть, добрались, подлецы, – он это, мингрел проклятый, везде он! Глаза-присоски, губы-присоски ищут жадно, знакомо сладострастно ловят добычу: его, его это гнилостное дыхание, знакомое до тошноты, припал ко рту мокрыми от шашлыка и вина широкими губами, сосут, сосут, высасывают из надорванных легких последний воздух.
Из последних сил увернувшись, как от кляпа, от чужого рта, коротко захватил глоток воздуха, прохрипел:
– Обрадовались! Ненавижу, педерасты! Ненавижу вашего Сталина!
Прокричал на весь мир – неслышно.
«Любовь побеждает смерть» – не было случайной фразой, а, как и все у него, – выражением непроизвольного, как дыхание, лицемерия. Любить, чтобы не умереть, что ж, это распространялось и на него. Жил, пока мог если не любить, то хотя бы жалеть, хотя бы кого-то, хотя бы самого себя. Себя любил, а точнее, свою власть, когда побеждал врагов, и, чтобы жить, должен был обязательно кого-то побеждать, не важно кого, а валено, чтобы их, побежденных, было все больше и больше. Сегодня больше, чем вчера, а завтра – больше, чем сегодня. Когда все неправда: биография революционера, первого из первых, царистские сны, родословная, улыбка, дружба, объятия, обещания, клятвы, слова, идеи, – остается только убивать. (Право убить любого, кого наметил, – вот что такое власть, ничто другое еще не власть.) А поскольку от этого неправды становилось только больше, убивать приходилось все новых и новых. И все больше. Любить себя такого даже ему становилось все труднее и труднее, а значит, и жить…
У него еще была атомная бомба (единственный раз, когда он оценил этих нытиков-интеллигентов, ученых и подарил им дачи с полной меблировкой в лесу под Жуковкой), бомба могла многократно увеличить число побежденных, а значит, продлить ему жизнь. (На врачей он уже не полагался.) Но, к счастью, он был трус – это спасло. На этот раз – спасло.
1970–1980, 1987–1988
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































