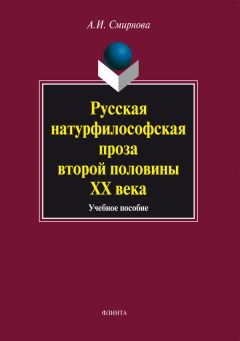
Автор книги: Альфия Смирнова
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Акбаре страшно смотреть на механических людей, с головы до ног облитых кровью. В. Астафьев в «Царь-рыбе» обратил внимание на то, что кровь с человеком делает. Перестав почитать и бояться пролить ее, он преступает ту роковую черту, за которой кончается человек. Позиция Ч. Айтматова в оценке проливающего кровь человека намного жестче, потому что он уже давно перешел ту роковую черту.
Однако концепция взаимоотношений человека и природы в романе выглядела бы несколько упрощенной, если бы был представлен только этот аспект. По Ч. Айтматову, человек, противопоставивший себя природе, разучившийся жить по ее законам, выступает и сам как жертва, жертва этого добровольного отлучения. Он сам творит свою историю, исходя из определенных социально-политических обстоятельств, на смену «чувству природы» пришло умение «официально обосновывать» что бы то ни было. Главный в романе вопрос: «Что такое жизнь?» В последующих главах через призму моюнкумской трагедии (глава 3) осмысливается эта жизнь, предстающая как цепь трагедий, происходящих по вине человека. Расплачиваются за эту вину – невинные: Авдий Каллистратов, распятый на саксауле; напарник Бостона Эрназар, сорвавшийся с горы в пропасть и оставшийся там навеки стоящим на коленях, словно отмаливая чьи-то грехи; маленький Кенджеш, сын Бостона, своя «плаха» и у Бостона.
Насколько величественны в романе картины природы, настолько неприглядна, порочна, бессмысленна жизнь человека, оторванного от Природы, живущего без Бога в душе, без потребности согласия с самим собой и внешним миром – без гармонии внутри себя и вне. Если Вселенная исполнена гармонии, то человеческий мир не знает ее. «Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору. Тишина безмерная, исходящая от величия земли и неба, теплынь, напоенная дыханием многих трав, и самое волнующее зрелище – мерцающая луна, звезды во всей их неисчислимости, и ни пылинки в пространстве между взором и звездой, и такая там чистота, что прежде всего туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от житейских дел» (Айтматов 1987: 109).
Степь и станция в романе – два противоположных полюса в противопоставлении «природного» и «общественного»: «…На станции, подавляющей своей индустриальной мощью огромное степное пространство, стоял грохот, лязг, шла жизнь, неостанавливающаяся ни на минуту, подобно пульсу» (Айтматов 1987: 194–195). Люди в романе несут зло «живой природе». Степи как символу «целесообразности оборота жизни» противостоит «всесокрушающая механизированная сила», «колоссальная машина истребления, разогнавшаяся на просторах Моюнкумской саванны» (Айтматов 1987: 198). До появления человека жизнь в саванне шла в природном ритме: дни сменяли друг друга, завершая свой круг каждый; весной народилось волчье потомство, осенью и зимой шла «великая охота», чередовались времена года. И так было от веку.
Изображая жизнь саванны, писатель не идеализирует природу, обращаясь к тем ее сторонам, которые с точки зрения человека свидетельствуют о противоречиях внутри нее. Ч. Айтматов с учетом природных законов стремится объяснить и их. В частности, он пишет о том, что в природе одна кровь дает жизнь другой крови… – «так поведено началом всех начал, иного способа не будет, и тут никто не судия, поскольку нет ни правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил одну кровь для другой» (Айтматов 1987: 29). Как справедливо отметил один из исследователей «Плахи», «мысль о том, что в “естественных вещах несправедливости не существует”, что в природе царит “изначальное равновесие”, будет находить в романе постоянное подтверждение» (Агеносов 1987: 112).
В философском романе Ч. Айтматова наряду с проблемой взаимоотношений человека и природы ставятся субстанциальные вопросы добра и зла, свободы и необходимости, бытия человечества и планеты. В нем речь идет о «трагической необходимости в познании добра и зла» (Айтматов 1987: 8). Сам автор идет по этому пути до конца. Движущей пружиной в сюжетостроении романа и является это «познание», реализующееся не только в трагическом противостоянии человеческого мира природному, но и в противопоставлении сегодняшнего вечному; в обращении к двум мифопоэтическим символам, позволяющим раскрыть катастрофичность современного бытия: образу волчицы Акбары – «великой матери всего сущего» (Айтматов 1987: 112) – и образу Иисуса Христа. Природа и Духовность – это те критерии нравственности человека, которыми писатель меряет его.
Самопознание, по Ч. Айтматову, невозможно без решения онтологического вопроса человеческой жизни: что есть добро и что есть зло, какова взаимосвязь между ними и что есть человек по отношению к ней. В связи с мечтами Акбары о «звездном часе волка», о первой для ее детенышей охоте, мечтами, внушенными ей самой природой, или ниспосланными свыше, говорится о роли мечты в познании добра и зла. Мечта и реальность противостоят друг другу зачастую как добро и зло. Терпит крушение и мечта Авдия о спасении душ наркоманов и обер-кандаловцев, о том, чтобы «повернуть их судьбы к свету», мечта о Боге-современнике. Авдий, веривший, «как в мировой закон», в то, что «Бог живет в слове», и оно действенно в том случае, если идет от «истины подлинной и безупречной», не знает жизни, не знает того, что «зло противостоит добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим на путь зла…» (Айтматов 1987: 91).
Наряду с «подлинной и безупречной» истиной есть и «изначальный опыт добра и зла», который передается «из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира» (Айтматов 1987: 163). Гришан требует от Авдия невозможного, настаивая, чтобы он воспринимал добро и зло так же, как воспринимает их Гришан. За этой деталью кроется обобщение, объясняющее трагизм существования человека в XX веке.
Автор стремится понять человека, «единственного обладателя разума» на земле, «противоречивое существо», гения и мученика (Айтматов 1987: 25). Изображая стихию зла, объективно оценивая ее мощь и всесилие, Ч. Айтматов противопоставляет ей хрупкого человека с его идеей Бога-современника, Авдия Каллистратова.
В романе «Идиот» Ф.М. Достоевский поставил перед собой задачу «изобразить положительно прекрасного человека». По его словам, «труднее того нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался» (Достоевский 1985: 251). Ту же задачу поставил перед собой Ч. Айтматов в романе «Плаха». Может быть, этим объясняются многочисленные упреки критики в художественной бледности образа Авдия, его сконструированности, умозрительности.
Писатель в образе Авдия, как и Достоевский, стремится изобразить реального современного человека, находящегося в гуще событий, наделенного чертами евангельского Христа. «Князь Христос» – таково краткое словесное выражение нравственной сущности Льва Николаевича Мышкина, данное Достоевским в подготовительных материалах к окончательной редакции романа. Авдий Каллистратов с его идеей Бога-современника предстает в романе как «новый Христос». Сохраняя верность Учителю, он сознательно идет на мученическую смерть во имя спасения души падших и заблудших.
И князь Мышкин, и Авдий в своей жизнедеятельности исповедуют нравственный постулат, в основе которого лежит заповедь Христа возлюбить человека «как самого себя», понимаемая Достоевским таким образом: «…Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно» (Литературное наследство 1971: 173). В этом писатель видел «величайшее счастие».
Сознавая собственное назначение, князь Мышкин и Авдий Каллистратов личное приносят в жертву, жертвуя одновременно и собой. Лев Николаевич из сострадания к Настасье Филипповне и Рогожину отказывается от личного счастья и почти гибнет (по первоначальному замыслу должен был умереть, в окончательном варианте смерть была заменена глубоким душевным расстройством). «Князь совсем больной и юродивый», – по словам Достоевского. Авдий свою любовь к Инге Федоровне приносит в жертву избранному им пути – на Голгофу за грехи человеческие.
Руководствуясь «главнейшим и… единственным законом бытия всего человечества» (Достоевский 1973: 192), законом сострадания, князь Мышкин всех прощает, видит и понимает причины поступков людей, считает, что нет грехов, которые нельзя простить. Иисус Христос был «исполнен любви даже к злодеям, если только они способны еще к исправлению» (Библейская энциклопедия 1990: 762). Герой «Плахи» верит в возможность чистосердечного покаяния наркоманов и оберкандаловцев, верит в возможность воскрешения их падших душ.
Евангельский Христос отличался «безмерным смирением, благородством, кротостию, терпением и состраданием ко всем бедным и несчастным» (Библейская энциклопедия 1990: 760), он сочетал в себе чистоту и благость. Нравственный облик князя Мышкина во многом близок облику Христа, хотя герой Достоевского даже мысленно не стремится уподобить себя Ему. Авдий же Каллистратов, «скиталец» и «еретик», в больном полу-бредовом состоянии грезящий о спасении Учителя, претендует на роль ученика Спасителя и сознательно решается повторить Его путь. Князь Мышкин по приезде в Россию говорит о себе: «Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь… Я сидел в вагоне и думал: “Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь”. Я положил исполнить свое дело честно и твердо» (Достоевский 1973: 64). «Новая жизнь» для Авдия начинается с момента изгнания его из семинарии, когда он также идет к людям и стремится помочь им обрести Бога в душе. Оба героя наделены необыкновенной проницательностью. Князь Мышкин «мысли окружающих видит насквозь» (Достоевский 1974: 363).
Оба сталкиваются с непониманием, злобой, их называют чудаками, идиотами, безумцами, но они проповедуют, сострадают, стремятся разделить участь с теми, кому плохо, кто нуждается в помощи. Но если князь «влияние имеет» (Достоевский 1973: 101) на людей, «где только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту» (Достоевский 1974: 366), и результаты его благой деятельности очевидны, то у Авдия все иначе. В более жестком и трагическом мире «Плахи», в почти криминальной жизни ее героев голос Каллистратова остается неуслышанным, лишь детская душа Леньки откликается на самопожертвование Авдия во имя спасения, нравственного возрождения наркоманов, во имя искоренения зла.
В рукописях романа «Идиот» указано, что князь Мышкин спасет многих героев произведения. В частности, «он восстановляет Настасью Филипповну и действует влиянием на Рогожина. Доводит Аглаю до человечности…» (Достоевский 1974: 366). Но чем дальше Достоевский проникает в глубь реального романа, тем отчетливее осознает, что светлых решений не будет. Князь совершил лишь частицу того, что был призван и способен совершить. И в этом трагическое противоречие романа: в столкновении князя с русской действительностью. Не может существовать «положительно прекрасный человек» в этом больном мире. Мир убьет этого человека, и его миссия окажется невыполненной. К тому же приходит и современный автор, о чем свидетельствует не только жизнеописание Авдия, изложенное в первых двух частях романа, но и участь традиционного айтматовского героя – Бостона в третьей части. В связи с образами Льва Мышкина и Авдия Каллистратова, их христианской сущностью, исполнены глубокой символики названия романов: «Идиот» и «Плаха».
Вслед за Достоевским, особый интерес которого вызывало Евангелие Иоанна, Ч. Айтматов обращается именно к нему. Сравнение содержания евангельской легенды об Иисусе Христе и Понтии Пилате в интерпретации Айтматова с «первоисточником» позволяет увидеть близость первой Евангелию от Иоанна, единственному из четырех, где изложен спор о власти. Знаменитое учение Иоанна о Логосе явно прослеживается в «Плахе», однако автор опирается и на другие Евангелия, отдав все же предпочтение четвертому.
Роман Достоевского «Идиот» определенным образом повлиял на реализацию замысла Айтматова создать образ человека, следующего по пути Учителя. В художественном осмыслении и интерпретации евангельского материала «вел» Ч. Айтматова и М. Булгаков, что вполне закономерно и оправданно. Нельзя не согласиться с Г Гачевым, заметившим по поводу переклички «Плахи» с «Мастером и Маргаритой»: «…так ведь “Распятие” Джотто не мешает быть “Распятию” Кранаха: то разные парафразы и вариации исходного сюжета. И при том различен контекст этих сцен: у Булгакова он – эстетический: внутри сатиры на современность и веселой диаволиады единственный выход – художественное творчество и ради него – любовь (“Мастер и Маргарита”); у Айтматова контекст этический: человек призван к нравственному творчеству; спасение мира и ценностей человечества – через совесть, раскаяние, жертву и смелость быть “и одним в поле воином”» (Гачев 1987: 88).
Наряду с проблемой добра и зла в романе ставятся вопросы о «смысле существования человека», о том, что такое «людская жизнь», что есть истина, как взаимосвязаны жизнь и смерть («…Что такое рождение человека», и думал ли ты о том, «что смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет, но жизнь выше смерти, нет меры в мире выше жизни – и потому избегни смертоубийства…») (Айтматов 1987: 70). Многие вопросы, которыми задаются герои романа, а вместе с ними и автор, являются неразрешимыми и свидетельствуют о трагичности человеческого существования.
В романе утверждается ценность жизни, будь то волки или люди. Хотя житейские обстоятельства таковы, что они предопределяют события и судьбы, зачастую евангельская заповедь «не убий!» нарушается (Сандро, Бостон). А человек оказывается у края жизни, когда жизнь не мила, и смерть кажется лучшим исходом. Этой участью не обойдены и волки. Они, после утраты последнего своего выводка, ищут смерти, а Акбара не хочет жить.
Авдий после того, как был выброшен из поезда, особенно остро ощущает ценность жизни, хотя в отсутствие Инги Федоровны – уже после истории с наркоманами – болезненно переживает одиночество, и мысль о самоубийстве посещает его. Бостон, знающий цену жизни («цена ценою познается»), после смерти жены не хочет и хочет жить, и все-таки возрождается к новой жизни: «Жизнь пошла по новому кругу» (Айтматов 1987: 173). В финале романа этот круг завершается для Бостона, хотя герой и «продолжает свой путь». И вновь, как когда-то, ему «хотелось и не хотелось жить». Неизвестно, достанет ли ему сил, как волне Иссык-Куля, «возродиться самой из себя» для «нового круга жизни», скорее всего, нет, потому что перед этим сам Бостон осознал происшедшее с ним как «конец света», конец его «вселенной». Иисус Назарянин в романе Ч. Айтматова говорит Понтию Пилату: «…Ведь смерть каждого человека – это конец света для него…» (Айтматов 1987: 157).
Размышления Авдия о жизни человеческой также возвращаются к вопросу о жизни и смерти. «…Не бывает изолированных судеб, нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме рождения и смерти. А между рождением и смертью мы все переплетены, как нити в пряже» (Айтматов 1987: 121). «…И до чего же странно устроены люди. Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность» (Айтматов 1987: 182). Таинство рождения и любовь – ключевые моменты, противостоящие угрозе небытия, по мысли Авдия. И смысл своей жизни Авдий видит в любви.
Иисус Назарянин Ч. Айтматова говорит о том, что «тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день». Позиции Авдия и Учителя во многом совпадают. Авдий размышляет над тем, что перед каждым стоит «неизбывная задача – быть человеком сегодня, завтра, всегда». Для Ч. Айтматова нет противоречий в устройстве природного мира, где все основано на «изначальном равновесии» (Айтматов 1987: 215). В жизни же человеческого общества эти противоречия есть, они неразрешимы и трагичны.
В некоторых из них повинен сам человек. История мыслится писателем как путь, состоящий из этих противоречий: братоубийственные войны, несовершенство человеческой природы, в которой сочетаются «одновременно две противоположные силы – силы добра и силы зла», торжество добра, устремленность к божественному, возвышение человеческого духа до «вершин собственного величия» и торжество «великого зла бытия… обернувшегося маленьким успехом маленьких людей» (Айтматов 1987: 109); вечность круговращения времени, беспредельность Космоса и короткий миг человеческой жизни («измеримая жизнь»), противостояние человека природе, его одиночество среди людей, отчужденность друг от друга и др.
Не случайно этот путь представляется автору круговращением. Трагизм человеческого существования видится Айтматову в предопределенности, замкнутости этого пути. Однако возможны «прорывы», подобные божественным прозрениям, когда «дух человеческий, устремленный к вершинам собственного величия», преодолевает пространство и время, ощущая себя в единстве прошлого, настоящего и будущего: «…Мое существование словно бы вышло на вневременной и внепространственный простор, где чудодейственно совмещались все мои познания о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о будущем» (Айтматов 1987: 63).
Природа в произведениях Ч. Айтматова обладает своей внутренней гармонией, человеческий же мир – дисгармоничен и противоестествен природе. Этот разлад и может стать причиной глобальной катастрофы, неотвратимое движение человечества к которой и прослеживает писатель в «Плахе».
4. Натурфилософия А. Кима
Творчество А. Кима отличается целостностью и представляет собой единый метатекст, в котором все взаимосвязано, начиная от ранних произведений и заканчивая романами 2000-х годов. В первых рассказах и повестях заложены фрагменты мировидения, мотивы и образы, которые разовьются впоследствии в стройную философию. «Природоцентризм» А. Кима проявится в своеобразном триптихе, состоящем из повести «Лотос», романа-сказки «Белка» и романа-притчи «Отец-Лес». Их связывают воедино проблема жизни и смерти, мотивы бессмертия и всеединства, хора голосов «Мы», образы Леса, Матери-Земли (Деметры).
Обращение к проблеме жизни – смерти – бессмертия побуждает писателя к осмыслению Природы как универсума, основу которого составляют «гармонические закономерности Космоса» (А. Ким. «Отец-Лес»), Суть натурфилософской концепции автора составляет осмысление «земного мира как мира космического, не замкнутого в самом себе» (Ким, Шкловский 1990: 55).
В 1980 г. А. Ким после произведений на «злободневную» тему с узнаваемыми героями («Поклон одуванчику», «Утопия Турина») пишет повесть со странным для русской литературы названием – «Лотос», в которой центральное место занимает проблема жизни и смерти в их единстве. Что есть жизнь и что есть смерть? Каков человек на ее «пороге» и что за ним? – Вот те вопросы, над которыми неустанно размышляет автор, обратившись к ним уже в повестях «Собиратели трав» (1968–1971), «Луковое поле» (1970–1976), «Соловьиное эхо» (1976).
В первой главе повести «Лотос» чередуются картины жизни (с потребностью любить и быть вместе с любимым) и смерти (с ее одиночеством), свидетельствуя о вечности этой смены состояний, подобно чередованиям времен года или превращению в природе «неподвижного и твердого в подвижное и мягкое, холодного в теплое» (Ким 1988: 263). Отношение к смерти матери Лохова исполнено мудрости и великодушия. Ее держит прошлое, прожитая жизнь как бы заново «проживается» ею, и крепкое сердце не хочет примириться с надвигающейся смертью. В повести «Собиратели трав» А. Ким рисует духовное преображение человека на пороге смерти. Он изживает в себе страх и прозревает – смерть такое же «огромное явление», как восход, ночь, звезды, ее нужно «серьезно и с любовью постигать», как и жизнь равным образом (Ким 1988: 436–437).
Чем ближе человек к природе, тем мудрее его восприятие смерти как явления естественного. Таковы в повести «Собиратели трав» старый До Хок-Ро и Масико. Такова старуха Анна в повести В. Распутина «Последний срок». В. Распутин, как и А. Ким, раскрывает отношение детей к смерти матери. Мать Лохова и Анну – при по-своему неимоверно тяжкой жизни у каждой – объединяет философское отношение к смерти и некая «договоренность» с нею. Героиня В. Распутина, словно собравшись хорошо сделать последнюю работу, не откладывая, «решила умереть». «За последние годы они стали подружками, старуха часто разговаривала с ней». Анна верила в то, что у каждого человека своя смерть, «созданная по его образу и подобию».
По-разному умирают мать Лохова и старая Анна, первая – в физических муках и страданиях, вторая – безболезненно и легко: «Меня и тепери ишо на руках будто кто держит… Будто ниче подо мной твердого нету» (Распутин 1994: 37). Но обе – в любви к детям и с воспоминаниями о них. По-разному «проживают» переход от жизни к смерти героини. У старухи Анны остались в жизни привязанности, которые, несмотря на ее готовность умереть и опасения, что она «умаяла свою смерть», держат ее на земле. Среди этих привязанностей не приехавшая дочь Таньчора, которую мать «ждала не переставая», подруга – «долгожданная Мирониха», солнце и свет утра. Старуха Анна живет в ладу с окружающим миром, который, несмотря на ее отрешенность, продолжает ее интересовать, и она «отзывается» на солнечный свет, на происходящее рядом, на смену дня и ночи.
Мать Лохова даже голоса «Хора Жизни» не могут повернуть к жизни. Зато до предсмертного, пограничного состояния между бытием и небытием мать любила жизнь, в лучшую, самую счастливую пору ее она и окружающий ее мир были едины. И это слияние подарило ей ощущение бессмертия, а высшим смыслом его была любовь. Перевоплотившись в один из голосов Хора Жизни, она думает: «Смысл всего – любовь» (Ким 1988: 318). Вся ее «неистовая страстность… степнячки», отданная мужу, «была тайной слияния ее существа с безупречной красотою и жаром степей Кума-Манычской долины» (Ким 1988: 259). Воспоминания матери о любви неотрывны от образа степи, появляющегося в ее памяти. И в предсмертных муках она стремится туда, в степь, где была счастлива. Природное в матери-«пастушке», ее язычество наиболее ярко раскрываются в ее всепоглощающей любви к отцу Лохова, любви-вдохновении, которой ведома тайна бессмертия. С гибелью мужа «ее вдохновение было прервано».
Мать ощущает себя частью единого целого, частью «живого вещества» земли и осознает себя в одном ряду с животными, растениями, насекомыми. По словам В.И. Вернадского, «все живые организмы тесно связаны между собой в своем существовании и этим путем представляют единое целое…» (Вернадский 1989: 135). «Мой путь к бессмертию был бы так же прост, как у овцы, как у овса, как у красной с крапинками божьей коровки» (Ким 1988: 314). П. Тейяр де Шарден, оказавший влияние на мировоззрение А. Кима, писал в разделе «Любовь – энергия» «Феномена человека»: «Взятая как биологическая реальность, в полном своем объеме, любовь (то есть близость одного существа другому) присуща не только человеку. Она представляет собой общее свойство всей жизни…» (Тейяр де Шарден 1965: 259). Современные писатели видят в этом изначальную общность всего живого, единый «исток». В. Солоухин в 60-е годы как о «неоспоримой истине» писал о том, что «любовь у человека, любовь у дельфина и любовь у цветка по своей сокровенной сути ничем не отличаются друг от друга», понимая под любовью «соединение двух половых клеток». И предположил: «Может быть, нужно идти в приписывании качеств и свойств от цветка к человеку» («Трава»),
Путь матери к бессмертию «искажен, прерван и обезображен» не по ее вине. Она могла бы полнее реализовать свое материнское назначение, не отними война ее мужа. Она предстает в повести в двух ипостасях: матери (героиня не называется по имени) и «поющего голоса» (являющегося иногда в образе молодой женщины). Материнский инстинкт сближает ее с «бобрихой-матерью», приблизившейся к ее сыну и долго рассматривающей чужого ребенка. Мать боялась шевельнуться, зная, что перед нею хозяйка омута, здесь ее дом, и она может попросить мать вон. Но бобриха с сочувствием посмотрела на мать, и та подумала: могут убить «крошечных малюток наших», имея в виду своего сына и бобрят.
А. Ким – певец Лотоса, творящей силы природы, поэтизирует Любовь как некий природный закон, благодаря которому осуществляется продолжение человеческого рода. Через Любовь, через слияние с Природой мать Лохова познает тайну бессмертия, благодаря тому, что сама символизирует материнское, животворящее начало. И «в смертный час душа ее, постепенно сбрасывая житейский гнет, стала вновь прозревать высшее, самое необходимое, открытое ей во сне юности» (Ким 1988: 259), – посвящение в тайну бессмертия. Мать Лохова видит себя молодой. То же чувство переживает и распутинская Анна. Как самый памятный день вспоминается ей тот, в который она ощутила свою сопричастность природной красоте.
Видения прошлого посещают мать Лохова, чтобы раскрыть ей смысл ее земного существования. А. Ким пристально вглядывается в лик смерти, осмысливая ее как один из моментов перевоплощения, перерождения, что само по себе является «таинством природы», ее «высшим законом». И через судьбу своей героини приходит к тому, что «смерть – не последняя истина и что намного дальше нее простирается обычная любовь одного человека к другому» (Ким 1988: 339). В отличие от Кима, В. Распутину важно через отношение детей к умирающей матери и через ее мировосприятие раскрыть истинную ценность и смысл человеческой жизни. Если повесть В. Распутина заканчивается смертью старухи Анны, то смерть матери в «Лотосе» является кульминацией в развитии сюжетного действия. Со смерти матери начинается духовное преображение Лохова, длительный путь постижения жизни и смерти, единства сущего, поиска ответа на вопрос: «Зачем весь этот мир вокруг и трудная жизнь человека в нем?» Лохов, «пережив смерть матери, научился относиться к своей жизни со спокойным равнодушием и ничего вроде бы и не желать для себя» (Ким 1988: 288).
У него нет суеверного, мистического страха перед смертью матери. Его больше мучает раскаяние перед нею, невозможность облегчить ее страдания, запоздалое сочувствие горечи материнской жизни и ощущение родства с нею. Дети же старухи Анны в повести «Последний срок», духовно не прозревшие, ничего, кроме суеверного страха у постели умирающей, не испытывают. Они опасаются того, что смерть «заметит всех их в лицо». Может быть, и название повести объясняется не только тем, что Анне дарован «последний срок» жизни перед смертью, но и «последний срок», отпущенный ее детям для пробуждения души, для осознания своего родства с матерью, для понимания смысла своего существования.
Герой повести «Лотос» размышляет: если «прожить целую жизнь, лишь насыщая себя по-животному и тревожась по-звериному», то, «как можно умереть, узнав лишь страх» (Ким 1988:
295). Как можно, чтобы человек, умирая мучительно, не отверг саму жизнь, не проклял бы все. Лохову важно передать людям свое открытие: «Они имеют все права мечтать о бессмертии». Ким не был бы Кимом, если бы не вложил в уста своего героя вопрос: «Так зачем, зачем все нужно было?» (Ким 1988: 297).
В натурфилософской концепции повести важное значение имеет описание детского «мощного первовпечатления» Лохова, когда он стал свидетелем того, как «трава превращается в насекомое»: «Он был уверен, что в каждой коробочке лежит и зреет зеленый червячок, что они только так и появляются на свет – из травы… И уже зрелым человеком он, вспоминая явленное ему таинство природы, говорил себе: разве в ней не также все и происходило? Огонь породил камень, камень породил воду, вода породила землю, земля породила траву, а трава – живого червяка» (Ким 1988: 263). Каким же образом осуществляется это загадочное превращение, или появление на свет гусеницы – тайна. И. Кант заметил: «…Легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» (Кант 1964: 126–127).
Человек ощущает себя частью целого, всей Вселенной. Это помогает ему преодолеть страх смерти, конечность своего бытия. В формировании кимовской концепции мира большую роль сыграли западная и восточная философия. По его словам, философия начиналась для него с Запада, буддизм, даосизм, конфуцианство пришли потом (Ким, Шкловский 1990: 56).
В частности, в понимании смерти и бессмертия А. Ким опирается как на Шопенгауэра, так и на буддизм. А. Шопенгауэр прослеживает цепочку превращений материи: сначала она в виде праха растворится в воде, «осядет кристаллом, засверкает в металле», затем «сама собою воплотится в растение и животное» и из «своего таинственного лона породит ту самую жизнь, утраты которой боится человек». «Неужели продолжать свое существование в виде такой материи совсем уже ничего не стоит? Нет, я серьезно утверждаю, что даже эта устойчивость материи свидетельствует о бессмертии нашего истинного существа» (Шопенгауэр 1992: 91). Современные ученые подчеркивают взаимосвязь смерти и бессмертия, они, являясь противоположностями, не исключают, а дополняют друг друга. «Смерть – жестокое испытание для тела. Она полностью уничтожает его, но ей не под силу уничтожить атомы тела, и они включаются в бесконечный круговорот материи» (Полосухин 1993: 172).
В контексте этих высказываний понятнее смысл диалога – в виде чередующихся голосов – матери и сына, пришедшего на ее могилу: «Я снегом стала, а потом ручьем, который весело скакал по камешкам и раздувал свой шлейф, с крутой скалы отважно спрыгивая на каменную тропку к океану. Ты стала облаком, подводной тишью океана, струей луны на перекатах речки и звездными крупинками в бездне ночи» (Ким 1988: 283).
Сквозной идеей творчества А. Кима является идея единства сущего, взаимосвязи всего со всем. Она находит воплощение и в «Лотосе». Оформлению этой идеи способствовало, по-видимому, знакомство с работами П. Тейяра де Шардена, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского. Автор «Феномена человека» подчеркивает, что «окружающий нас универсум держится своей совокупностью». «Сотканный в один кусок, одним и тем же способом, который, однако, от стежка к стежку никогда не повторяется, ткань универсума соответствует одному облику, структурно образует целое» (Тейяр де Шарден 1965: 46). Тайную взаимосвязь между природными явлениями мечтает передать на живописном полотне Лохов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































