Текст книги "Хорошее отношение к стихам"
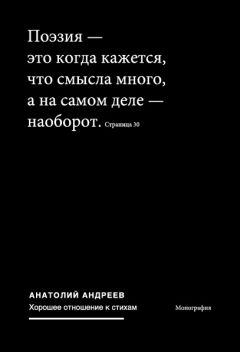
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
4. Сказание о «несказанном»: вечное в душе русского пиита
«Все пройдет, как с белых яблонь дым»: до боли знакомый мотив, не правда ли?
Это ведь не что иное, как вариация на стародавнюю библейскую тему, данная в аранжировке народной поэтики. Полновесный архетип.
Известно (а если не известно, то – да будет известно): значимость всякого поэта определяется значимостью архетипов, бытие которых он актуализирует в своем творчестве. Посмотреть на всякого поэта как на аранжировщика архетипов – вот увлекательная и прелюбопытная забота литературоведения, уже научная по своему характеру.
Есенин Сергей Александрович, согласно широко бытующему мифу о нем, – поэт увядания. «Увяданья золотом охваченный…» (Забавные темы, вроде «Есенин и революция», «Есенин и крестьянство» etc. мы позволим себе вовсе проигнорировать как мало что проясняющие в характере его поэзии. Все эти социальные заказы, натужные социальные проекции поэзии на жизнь общества – не более чем вуалирование архетипов. Нас же интересует обратная операция: обнажение первородного поэтического механизма. Поэтому оставим вышеупомянутую проблематику тем, кто хочет «заниматься поэзией», но не желает ничего в ней понимать. Кстати сказать, весьма распространенный исследовательский архетип.) Мифы же начинаются с незамечания мелочей; а вот разрушение мифов берет начало с пристрастного отношения к мелочам. Так сказать, дьявол разрушения сокрыт в мелочах, нюансах и деталях. Разрушение мифов – процесс созидательный. Поэт увядания – слишком широкая постановка проблемы. Зададимся пустяковым вопросом: увядания чего? Всего и вся? Молодости? Души? Природы? Любви? Деревни? На каждый из вопросов в отдельности можно ответить утвердительно, но это будет ответ совсем на другой на вопрос. Мы имеем в виду конкретность иного порядка. Станем придерживаться технологии выявления архетипов: что стоит за всеми перечисленными сферами бытия? Или: как назвать то общее, что проявляется как частный случай через душу, любовь, молодость?
Ответ, боюсь, может обескуражить, как обескураживает всякое неподготовленное сознание процедура выявления поэтического архетипа. Деликатным почитателям «прекрасного жрецов» кажется, что на их глазах происходит убиение духа поэзии, глумливое упрощение, диверсия в сакральное – и они мятежно бунтуют против сведения поэзии к архетипу, против подмены одного другим.
И эти благородные поэтические души правы: сводить и подменять не следует. Спешим успокоить всех ценителей и поклонников: мы не собираемся предпринимать никаких манипуляций невежественного или некорректного толка. Великая поэзия Сергея Есенина не станет ни лучше, ни хуже оттого, что мы умозрительно поместим ее в научную систему координат. Поэзия останется поэзией, не более и не менее того. Вуаля.
А ответ таков: речь идет о неизбежном увядании жизни, о неумолимом приближении и наступлении ранней, первой, первоначальной стадии смерти. Вот это пограничье, эта диалектическая зона перехода качеств и состояний – метафизически потрясли сверхживую душу поэта, чуткую к уязвлениям подобного рода. И не душа даже, а «лира милая» запела – современным языком о вечном.
Для обычных, нормальных людей с их нормальной глухотой к экзистенциальным состояниям эта пора колебания духа проходит почти незаметно. Поэт же сделал ее своей золотой жилой. Когда «буйная молодость» заговорила о предчувствии смерти – тысячекратно обострилось восприятие кратковременности жизни. И Есенина почему-то хочется назвать жизнелюбом. На самом деле его интересует цветущая жизнь, тронутая едва заметным тленом увядания. Становится невыносимо жалко и мучительно больно. Отсюда: «не жалею, не зову, не плачу», то есть настолько хочется «жалеть, звать и плакать», что изо всех сил не жалею, не плачу… Эти сдерживаемые, укрываемые рыдания и есть суть поэзии Есенина.
Именно здесь, как нам представляется, следует искать разгадку того, что с Есениным, эпоха за эпохой, с равным наслаждением общаются и просвещенные души культурной элиты и публика попроще. Простота архетипа стала изысканной простотой, формой глубины. Это уже дар, этому не научишь; а вот поэт научил целую нацию, цивилизацию и культуру выворачивать наизнанку миги бытия, останавливать особые мгновения, отражающие вечность. Он «специализировался» на этих смутных состояниях то ли радости, то ли отчаяния. Он дал язык этим состояниям, ввел их в культуру – адекватно отразил русских. Это, несомненно, воспитывает душу, ибо говорит ей то, что она так желала и страшилась услышать. Есенин достучался до русского сердца и русским поэтическим языком внятно сказал всемирное: все пройдет. При чем здесь революция, его пьяные дебоши и политические спекуляции вокруг его имени?
Он – поэт, и не золотой бревенчатой избы (не верь, не верь поэту, читатель) – а того, что пришло «процвесть и умереть». Изба – так изба, молодость – значит молодость. То, что, повторим, жалко терять: молодость, родину, любовь. Неизбежность и неотвратимость утраты Есенин чувствовал необычайно остро. Потому и разработал язык прощания: «отговорила роща золотая березовым веселым языком», «в душу плачут чибис и кулик», «эх, ты, молодость, буйная молодость, золотая сорвиголова»… Переживание предстоящего ухода грустно примиряет с этой неизбежностью: вот такой парадоксальный тип катарсиса предложил нам поэт. Тут и христианский мотив присутствует, некий культурный сюжет (особенно в ранней лирике). Однако метасюжет и метаязык – это, повторим, архетип увядания, прощания, ухода, мотив неизбежного обращения жизни в смерть. Все пройдет.
В силу широкой известности и чрезвычайной популярности текстов Есенина примеры, иллюстрирующие вышеизложенную концепцию, приводить представляется как-то неуместным. И все же мы обратим внимание на изобилие чеканных формул, лаконичных строгих образов, в которые облечен сей как бы простой, но ужасно экзистенциальный мотив. И среди них есть – исключительные:
Увядающая сила!
Умирать – так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.
Какой энтузиазм умирания, подозрительно напоминающий жажду жизни! Жизнь или все-таки смерть воспевает не только приведенная строфа, но и стихотворение в целом («Ну, целуй меня, целуй…»)?
Поразительная амбивалентность образов – поразительная честность восприятия. «Песню тлен пропел и мне»: вам когда-нибудь доводилось слышать о музыке смерти?
А это и не музыка смерти вовсе, это все то же прощание с жизнью, ибо субъекта лирического монолога настигло предчувствие смерти.
Жизнь – обман с чарующей тоскою…
Поэтому:
Оглянись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно желтый ворон
Кружит, вьется над землей.
Неспроста Есенин так облюбовал и обласкал луну-вещунью: это свет, присущий тьме. «По луне гадая о судьбе…» Или:
В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет.
Интересно сравнить восприятие луны «деревенским» поэтом и жителями небезызвестной деревни Обломовка. Пейзане Гончарова, не любящие хлопот и треволнений, всячески избегали роковой семантики, заключенной в холодном слове луна, и предпочитали безобидное «месяц», который стал у них едва ли не предметом домашнего обихода, напоминающим «медный вычищенный таз». Они приручили, одомашнили тревожащее душу одинокое ночное светило, поэтизируя его как символ простой и понятной, преимущественно растительной, жизни. «Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам.
А в этом краю никто и не знал, что за луна такая, – все называли ее месяцем. Она как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз.
Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее: она так же бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты».
У Есенина что месяц, что луна – источник света «с того света»: «свет луны, таинственный и длинный», «золото холодное луны», «отчего луна так светит тускло» или «грустно», «неуютная жидкая лунность»… Конечно, и у Есенина можно найти нечто подобное обломовской интерпретации: «рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани», «иль хочешь в косы-ветви ты лунный гребешок» etc. И дело даже не в том, что примеров такого рода значительно меньше; дело в том, что, определяя луну «по хозяйству», Есенин не стаскивает ее с небес, не приземляет: он, напротив, возвышает земное.
Между прочим, любимые цвета Есенина – синий, голубой, золотой – в выстроенном нами контексте тоже играют, так сказать, совсем иными красками. Можно сколько угодно говорить о символике этих цветов вообще, однако «синий» и «золотой» у Есенина любят сочетаться и несут печаль. Мало того, что они пикантно блекнут, светятся неброскими, небуйными тонами, они недвусмысленно источают грусть, становятся способом поэтизации печали, светлой скорби, уже не философско-библейской, а русской.
Несказанное, синее, нежное…; Голубой простор и золото Опоясали твою тоску; Хорошо бродить среди покоя Голубой и ласковой страны; Светит месяц. Синь и сонь. (…) Свет такой таинственный, Словно для единственной – Той, в которой тот же свет И которой в мире нет; Мир тебе, отшумевшая жизнь. Мир тебе, голубая прохлада; И звенит голубая звезда; Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет; Я ль не робею от синего взгляда?; Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным. (…) Сердце остыло, и выцвели очи… Синее счастье! Лунные ночи!
Не счесть. Цитировать бессмысленно, настолько этого много и настолько оно очевидно.
Наконец, в связи с судьбой поэта затронем деликатную тему его смерти. Судя по всему, здесь много неясного. Однако до все той же очевидности ясна одна вещь. Не сомневаюсь, что читатель почти догадался, о чем я собираюсь говорить. Я не хочу сказать, что Есенин искал смерти; я хочу сказать, что он поразительно быстро и жадно исчерпал свою главную тему, так сказать, прожил поэтическую жизнь. Вы можете себе представить иную, нетрагическую кончину великого русского поэта? Вы можете себе представить красавца-хулигана, отмеченного роковой печатью, седобородым мэтром, умеренным в желаньях?
Я не к тому, что это должно было случиться, и что это хорошо. Ничего хорошего в ранней смерти гения нет. Я хочу сказать, что всем своим творчеством поэт бросал вызов себе же, дразня судьбу; отчего не допустить, что он мог этот вызов принять? Сергей Есенин повенчал молодость и смерть – «розу белую с черной жабой». Он сумел ощутить дыхание смерти сквозь «половодье чувств». Увясть безвременно душой, чтобы талантливо пропеть об этом: это уже не художественный эксперимент, это судьба. Есенин: звукообраз «синий» в сочетании с семантикой древне-русского «есень» (осень) как бы окрашивают фамилию в «осенне-синие», печальные тона. И одновременно – в весенние, радостные. Весна продляется в осень. Сергей Есенин – уже само по себе является поэтической находкой, а в контексте его творчества воспринимается как полноценный образ, как удачный псевдоним, органично продолжающий линию творчества. Фамилия – словно предначертание или «роковая печать»: она слилась с поэзией и стала символом уникального совпадения творчества и судьбы. А ведь еще можно вспомнить, что Сергей Александрович до боли напоминает Александр Сергеевич…
Все эти рассуждения – голая психология, как любил говаривать незабвенный Порфирий Петрович. Это всего лишь продление поэтического сюжета, который не имеет никакого отношения к тому, что было на самом деле. Я всего лишь обращаю внимание на то, что ранняя смерть, гибель Есенина воспринимается – увы! – естественно, ибо сам противоестественный контакт молодости со смертью настораживает, пугает, леденит душу, заставляет подозревать, что Есенин знал больше, чем положено знать простым смертным.
Так или иначе несомненно одно: поэты (те, которые «от бога») реально расплачиваются за ниспосланные им откровения: за сверхчуткость – сверхранимостью, за любовь к жизни – роковым вниманием к смерти, за неумение думать и понимать себя «расплачиваются» способностью невероятного дара самовыражения, за муку немоты – доступом к архетипам. Они расплачиваются, но и с ними расплачиваются. Кому много дано – с того много и спросится. Поэтам дано вступить в сакральный диалог с самой сутью жизни. Краткая, мифически целостная (неотделимая от творчества) жизнь поэта становится достойной внимания вечности. Это так. Sic.
Интересно вот что: не екклесиастическое спокойствие, почти равнодушие в духе сфинкса стали пафосом Есенина (это всего лишь побочное следствие, разумная реакция на неразрешимость ситуации) – а переживание неповторимого в вечно повторяющемся мире.
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.
И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо. (…)
И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.
«В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей»: узнали? Все пройдет. Ничто не ново под луной. И все же: неповторимое – это признак живого, уникальная, ни на что не похожая, «новая» поэзия Есенина, – это гимн жизни-весне, а не примирение со смертью-осенью. Не верьте поэту (или: поймите его): он не спешит навстречу смерти, ему жаль расставаться с жизнью. Есть разница.
Поэт «мыслит» архетипами. Он заложник архетипа, его певец и «язык». Литература кончается там, где творец или читатель, неважно, начинает понимать, осознавать, какой архетип проступает сквозь поэтические кружева. Все, что до понимания и вместо понимания, – это литература.
Величина и величие поэта определяются его склонностью и способностью бессознательно аккумулировать архетипы. Оригинальный поэт (и человек) – это необычно явленный архетип. Сама способность и вкус к новому обозначению старого называется жизнь. Поэтизация и есть симптом жизни или, если угодно, средство побеждать на время смерть, отодвигать ее неизбежность.
Потому мы и читаем вечно живого Есенина: жить хочется.
5. Образ Первой Мировой войны в художественной структуре поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина»
Тема Первой мировой войны не заняла в русской литературе того места, которое, по идее, должно было занять подобное эпохальное событие мирового масштаба. Эта война не стала фактором духовного потрясения нации, способным породить феномен «потерянного поколения», как это случилось в странах Западной Европы; такого рода феномен не мог не отразиться на европейской духовной культуре в целом и в художественном творчестве в частности (особенно в литературе и живописи – достаточно вспомнить одно только чрезвычайно продуктивное направление экспрессионизм).
И вовсе не потому, что Россия не принимала участия в мировой войне или не ощутила всей «прелести» бессмысленной бойни. Принимала и ощутила, конечно. Более того, если говорить о некой абсолютной величине потрясения, вызванного войной, о потрясении, которое может быть измерено и описано в соответствующих категориях по шкале экономической, политической, нравственно-философской, то Россия, безусловно, в полной мере ощутила на себе воздействие мирового катаклизма, соприкоснулась со всем комплексом проблем, связанных с понятием «война мирового масштаба в ХХ веке».
Однако Первая мировая, повторим, парадоксальным образом не стала фактором колоссального воздействия на нацию, не вошла в ментальность русских как судьбоносная точка отсчета. Почему?
Ответ, каким он видится гуманитариям-литературоведам, лежит на поверхности: Первая мировая война в исторической ретроспективе не стала самоценным и центральным событием для Российской империи, она явилась лишь прологом к потрясениям и катаклизмам такого масштаба, что катастрофа Первой мировой просто померкла на фоне Октябрьской революции, гражданской войны и, мягко говоря, «проблем», связанных с последующим построением нового общества. Исторический шок от внутриреволюционных событий на одной шестой части суши планеты Земля оказался для русских несопоставимо большим, нежели шок от Первой мировой, как это ни прискорбно. Отечественной стала не Первая мировая война, а Великая Октябрьская социалистическая революция. Первая мировая оказалась в тени Великой Октябрьской.
Показателен в этой связи художественный опыт А.А Блока (который, кстати, служил вблизи фронта, на Пинщине, где и получил звание офицера): на революцию он мгновенно откликнулся знаковой поэмой «Двенадцать» (январь 1918 г.), куда «упрятаны» отголоски войны, а вот события Первой мировой не стали непосредственным поводом для создания философско-эпического полотна. «Черный ветер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем белом свете» – это всемирный резонанс от революции в одной, отдельно взятой стране, а не от мировой войны.
Разумеется, мы отдаем себе отчет, что затронутая нами тема обладает известным потенциалом исторической неоднозначности. Возможно, не будь пролог таким кровавым, не было бы и самой революции. Но здесь, увы, уместно вспомнить о сослагательном наклонении в истории и в этой связи уточнить: мы говорим не о фактической историко-культурной значимости Первой мировой, не о ее удельном историческом весе, не о восприятии этой войны как звена мировой истории (и о сопутствующих такому восприятию спектру исторических ракурсов); мы говорим о ее восприятии русским литературно-художественным сознанием. Нас интересует то, как виделась и оценивалась война русскими писателями и поэтами.
Почему мы остановили свой выбор на лиро-эпической поэме Сергея Есенина?
Во-первых, выбор значительных и знаковых произведений, в которых мотивы, связанные с Первой мировой, стали художественной тканью или, если угодно, фактором художественности, у нас не особенно велик. События Первой мировой «аукнулись» в немногих произведениях Л. Н. Андреева (далеко, кстати, не выдающихся по своему художественному уровню), впечатляюще и концептуально отражены в эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон», обозначены в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», исследованы в известной хронике А.И. Солженицына «Красное колесо», так или иначе затронуты в прозе К.М. Паустовского, И.П. Катаева, М.М. Зощенко, в некоторых других заметных, оставивших свой след в литературе произведениях. (Отметим, что «биография писателя и Первая мировая война» – это особый поворот темы, который является для нас второстепенным.)
Во-вторых, почти во всех названных произведениях (за исключением драмы Л. Н. Андреева «Король, закон и свобода» (1914), его повести «Иго войны» (1916) и – с некоторой натяжкой – «Анны Снегиной») события Первой мировой воспроизводятся уже не по горячим следам, а в формате необходимой автору философии истории, события эти, так сказать, «видятся на расстояньи»; отсюда, с одной стороны, высокая степень идеологического обобщения (преобладает либо «советская», либо «антисоветская» интерпретация), с другой – субъективизма, которые мешают воспринимать объективную реакцию мыслящей интеллигенции на те события.
В-третьих, лиро-эпический дискурс применительно к избранной нами теме обладает одним несомненным преимуществом: непосредственный поэтический отклик имеет не только художественную (как в данном случае) ценность, но и историческую. Есенин – очевидец и участник событий. В 1916 г. его призвали на военную службу и прикомандировали к Царскосельскому военному госпиталю в качестве санитара.
В-четвертых, Есенин – поэт первой величины, национальный и, без натяжек, мировой классик, масштаб его дарования, включающего в себя исключительную чуткость не только к душевным движениям, но и социальным колебаниям, дорогого стоит и как инструмент сканирования общественных интересов. Доминанту общественных настроений, их баланс Есенин улавливал тонко и безошибочно. Первая мировая в контексте колоссальных национальных потрясений глазами Есенина – это уникальный художественно-исторический документ.
Итак, нас будет интересовать образ Первой мировой войны как компонент художественной структуры лиро-эпической поэмы «Анна Снегина».
Произведение было написано в январе рокового для поэта 1925 года. В декабре Есенина не стало. Печать итоговости, несомненно, так или иначе различима в этом выдающемся произведении.
Первые четыре части поэмы посвящены периоду с апреля по октябрь 1917 г., периоду, когда война фактически уже закончилась, а революция еще не началась; последняя, пятая, часть поэмы ненадолго переносит нас в июнь 1923 г.
Таким образом, в поле зрения поэта оказываются шесть лет, при этом ни Первая мировая, ни октябрьские события, ни гражданская война, ни социалистические преобразования сами по себе в поэме не описаны. Исторические события становятся едва ли не досадным вкраплением в личную жизнь. Вот как это выглядит в поэме (цитируется по изданию: Есенин С.А. Полн. собр. соч.: В 7 т. – М., 1995–2002 г., курсив мой – А.А.):
Я рад и охоте…
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!»
Пока Сергей Есенин охотился, развеивая тоску, в стране свершилась революция и к власти пришли большевики.
Главный художественный принцип поэмы – частная история, о которой некорректно было бы сказать, что она разворачивается на фоне исторических событий (такая формула, механически соединяющая историю и историю жизни, по сути неверно отражает насыщенную диалектикой художественную методологию); здесь частная история становится возможной благодаря такого рода событиям, не переставая при этом быть частной, даже интимной.
Иными словами, Есенин реализовал модель личности в достаточно редком модусе, а именно: личное, оставаясь таковым, непосредственно отражает общественное бытие. История (а не интересы государства!) становится личным делом – но только личность при этом не превращается в героя, движущую, хотя и слепую, силу истории (это как раз широко распространенное явление), а пропускает ее через ум и сердце. Личность не служит истории, не ощущает себя ее орудием, а, скорее, превращается в ее жертву, поскольку «избежать» истории не представляется возможным. Подобное органическое (не механическое!) соединение социоцентризма с персоноцентризмом возможно только во дни эпохальных перемен, и подобный симбиоз позволяет верно отразить сам дух экзистенциально-исторических перемен.
Лирического героя поэмы Сергея Есенина можно сравнить с героем другого «романа в стихах» – с Евгением Онегиным. Последний мог позволить себе роскошь отвлечься от истории и выстраивать личное бытие именно и принципиально как личное, весьма условно зависимое от истории (хотя Отечественная война 1812 года была для Онегина не пустым, далеким звуком, а живым, вчерашним звуком: Татьяна Ларина вышла замуж за «важного» генерала, скорее всего, героя Отечественной; чего ж вам больше!). Подобный аристократизм был, помимо всего прочего, еще и исторической привилегией Онегина.
Сергей Есенин, герой поэмы «Анна Снегина», не может уклониться от истории как от некой разбушевавшейся стихии («буря», «суровые, грозные годы», блоковский «черный ветер»), которая в качестве среды обитания входит в его духовный состав. Любой человек, даже Евгений Онегин, в ту эпоху (с апреля 1917 г. по июнь 1923 г.) обречен был стать историческим человеком: в этом состояла правда жизни, управлявшая логикой формирования исторической личности. Аристократизм не то чтобы перестал быть адекватным жизни – он (на время?) перестал быть жизнеспособным (что художественно «доказывает» история Анны Снегиной).
В таком контексте образ Первой мировой становится частью духовной истории личности. Война вторгается в поэму как точка отсчета, как глубоко личная история:
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год. (…)
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу…
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.
Герой поэмы Есенин, по сути, дезертировал не с войны, как это сделал реальный Сергей Александрович в 1916 г., – он пытался дезертировать с социального фронта, как Онегин; но разве можно дезертировать с мировой войны, с революции, которая затеивалась как планетарная («мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» – глас народа из «Двенадцати»), с гражданской войны, где «недобитые буржуи» «снегины» шли на закабаленных «оглоблиных», – разве можно дезертировать из истории?
Если и можно, то лишь только в частную, личную жизнь. Вот почему Анна Снегина появляется в поэме как непосредственное продолжение истории, как ее желательная позитивная версия – как то самое сослагательное наклонение.
В разговоре с Анной Сергей Есенин касается темы войны лишь намеками, либо вообще демонстративно уходит от темы:
«Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь…
Отделано четко и строго.
По чувству – цыганская грусть».
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?»
«Не знаю».
«Кому же знать?»
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».
Наедине с собой поэт куда как более откровенен:
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.
Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.
Это зерна поэтически выраженных настроений потерянного поколения. Ведь «стихи про кабацкую Русь» – это своего рода движение сопротивления. «Кабак» как альтернатива «фронту» – это единственное, что остается не устоявшему на ногах, заблудившемуся в бурю человеку. Обратим внимание: стихи «отделаны четко и строго». Продуманы. Это осмысленная позиция: личный бунт против бессмысленности исторического движения.
Есенин как-то четко сформулировал: «Я последний поэт деревни». Это мягко сказано. На самом деле, у него были основания выразиться короче, точнее и безнадежнее: «Я последний поэт». Ведь поэтизировать можно только то, что так или иначе связано с личностным измерением. Если жертвой истории становится личность, то поэты гибнут первыми. Просто в силу своей невостребованности, ненужности, становясь лишними в буквальном смысле.
Но «потерянные» настроения лишь фрагмент, лишь момент в контексте, который складывается фатально, независимо от воли человека (главный герой обреченно роняет: «тех дней роковое кольцо»). Деревенская Россия живет своими интересами («Прогнали царя…», «Сплошные мужицкие войны – дерутся селом на село»), и все происходящее действует на Сергея Есенина (главного героя поэмы, напомним, а не известного всем классика) точно так же, как и война «за чужой интерес» – угнетающе, губительно. В конце концов, в октябре 1917 он «быстро умчался в Питер, развеять тоску и сон».
Так вот, мужики озабочены вовсе не тем, что они «игрушка», что их, эту «сермяжную рать», словно пушечное мясо, «сгоняют на фронт умирать», что война превращает их в «уродов и калек». Гораздо более их волнуют «новые законы», а также «цены на скот и рожь». Они спрашивают у «охотника» и «беззаботника», который интересен им не как поэт, конечно, а как человек, который «с министрами, чай, ведь знаком»:
«Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».
О войне – вскользь, и только в связи с «пашнями господ». Деревенская, нутряная Россия («Расея… Дуровая зыкь она», – по словам мужика, мельника) озабочена сугубо своим, приземленным, мужицким интересом, который для поэта также оказывается чужим.
Гораздо ближе он принимает к сердцу происходящее не в социальной, а в личной жизни. Вместе с Оглоблиным Проном, героем новой жизни, Сергей Есенин направляется к Снегиным «просить» помещицу отдать свои «угодья» «без всякого выкупа» с мужиков – то есть вместе с большевиком едет экспроприировать, «грабить награбленное». (Справедливости ради отметим, что роль Есенина в предстоящем революционном действе неясна; не исключено, что поэт решил воспользоваться нелепым предлогом «именем революции» как поводом для личной встречи; и таких «темных» мест в поэме предостаточно). Этот Прон, по словам жены мельника,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
Однако дело приняло лирическо-исторический оборот: у Анны на войне погиб муж.
«Убили… Убили Борю…
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы – жалкий и низкий трусишка.
Он умер…
А вы вот здесь…»
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе…
Поедем-ка, Прон, в кабак…»
Вот, собственно, построчно все, что в поэме так или иначе связано с войной. Немного, да, – при этом ровно столько, сколько занимала война в сознании «народного» поэта.
Вскоре, разумеется, вслед за 17-м, неотвратимо наступили «суровые, грозные годы», которые шли «размашисто, пылко». Наступило время Оглоблина Прона, и этот «булдыжник» делится с Сергеем Есениным как «самым близким» (!):
Дружище! (…)
Теперь мы всех р-раз – и квас!
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин – старшой комиссар.
Это как раз тот случай, когда, выражаясь в сермяжной стилистике, снявши голову – по волосам не плачут. Какая уж тут Первая мировая, когда со страной происходит такое, что никаким немцам и не снилось! Горько-иронически звучат слова мельника (из его письма «беззаботнику» 1923 года): «Теперь стал спокой в народе, и буря пришла в угомон». Какой уж тут «спокой», когда Оглоблины становятся героями времени! Брат Прона, Лабутя, «хвальбишка и дьявольский трус», «поехал первый описывать снегинский дом». Деникинцы «чикнули Проню», а Лабутя в пьяном угаре требует себе «красный орден». Крестьяне сбросили иго Снегиной, чтобы новая власть в лице вечно пьяного Лабути защищала их интерес?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































