Текст книги "Хорошее отношение к стихам"
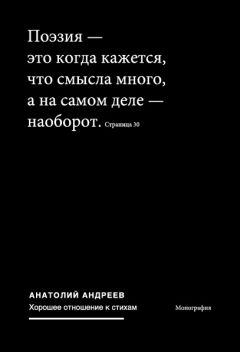
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
При этом Лабутя не представляет собой нечто инородное или экзотическое, он плоть от плоти «дурового» народа. Он «такое» же, как народ: «Он – вы».
Как потом выяснится, это было затишье перед еще более грозной бурей.
Почему же поэма о «буре», вызванной «черным ветром», названа столь поэтически – «Анна Снегина»?
С одной стороны, налицо дань традиции: эпос в стихах «Анна Снегина» демонстративно апеллирует к роману в стихах «Евгению Онегину», это даже не столько литературная реминисценция, сколько культурная цитата. С другой – подобное название столь же демонстративно задвигает главного героя, Сергея Есенина (вновь очевидная перекличка с Евгением Онегиным), в тень, хотя вся поэма держится на мировосприятии главного героя, Анна Снегина – всего лишь эпизод, штрих его исторической биографии.
Как свести концы с концами?
Тут самое время вспомнить о том, что поэма написана в лиро-эпическом ключе, не в лирическом, не в эпическом, а буквально: в лиро-эпическом. Лирический образ Анны Снегиной становится эпической, исторической характеристикой. «Снег», символ чистоты, свежести, первозданности, в сочетании с «негой», вызывающей ассоциации с чем-то дворянским, аристократическим, онегинским – это характеристика ушедшей навсегда России, той России, где личность была далеко не последней фигурой истории: «Далекие милые были!.. Тот образ во мне не угас». Личностное начало образа Анны Снегиной подкрепляется тем, что поэт Сергей Есенин продуманно сделал героем своей поэмы поэта Сергея Есенина, подчеркнув тем самым глубоко личный характер эпоса.
Снегина, в свою очередь, по смыслу и поэтической логике рифмуется не только с Онегиным, но и Есениным, как зимний снег – с осенней сыростью («Наверно, в осеннюю сырость Меня родила моя мать»). Снегина – это лучшее, что было в Есенине; более того, это возможная, но, увы, навсегда утраченная, «милая» перспектива Есенина, которая находится теперь далеко, за семью морями. Собственно, в прошлом. Более того, Снегина – это родовая характеристика, это лучшее, что может быть в поэте. В личности вообще.
Отсюда тоска по личности – частые ностальгические перепевы, буквально прошивающие поэму насквозь и связанные с временами года, с переменами, с неотвратимостью перемен, с фатальным круговым движением – то ли вперед, к личности, то ли вспять, от нее: «Но вы мне по-прежнему милы, как родина и как весна»; «Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас»; Есенин (осень); милая Снегина (зима)…
Анна «беспечным почерком» пишет в письме Сергею из Лондона (высказывая то, что лежит на душе у поэта, но который уже не может позволить себе роскошь говорить то, что думает; отсюда горький комментарий к ее письму: «Я в жисть бы таких не писал»):
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна…
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна.
В «Анне Снегиной», как и в поэме А.А. Блока «Двенадцать», передано движение самой истории, только движение, увиденное и оцененное не народом, а глазами личности. Вот эта лирическая формула – то ли на радость, то ль в страх – также становится принципом эпического повествования. Было Радово – стало сплошные корявые Криуши. Радость ушла. Движение от эмоционально-семантического концепта «Анна Снегина» (за которым сквозит «Евгений Онегин», «Сергей Есенин») к иному концепту, «Лабутя Оглоблин» (карикатурный Ослябя новейшего времени), не может не расцениваться как трагическое. В этом контексте Первая мировая – это из того времени, когда у Анны, в которую был влюблен Сергей, был муж Боря, который воевал за ту Россию, которой не стало. Это ностальгическое, даже мифическое время, связанное с возможностью проявляться человеку как личности (Онегин, Снегина, Есенин). О том времени можно сказать «мы все в эти годы любили», или «война мне всю душу изъела» или что-нибудь еще, связанное с умом и душой.
Поэтому: «И сердце по-старому бьется, Как билось в далекие дни».
О новом времени можно сказать только осторожно и двусмысленно: «Теперь там достигли силы»…
Итак, образ Первой мировой войны в лиро-эпической поэме «Анна Снегина» становится, как и все, связанное с образом Снегиной, многоплановой «подготовкой» 17-го, этой новой роковой точкой отсчета. Анна Снегина далеко, в Лондоне, не в России; но она жива («Вы живы?.. Я очень рада… Я тоже, как вы, жива»). В России остался последний поэт Сергей Есенин, «уж старик по годам», пока живой, то ли на радость, то ль в страх. Слабая надежда пульсирует и в заключительных строках поэмы: «Мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас», которые перекликаются – роковое кольцо! – с заключительными строками первой части: «Мы все в эти годы любили, но мало любили нас».
В заключение хотелось бы вспомнить такую строку из поэмы, которая как-то теряется, несмотря на то, что она является сокровенным признанием героя поэмы: решил лишь в стихах воевать. Против кого или, точнее, за что воюет поэт?
Он отстаивает ту культурную тенденцию, имя которой персоноцентризм. Разумеется, любая война «изъедает душу», и «стихи про кабацкую Русь» являются тому красноречивым примером. И тем не менее – это культурная форма сопротивления. Поэт воюет не против Лабути, Прона или революции; он протестует против исторического уничтожения личности, близко принимая к сердцу эту печальную историю.
Война против любой войны, будь то война мужицкая, гражданская или мировая, война за право не воевать, война в стихах за право иметь возможность быть и оставаться личностью – это единственная известная истории гуманистическая война.
Собственно, настоящая литература только этим и занимается.
6. Культурное содержание «Писем римскому другу» И. Бродского: актуализация литературной традиции
«Письма римскому другу (из Марциала)» И. Бродского (1972) великолепно иллюстрируют формулу, отчеканенную некогда Пушкиным прямо на куске холодного отчаяния, который незадолго перед этим представлял собой клокочущий, трагически обжигающий ментальный сплав (метаморфозы!): «на свете счастья нет, но есть покой и воля» («Пора, мой друг, пора», 1834). При этом отношения «счастья» и «покоя и воли» можно трактовать как частное проявление универсальных отношений культура – натура. Какие у нас на то есть основания?
Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно) – психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции.
В связи с этим все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности имеют три измерения (в этой фразе все слова ключевые; но ключ ко всем ключам – маленькое неприметное слово «все»).
Так, счастье (как и свобода, любовь, достоинство, истина, добро, красота – все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности) часто становится категорией, обозначающей ряд чувств, ощущений – категорией натуры, но не культуры (где мироощущение начинает уже зависеть от мировоззрения, где само непосредственное ощущение становится вторичным в акте познания и не определяет уже философию).
И это так, да не так.
В контексте культуры, принципиально ином информационном контексте по сравнению с натурой, «любовь», «счастье», «свобода», «гармония», «истина» (этот экзистенциальный ряд легко продолжить и, в принципе, исчерпать) – понятия близкородственные, расположенные в одной плоскости, каждое из которых может становиться либо «частью» другого «целого» (например, любовь – необходимая составляющая счастья), либо в свою очередь выступать «целым», превращая иные составляющие в «моменты» своей структуры – что, конечно, не проясняет саму суть «счастья» (любви, гармонии) как категории культуры, духовной категории, имеющей непосредственное отношение к натуре, категории бездуховной.
Существует «счастье» на уровне тела, душевно-психологическое счастье (в том числе его социально-психологическая проекция) и, наконец, счастье порядка духовного (информационная основа которого – разум, а форма – философия).
Если мы говорим о счастье телесно-психологическом, о «витальном» состоянии человека, то оно, действительно, непосредственно связано с чувствами, с жизнью, с натурой. Если мы связываем счастье с культурой, с личностью, с ментальным уровнем витальности, все резко усложняется, и миллиарды людей, увы, почувствуют не только краткость, но и принципиальную неполноту своего счастья. Почувствовав это, они с еще большим энтузиазмом станут цепляться за доступное им счастье «быть человеком» – за счастье «натуральное», сердечное, простое. Культура становится угрозой их счастью – то есть в полном смысле несчастьем, ибо счастье для них есть отсутствие несчастья.
В подобном же ключе следует интерпретировать и понятие свободы.
Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начинается с нее: точка отсчета здесь подвижна). Человек, который ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном комфорте, как волю, является рабом природы. Его свобода ограничивается заточением в телесно-психологическую оболочку. Если человек свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою информационную природу в полном объеме, свобода «душевная», в том числе политическая и экономическая, становятся условием реализации главной свободы.
Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу исключительно как свободу двух низших порядков, свободу телесно-психологическую. Какова свобода – таково и счастье. Глупый человек не может быть свободным или счастливым, но хочет им казаться.
Способность быть адекватным природе человека в полном объеме – вот что такое свобода (в аспекте информационном). Свобода тела и души – это замечательно; однако без свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для человека.
Свобода – вот фундамент счастья для умного человека.
Пушкинский Онегин говорит в письме к Татьяне:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Онегин «думал» (принимая императив «познанной необходимости»): «вольность и покой» (результат умственного – но пока еще не разумного! – отношения: свобода как плод уже сознательного выбора) замена «счастью» (то есть в его тогдашнем понимании свободе телесно-психологического, бессознательного порядка). Но Онегин ошибся – и в этом глубоко прав автор. На самом деле все с точностью до наоборот. Где свобода – там и счастье. Нельзя противопоставлять «свободы» разных уровней; и реализация высшего уровня свободы, пусть высшего, но одного, – это еще не счастье. Счастье – это не «замена» одной свободы другими аспектами свободы, а их полноценное соприсутствие в том модусе, который называется гармония. Свобода, реализованная в рамках познанных законов, в том числе закона любви, – это счастье умного человека.
Любовь рассматривается как духовный закон для личности. Поэтому справедливо и такое утверждение: любовь – это счастье умного, следовательно, свободного, человека.
Формой существования счастья становится не миг жизни, а краткая, словно миг, жизнь, прожитая по меркам вечности.
В таком своем качестве и любовь, и свобода, и счастье превращаются в категории культуры – и противостоят «любви» (страсти), «свободе» (воле), и «счастью» (безмятежному покою, источнику удовольствия), которые, по сути, являются категориями натуры. В контексте культуры – в целостном информационном контексте – и свобода, и достоинство, и любовь, и все на свете обретают свой завершенный человеческий (гуманистический) облик. Понятно, что в таком контексте счастья не бывает не только без философии и без свободы, но и без любви. Кстати сказать, «структура» счастья (философия – свобода – любовь) – это, с одной стороны, проекция общей информационной структуры человека (тело – душа – дух), а с другой – проекция «части» структуры, «духа» (истина – добро – красота).
Счастье – целостно, будучи моментом целостности иного порядка.
Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: человек или личность? Мироощущение или миропонимание? «Покой и воля» или «счастье»? Цивилизация (натура) или культура?
Ранее, в «Евгении Онегине» (закончен в 1830), как мы только что отметили, Пушкин прозорливо и глубоко настаивал на иной формуле, которая в вольном изложении звучит таким образом: на свете счастье есть – и есть покой и воля. Это, в частности, означает: если счастье все же существует, то никакой «замены счастью» быть не может – это во-первых; и во-вторых, именно «счастье» становится точкой отсчета в духовной структуре личности, именно с него все начинается, чтобы им же и завершиться.
Понятно, что противостояние натуры и культуры в модусе «покой и воля» и «счастье» – это, что называется, вечная тема, и в качестве таковой не Пушкиным она была открыта. И. Бродский подчеркивает фундаментальность темы, давая «письмам» подзаголовок «из Марциала» – отсылая читателя к категоричности античной мудрости, к несколько одномерной афористичности «священной латыни», которая изысканно стилизована шестистопным хореем (кстати, четырехстопный хорей – это всего-навсего легкомысленные частушки, а вот шесть хореев – чудесные метаморфозы! – придают строке мерную раздумчивость).
Тем не менее, И. Бродский, словно не было после античности разнообразного духовного опыта тысячелетий и того же «Евгения Онегина», с горькой иронией гнет свое: «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Кстати сказать, «Письма» вовсе не случайны для И. Бродского, в них сконцентрировано мироощущение, которое характерно для всей его поэзии. Что это: современная форма глубины или маниакальное алхимическое желание обратить «покой и волю» в «счастье», доказав тем самым в очередной раз, что культура – это не более чем миф?
Перед нами девять восьмистиший. Их мотивы образуют некий мировоззренческий узор.
Мотив первый и главный: там, где копошатся люди со своими благами цивилизации (со своей «культурой», в данном контексте, ибо какого-либо иного понимания культуры обнаружить в цикле невозможно), там и зло, а там, где людей нет, где имеешь дело с бесхитростной натурой как таковой, там и благо подлинное.
Этот мотив очевидно доминирует. От чего, от каких бед бежит «автор» писем к «своему саду», к горам, букетам, чистому небу, созвездьям, зелени лавра, Понту, кипарису, осени, вину? (Стихи И. Бродского цитируются по изданию: Бродский И. Часть речи: Стихотворения 1972–1976 – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 144 с.)
От столицы, от Цезаря, от Империи, от необходимости «лебезить», «трусить, торопиться», от «интриг да обжорства» – от культа насилия и отсутствия свободы, если сказать коротко. Точнее: от прущей из человека грубой, первозданной натуры (которая трактуется как вторая натура, сиречь культура). Кстати, вот вам и «правило», которых, казалось бы, не существует (см. мотив четвертый). Правило называется: дифференцируй общее и частное, иначе запутаешься в мелочах.
А куда же бежит наш герой?
К натуре же – к саду, кипарису…
От натуры – к натуре? Где здесь оппозиция?
За отсутствием подлинной культуры «культурой» предлагается считать пороки человека, без которых невозможно представить цивилизацию, развитый социум, и вот эта «культура» противопоставлена натуре. Именно так: низкая натура противопоставлена натуре высокой, а кажется, что благородная натура – порочной культуре. «Сколь же радостней прекрасное вне тела: ни объятье невозможно, ни измена» (письмо 1, далее номер письма указан в скобках цифрой). Этот же мотив обыгрывается и углубляется в других письмах: «наместника сестрица», «худощавая, но с полными ногами», не чуждая легкомысленных земных утех, подалась в наставники, пророки – «недавно стала жрица. Жрица, Постум, и общается с богами» (7). «Тело», близкое к власти, нагло возомнило себя проводником духовного, бестелесного.
«Вне тела» (вне человека) невозможна «измена» (интриги, трусость, лицемерие) – но ведь невозможно и «объятье», то есть духовное общение, любовь и дружба. Вспомним: мы говорим, во-первых, о письмах, о литературе – о «книгах» (символический для цикла образ); во-вторых, о письмах не кому-нибудь, а другу. Мы говорим о том, чего, по мысли «автора», в жизни, среди «тел», существовать не должно – однако оно не только существует, но становится главным для человека мыслящего и тонко чувствующего – для «автора» прежде всего.
Отсюда мотив второй. «Посылаю тебе, Постум, эти книги» (2). Зачем же читать «эти книги», если в жизни побеждают иные, не книжные, правила? Зачем подражать «жрице»?
Мотив третий. Притча о купце и легионере (3). Первый «умер быстро: лихорадка», хотя жил спокойной мирной жизнью; второго «столько раз могли убить! а умер старцем». Мораль: «Даже здесь не существует, Постум, правил». И уж тем более, надо понимать, не существует их в делах более сложных, связанных, надо полагать, с «книгами», в которых, несомненно, понятию судьба отведено особое, почетное место. «Судьба и жизнь, в свою чреду, все подвергалось их суду» – это уже сказано Пушкиным о друзьях Онегине и Ленском. «Тела», сведенные судьбой и познавшие дружбу, – уже больше, чем «тела»: мыслящие существа, задумывающиеся о «правилах» мироздания. Это уже даже не «мораль», а философия.
Мотив четвертый. Правил нет, однако это не мешает нам, «автору» писем, неукоснительно руководствоваться одним святым правилом: любви нет и быть не может (иначе пришлось бы потревожить «миф» о счастье, а его только затронь – хлопот не оберешься, никаких книг не хватит, чтобы разобраться). Дружба почему-то бывает – а любви почему-то не бывает. «Автор», «любящий сложенье», диктует другу Постуму (8):
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
На все есть своя цена, все на свете продается, нет ничего такого, что бы не продавалось – то есть нет культуры, «счастья». И это еще одно правило «автора». Просвещенный цинизм – вот идеология «покоя и воли». По большому счету – это отрицание культурных ценностей, следовательно, фактическое протаскивание и утверждение ценностей из свода «правил» натуры. Чем, собственно, «автор» лучше – в культурном и гуманистическом смысле выше, благороднее, принципиальнее, умнее – той столичной публики, которую он так презирает?
В соответствии с принципом относительности «ворюга мне милей, чем кровопийца» (4) «автор» выглядит милее и симпатичнее «ворюг» – те все же творят зло, а он всего лишь не творит добра, ибо не верит в его силу. Его невозможно, конечно, поставить в один ряд с «ворюгами и кровопийцами», гетерами и жрицами, однако в культурном смысле для него также нет места в рядах тех, кто всей этой нечисти противостоит. Хочешь быть против «ворюг» – борись за «счастье». За любовь, опять же. Но это уже совсем другая история, этого мотива в письмах нет…
Что же получается: «автор» сам себя отлучает от культуры, и искусно пишет об этом в «книге», детище культуры?
Мы подошли к очень сложному пункту, без понимания которого в природе художественной словесности разобраться невозможно. Сформулируем суть конфликта, образующего смысловой фундамент цикла И. Бродского, следующим образом: чем является мотив «бегства от гнусной, тлетворной в духовном отношении цивилизации на лоно природы, где не существует лицемерных правил культуры»: формой культурного протеста (жестом культурного героя) – или просто экзотической разновидностью культурной деградации, идеологическую основу которой составляет «культурный» тезис цинизм «милее» лицемерия цивилизации?
Если это завуалированная (по каким, интересно, причинам?) форма культурного протеста, то где тот самый культурный идеал, во имя которого «мы с Постумом» протестуем? Где «книги»?
А если это всего лишь более предпочтительный (так сказать, дело вкуса, не более того) способ культурной деградации, то при чем здесь стихи, «книги»?
Вопреки выраженной воле «автора» (но, смею полагать, в полном соответствии с его неозвученным тайным желанием) констатируем парадокс (назовем его правилом культуры, если угодно): разрушительное начало натуры, облеченное в культурную форму, превращается в стыдливую ностальгию по культуре. Содержанием «покоя и воли» отчасти становится недостижимая культура, презренное «счастье». Если перед вами «книга», и если в «книге» говорится о том, что на свете «счастья» нет, а есть «покой и воля», – книга все равно о том, что «покой и воля» не заменят «счастья». Обратим внимание: начал «автор» за упокой, а кончил едва ли не культурной здравицей (9):
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Что это: «покой и воля» стали моментом «счастья»? Мы двигались в направлении гармонии? Фигура Старшего Плиния, «книжника», вырастает в символ культурного стоицизма – в культуру как точку отсчета «Писем»?
Под этим углом зрения перечитаем цикл еще раз.
Нет, не стали. Не вырастает. Но что-то изменилось. В стихах все больше и больше проступает интеллектуальная игра, которая и становится, по сути, главным кодом культуры в предлагаемой эстетической парадигме, – игра как форма культурного нигилизма.
В культуре «природная» (искренняя!) честность циника не проходит, в культуре надо быть культурным: необходимо дружить со смыслами, организовывать их в соответствии с «правилами», гуманитарными законами, которые для личности «милее» всего на свете. Одиночество как способ культурного существования, попросту выживания, как форма сопротивления антикультуре – тема тонкая и коварная. Далеко не каждому она по плечу. Здесь мало хотеть как лучше. Здесь всякий поэт, которых так привлекает тема одиночества, делает выбор не между нереалистичным романтизмом и циничным реализмом, а между существенно иными категориями. Какой тип художественности мы выбираем, какую духовно-творческую установку предпочитаем: «игру со смыслами» по правилам – или «смысл в игре как таковой», где любые правила (так поэтам кажется) только мешают?
Что мы выбираем: культуру или культурную аранжировку? Как мы играем: по правилам культуры или натуры?
И. Бродский выбрал «игру со смыслами», смысл которой – в игре.
Почему же тогда игривый цикл И. Бродского «Письма римскому другу (из Марциала)», в котором своеобразно модифицированы мотивы вечных «цветов зла», стал феноменом культуры (к чему лукавить?), а сам поэт – Нобелевским лауреатом, то есть культурно коронованной особой, жрецом прекрасного?
Да потому что он выразил именно то, что выразил: нашу сегодняшнюю неуверенность в культуре, неуверенность в себе, в своем будущем. «Неуверенность в культуре» – это все же некая культурная величина, культурная ценность и в качестве таковой является нашим реальным культурным достоянием сегодня. Увы. Чем богаты, что имеем…
И эта неуверенность все же милее откровенно варварского отношения (6):
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Что верно, то верно: нет пафоса созидания – будешь созидать разрушение под девизом «покой и воля».
Но спросить бы раба, почему мы так боимся не только оглядываться, но и вглядываться – не потому ли, что и впереди легко различаем все те же веками знакомые руины? Почему все «рабы природы» добровольно клеймят себя наколкой, где выведено предательское credo «нет в жизни счастья»? Честно отказаться от «звезды пленительного счастья» как от романтического мифа, еще не значит расстаться с иллюзиями и «познать себя». Плиний Старший должен был бы оценить ироническую, роковую прелесть многомерной диалектики.
Отсюда, по правилам диалектической логики, следует вывод, простота и глубина которого так или иначе питает всю поэзию: или вечные руины, в прошлом и будущем, – или культурный прорыв.
То есть, все таки – к звездам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































