Текст книги "Хорошее отношение к стихам"
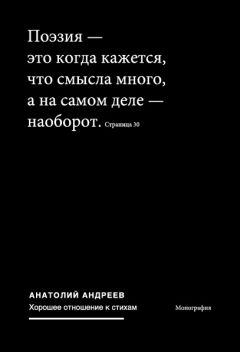
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Имена в русской поэзии Беларуси
9. Осколки целого… Поэзия… Гармония
Концептуальные заметки о поэзии Анатолия Аврутина
1
В контексте наблюдаемого кризиса поэтического сознания хотелось бы поговорить о современной русской поэзии Беларуси. В частности, о поэзии Анатолия Юрьевича Аврутина, продолжающего культурную традицию «философской лирики», которая сегодня жива наперекор всему, а может быть, именно благодаря тому жива, что ее нещадно выкорчевывают.
Значимость всякого поэта определяется значимостью архетипов, бытие которых он актуализирует в своем творчестве. Всякий поэт является аранжировщиком архетипов; при этом главная задача поэта – не замечать своей миссии, не ведать, что творишь (феномен этакой божественной близорукости), а главная задача исследователя – обнажить этот первородный механизм поэзии. Поэтическое творчество – бессознательное движение в русле сознания; анализ творчества – сведение бессознательного к сознательному. Если поэт и исследователь неплохо делают свое дело, может получиться занимательный разговор.
Итак, поэзия – это манифестированная ментальность, в основе которой – архетип. Понятно, что есть стихи, в которых эта ментальность проявляется более ярко, характерно и отчетливо (их принято называть программными), а есть такие, в которых яркость приглушена, отчетливость «зашифрована». Тем не менее, ключ к творчеству поэта подобрать можно (иначе зачем писать критические статьи?), хотя сделать это иногда бывает непросто. Чем значительнее поэт, тем сложнее подобрать ключ, – тем загадочнее представляется его творчество.
Программа, «программность» – это нечто в высшей степени осознанное, то есть непоэтическое, противостоящее духу поэзии. Лучше и точнее называть «программные стихи» «визитной карточкой» поэта (которая, заметим, не бросается в глаза, ибо это не плакат и не афиша, визитную карточку надо суметь разглядеть; но если разглядишь – постигнешь непостижимость поэта, постигнешь, что непостижимость – это и есть модус поэзии).
Суть аврутинской ментальности, из которой вырастает вся содержательность его поэзии, как мне представляется, удачно сконцентрирована, сфокусирована в маленьком шедевре.
Скупой слезой двоя усталый взгляд,
Вобрал зрачок проулок заоконный.
И снова взгляд растерянно двоят
В биноклик слез забившиеся клены.
Через слезу до клена – полруки,
Пол-трепетного жеста, полкасанья…
Сбежит слеза… И снова далеки
Вода и твердь, грехи и покаянья.
Вот так всегда…
Как странен этот мир,
Как суть его божественно-двояка!
Вглядишься вдаль – вот идол… вот кумир…
Взглянешь назад – ни памяти… ни знака.
(Стихи цитируются по книге: Поверуй… Вспомни… Усомнись… Избранное. – Минск, УП «Технопринт», 2003. – 234 с. В случаях, специально не оговоренных, название стихотворений – по первой строке.)
Что в данном случае является предметом поэтизации?
Предметом поэтизации является вроде бы традиционное для поэзии (не только русской) «благоговение» перед «непостижимостью» мира; однако какого рода это благоговение, традиционно коронованное восклицательным знаком, знаком одиозного оптимизма?
Одно дело «Я пришел к тебе с приветом Рассказать, что солнце встало!», или «Клячу истории загоним!», или что-нибудь в этом духе, однозначно оптимистическое, и совсем иное тихо остолбенеть (без вызова, без желания разрушить непостижимое!) перед «божественно-двоякой» сутью. Кстати сказать, негромкое, но внятно артикулированное изумление всегда коронуется у Аврутина многоточием, самым философским из знаков препинания… Просто изобилие многоточий, этого синтаксического эквивалента многозначительности, «двоякости»…
Вот у Бунина – благоговейный восторг, дрожь умиления: «Звездой пылающей, потиром Земных скорбей, небесных слез Зачем, о Господи, над миром Ты бытие мое вознес?» («Звезда дрожит среди вселенной»); у Аврутина – задумчивость как форма благоговения перед нечаянным обнаружением логики сакрального.
«Двоякость», амбивалентность (в буквальном смысле – двоякая суть), маргинальность, диалектичность – это и есть сокровенный аврутинский угол зрения на мир. Добавим, что вдумчивое философское изумление – это в высшей степени современная, потому что адекватная реальности, ментальность и психология. Это мироощущение, сращенное с мировоззрением. «Поверуй – усомнись». Поверив, усомнись. Два в одном. Все в одном.
Вроде бы ничего нового – и в то же время принципиально новое. Двоякость…
В одном лице – и жертва, и палач…
В одном лице – и горе, и потеха.
Задорный смех, в котором горький плач,
И горький плач, в котором столько смеха.
Вода и пламень… Узник и судья…
Кандальник, но с походкой конвоира,
Святой и грешник…
Многоликий Я —
Кумир для низвергающих кумира. <…>
В одном лице – летящий по волнам
Шальной корабль и кораблекрушенье…
Как же так: в одном лице – вот это все, такое разномастное и разнородное? Возможно ли сие? Поэт настаивает: происходит чудо невозможности постижения и невозможности не постигать. В одном лице. Двоякость…
Околдованность непостижимостью мира словно открывает в этом мире иное измерение. Возможно, сакральное. Какое же, собственно, еще?
Перед нами даже не прием, а поэтическая методология: сопряжение противоречий. Аврутин мог бы смело повторить за Пушкиным: «Противоречий очень много, Но их исправить не хочу». Поэт не только не исправляет противоречия («сотри случайные черты» – это не его метод); он их культивирует, взращивает, ткет и лелеет, вышивает бисером противоречий по холстине жизни.
Это не пустячок, как могло бы кому-нибудь показаться; это характерная (но невидимая, взятая в скобки) примета времени и эпохи. Неоднозначность, многозначность – это если не религия сегодня, то витающая в воздухе эпохи ментальная взвесь. Если в основе мироощущения установка на амбивалентность, двоякость, следовательно, возможна глубина. Именно так: глубина – это и есть не что иное, как двоякость, чарующее умение сопрягать противоречия. Попросту говоря, это умение мыслить, вникать в суть. Получается: самое главное в поэзии – вовсе не поэтического происхождения. Какая потрясающая, божественная двоякость!
Обратим внимание: цитируемые стихи из цикла «Стоптанное небо» (вновь сочетание несочетаемого!; ср. с названием сборника «Снегопад в июле», 1979) – из последних стихов, вошедших в книгу поэзии «Неказистая Родина» (Изд-во писателей «Дума», СПб. – 2005 – 128 с.). Поэт Анатолий Аврутин родился в 1948 году. Иными словами, «двоякость» как некий принцип устройства мира открылся поэту в своей относительной полноте в пору человеческой зрелости, в пору, когда те, кому дано быть мудрыми, становятся ими. Хотя, конечно, поэт предчувствовал двоякость и был заворожен ею всегда (что видно по его ранним стихам). Логика всего творчества Аврутина – это особая тема, поэтому мы концентрируемся на самом главном, с нашей точки зрения. На Аврутина следовало бы посмотреть и в контексте русской поэзии Беларуси XIX–XX веков, и в контексте русской поэзии XIX–XX веков. Аврутин поднял такую тему, которая делает тему «Аврутин» неисчерпаемой.
Почти в каждом стихотворении так или иначе пробивается поэтическая установка обнаруживать такие свойства «вещей», как двойственность, неоднозначность, предрасположенность к немыслимым трансформациям. Пространство стиха поэта располагается «Между криком младенца и криком вдовы» (начало одноименного стихотворения). Словесных формул, представляющих сопряжение противоречий (кроме всего прочего, это еще и великолепная технология производства метафор!), настолько много и они настолько отменного поэтического качества, что становятся фирменным знаком аврутинской поэзии. «Неслышимое пенье», «злая истина» («Сколько нищих прошло, задыхаясь неслышимым пеньем»), «Где души светлели от копоти черной» («Автодоровский переулок»), «Кинжал – подобие креста, И крест – подобие кинжала» («И люди лгут, и слово лжет»), «Даль – усомнившаяся близь На дне каменоломни», «…О, как же холодно вдвоем Брести поодиночке», («Поверуй… Вспомни… Усомнись…»), «В мире, где сильный слаб перед всесильем слабых», «И тут перед зеркалом, и в Зазеркалье, Твоя, раздвоившись, теряется суть» («Быть лишь отраженьем того отраженья») и т. д. Примерам несть числа.
Как поэтическая техника «двоякость» оборачивается «перевертышами» (кстати, так называется глава из поэмы «Осколки разбитого века», представленной в «Избранном»), а как свойство мировоззрения – глубиной. Здесь вот на что хочется обратить внимание: человек в «раздвоении» теряет суть, а поэт ее обретает. У Аврутина Поэт больше, чем человек, гражданин, товарищ, барин.
Именно в это – экзистенциальное – измерение вовлекается все то, что попадает в поле зрения поэта. Можно сказать, таков механизм одухотворения, философского и вместе с тем поэтического. Амбивалентного. Так сказать, механизм высечения искры Божьей. У Аврутина достаточно стихов «социальных» по образному материалу (яркий пример – «Стирка» из уже упомянутой поэмы). И все же не социальный пласт тематики становится золотоносной жилой, а, как и положено в поэзии, экзистенциальный.
Кстати, стремление обнаружить «единство противоречий», «перевертышей», «одно» как свойство «всего», одолеть это «святое проклятье» диалектики становится поэтической методологией объединения мира, корчащегося в своей двойственности, ускользающего от запечатления словом в своей нелепой двоякости. Мир как бы распадается, и только поэзия удерживает его от гибельного растаскивания по полюсам, «переворачивает» с головы на ноги. Поэзия становится инструментом гармонии: назвал вещи своими именами – и мир перестал распадаться. Остановись, мгновенье, ты прекрасно (и – тихое изумление…). Это уже к вопросу о сакральных функциях поэзии – функциях, которые под силу привести в действие только подлинному поэту.
Лично мне подобного рода поэзия представляется образцовой реализацией идеального в своей невыполнимости завета «Во всем мне хочется дойти До самой сути». Здесь дело не во влиянии Пастернака; здесь дело в том, что Пастернак угадал присутствие непоэтического в поэтическом. Аврутин идет вслед не за персоной, а за законом.
Вот почему, с моей точки зрения, не крупная, а малая форма, проникновенные лирические уколы, пронзительные, сладостно-горькие – не слезы, а капли океана – вот подлинная стихия поэта. Даже крупная форма, поэма «Осколки разбитого века», впечатляет отдельными, точечными прозрениями. Как нечто целое производит впечатление гораздо меньше. Самое главное в «Осколках» – умение видеть двоякость сути. Двоякой по сути поэзией отражать амбивалентную душу поэта. Мельтешит от перевертышей. Таков поэт!
Тут характерно само название: «Осколки разбитого века». Осколки, фрагменты, останки целого. Чтобы собрать все воедино, необходимо сложить по кусочкам, синтезировать противоречия. Оживление, реанимация, возрождение (как угодно) – это всегда «собирательство» осколков, совмещение несовместимого. Распад же на осколки – это энтропия, хаос, гибель. Поэзия не разрушает, поэзия соединяет. Соединить осколки – спасти век, по крайней мере, найти рецепт спасения. А это уже высокая – поэтическая! – миссия. «Век расшатался – и скверней всего, что я рожден восстановить его!» (В. Шекспир, «Гамлет», пер. М. Лозинского).
Вот почему всякий значительный поэт обречен на подвиг «собирательства». Но вот попробуй оживить прах…
И еще. Высокие чувства, то самое задумчивое изумление, порождает не что иное, как разум человека. Именно об этом мы говорили вначале. И это не Пушкин выдумал; это тоже закон.
Высокая поэзия – страшно вымолвить! – подчиняется невидимым законам, которых как бы и нет в природе. Если ты свободен от влияния законов подобного рода – тебе нечего делать в поэзии, ибо ты свободен от проклятия познания. Остается просто рифмовать. А если несвободен – тебе дано прикоснуться к свободе. Двоякость…
2
Однако суть поэзии требует адекватной формы, адекватного выражения и изображения. Иными словами, поэта без мастерства и стиля не бывает, здесь не спасет никакая двоякость сама по себе. Экзистенциальный нерв вибрирует в образах, метафорах, звуках, ритмах, интонациях. Собственно, сам феномен поэтического мастерства возникает там, где есть что выражать. Стиль – это непременный атрибут смысловой глубины, так сказать, оборотная сторона двоякости. Вот почему стиль присущ далеко не всем писателям и поэтам; более того: у плохих поэтов и писателей просто нет стиля (у них есть более или менее выразительная индивидуальная творческая манера).
У Аврутина есть стиль. И вот в этом – стилевом – смысле Аврутин показал себя выдающимся мастером. Гроссмейстером, продемонстрировавшим с легкостью некое окаянное мастерство. Такое впечатление, что он умеет в поэзии все. У него нет слабых стихов. Но над ним довлеет проклятье каждого подлинного поэта: у него есть шедевры, которые становятся точкой отсчета (и, соответственно, кошмаром поэта). Ты сам свой высший суд – и это замечательно. Однако ты сам же и задираешь планку до небес, которая, увы, покоряется тебе далеко не каждый день. Визитных карточек не бывает слишком много. По отношению к этим вершинам написанное мастерски становится всего лишь мастерски написанным. Вот пример, достаточно характерный для Аврутина:
Прозрачный призрак принес прозренье,
Под простынею письмо пронес.
Падет позорное подозренье —
Письмо положено под поднос.
Придет прислуга, поднос подхватит,
Письмо помятое подберет,
Пока парчою пылает платье,
Поручик пылкий портвейны пьет. <…>
Такое впечатление, что поэт бросает вызов самому себе. Это все от избытка поэтических сил, в режиме «как бы резвяся и играя». Иногда поэт (как в данном случае) не в состоянии совладать со своим окаянным мастерством, и оно так и рвется наружу, заслоняя собой дух поэзии. Он резко усложняет поэтические правила, сознательно воздвигает каскад из неких условных формальных ограничений, состоящих, как в данном случае, из причудливого подбора звуков («пр», «пор», «под» и проч.), или (как в стихотворениях «Если», «За то, что в трудный час пришла») из обязательного монотонного зачина, или добровольно примеряет вериги старинной формы («Триолет»), чтобы затем блистательно преодолевать все эти произвольные нагромождения. Однако таких стихов, во-первых, мало, и во-вторых (и в главных), не они определяют лицо поэта.
Процитированное нами стихотворение великолепно. Но лучшее – враг хорошего, и стихи, сделанные на приеме, меркнут перед органикой, поглощающей прием…
Строго говоря, глупо требовать от поэта исключительных шедевров. Более того: не будет оточенного мастерства – и шедевров не появится.
Все эти достаточно банальные вещи говорятся вот к чему: поэзия Аврутина – живая стихия, со своими перепадами, немыслимыми взлетами и передышками. Это нормально. Иначе просто не бывает.
Однако я бы предостерег от несерьезного отношения к «несерьезным» стихам. У темы «мастерство, противостоящее живым мыслям и чувствам», взятой в диалектическом разрезе, есть и почти сакральные аспекты. Мастерство, игровая стихия – страшный соблазн поэта, вообще всякого творческого человека: это соблазн имитации. Ничто не губит так, как мастерство. Чем больше нарабатывается мастерства, тем меньше может быть поэта. Существует даже выражение (отчасти справедливое): унизиться до приема.
Тут самое время вспомнить о том, что мы говорим о мастерстве выражать «двоякость». Эту тему без мастерства просто не поднять; и в то же время именно эта коварная тема, уже после того, как приобретается известная сноровка, может ускользнуть, а поэт может остаться погребенным под грудой стихов, в которых холодно сияет эффектное трюкачество. Самая главная опасность двоякости состоит в подмене подлинности – мастерством, трюкачеством, виртуозным исполнением. С другой стороны, опять же, без мастерства – не одолеть феномен двоякости.
Вот она, поэтическая экзистенция как таковая. Вот он, подлинный вызов: поэт может состояться, если не сломает себе шею. Если, став мастером, не перестанет быть поэтом. Чтобы стать поэтом, надо умудриться не сломать себе шею. Подлинная – двоякая! – суть поэзии кровава и жестока: за красивыми словами всегда преодоленная немота, в основе эстетического наслаждения – страдание.
Мастерство передавать живое страдание – это больше, нежели мастерство: это искусство создавать стиль. Здесь надо возвыситься до приема. Мастерство имитировать чувство – это техника. Разные виды мастерства, разные виды поэзии.
Кстати, приведем пример бьющего в глаза олимпийского мастерства, укрощенного дыханием жизни («Красное»):
Красен град. Красна девица.
Красен тополь у крыльца.
В краснотале плачет птица —
Не для красного словца.
И красны от стирки руки,
И красна сегодня масть…
Просит ветер краснозвукий
Листья красные упасть.
Красен снег, когда охота,
Красен праздничный кафтан.
Смерть красна, хоть жить охота,
Если ворог обуздан.
Красно солнце. Красны речи.
Красно бодрое вино.
Красный шелк на белы плечи…
Вспышка красная… Темно…
Красные слова, но не для красного словца. Вот он, пульс живой поэзии. Культ поэтического противоречия, когда противоречий становится «очень много». Невыносимо много.
Нет, не удержусь и приведу еще один пример. Только один. Последний в этой рубрике. В сокращении.
Было утро… Не больше, чем утро.
Было стыло… Не больше, чем стыло.
Белой пудрой, не больше, чем пудрой,
Сыпал снег и немного знобило. <…>
Брызнут слезы, не больше, чем слезы.
Брызнет кровь, но не больше, чем брызнет.
На снегу отпечаток мимозы
Стоит жизни… Не больше, чем жизни.
А теперь спросим себя: ко многим ли стихам современных, и не только современных, поэтов можно подойти с такой безжалостной, убийственной культурной меркой?
Ответ будет «божественно прост»: среди толп «поэтов» поэтов – единицы. Много званых, да мало избранных («Избранное»: в данном контексте это ко многому обязывает). Вот он, раздражающий лик вечно ускользающей от определений двоякости…
3
Двоякость (философское начало!) требует особого языка, и в русской литературе эта традиция разработана блестяще. Возможно, это самое ценное, что есть в русской поэзии вообще.
Вопрос о поэтических традициях, с которого мы начали свою статью, это вовсе не праздный, а культурный вопрос. Отмеченное нами тяготение Аврутина к словесным формулам, скрытый, подспудный аналитизм, порождающий некрикливое и непафосное философское изумление (которому к лицу и ненапыщенная религиозность: тоже веяние времени), уснащенное многомерностью отточий, – все это обновление традиций русской поэзии «золотого века». Осовременить золотоносную традицию, найти сегодняшний модус актуальному мироощущения (и тем самым в сегодня увидеть всегда, в мгновении – вечность) – это великое дело.
Не хочется раздавать оценок (этим неспешным делом, да и то не всегда с успехом, занимается история), но и удержаться не могу. Аврутин – это феномен.
Вот говорят, Рембо – феномен, Тютчев – феномен, Богданович – феномен. Аврутин тоже феномен в полном и точном значении этого слова. Кстати сказать, поэт и сам, я бы сказал, догадывается об истинной цене своего творчества. В его стихах полным-полно перекличек и скрытой полемики с классиками самых разных эпох, с классиками как таковыми. К поэтам он относится как к соперникам. И это правильно: тот, кто не догадывается о своем величии, не достоин уважения. Талант, который всем и каждому демонстрирует, что он знает себе истинную цену, – смешон, а не знающий себе цены – жалок.
Еще одна гримаса тотальной двоякости…
Из бездн каких восходит свет,
Что снова тьмой оборотиться,
Чтоб темь сумела с темью слиться,
За светом шествуя вослед?
Так немота рождает звук,
Что снова станет немотою,
Так пар становится водою,
Что паром сделается вдруг? <…>
Здесь не только аура тютчевских мотивов присутствует (возможно, ее даже многовато, где-то на грани с творческим подражанием); здесь налицо абсолютно тютчевский уровень стихотворения. «Так-то и я могу, если на то пошло…» – читается между и поверх строк. «А вот так – слабо?»
Что наше слово? – звук пустой,
Обман в крикливой оболочке.
Ни дня без лжи? Ни дня без строчки?.. —
Ни дня без истины простой:
Кто лжет и слушать ложь готов,
Тому и верят беспредельно.
Крест лжи и сирый крест нательный —
Какой родимей из крестов?
А вот товарищеское пожатие десницы Есенина:
… Но все проходит. Счастье и печаль
Вдаль уплывают белой струйкой дыма.
Лишь одного воистину мне жаль —
Что мчат года и все проходит мимо. <…>
Во всех этих примерах вот какой мотив разрабатывается: любой поэтический шедевр или стиль – это не только обогащение художественной палитры, но и вызов; поэт поэту не только друг, но и враг. Это как в любви «по Тютчеву»: не только душ слиянье, но и «поединок роковой». Кто мне дорог – с тем вступаю в поединок. Ну, не двоякость ли это?
Поэты очень часто становятся персонажами, а лучше сказать, символами его стихотворений. Аврутин словно бы разгадывает их суть, реконструирует мироощущение. Вообще поэты – особый сквозной сюжет всей поэзии Аврутина. Ахматовские, рубцовские, цветаевские, пушкинские, пастернаковские мотивы и интонации намеренно и ненамеренно всплывают там и сям, создавая поэтический контекст поэзии. Часто понятие «поэт» становится образом жизни, способом существования:
Где-то Хлебников бродит в рубище,
Все мусолит с цифирью тетрадь,
Все заветную истину ищет,
Будто истину надо искать.
Или («Как призрачно все!.. Как мгновенно!..»):
Сравнимой с письмом Гумилева
Должна быть шальная строка,
Чтоб, не дав последнего слова,
Тебя расстреляла ЧК.
Есенинской ранью повеять
Должно из туманной дали,
Чтоб после, с петлею на шее,
Тебя в «Англетере» нашли.
Я бы вообще сказал так: каждый истинный поэт – всегда в чем-то Пушкин, где-то Есенин, слегка Пастернак с Тютчевым и Цветаева впридачу. Все можно и нужно – если ты, скажем, Аврутин. Несомненные переклички (они разве что обозначены в приведенных примерах) только четче очерчивают оригинальность лица и голоса. От перекличек никуда не уйти, ибо все поэты пишут об одном и том же. Но вот о чем?..
Иногда Анатолий Аврутин создает ситуацию, которую хочется назвать «поэтической провокацией». Но что-то мешает ее так назвать. Постепенно понимаешь, что именно мешает: безусловная вера поэта в то, что «Поэты – всегда полубоги» (начало одноименного стихотворения). Юридически и морально поэты неподотчетны людям, ибо – существа иного измерения. Фокус только в том, что пишут они для людей.
Выступить поэтическим адвокатом таких неоднозначных фигур, как Нерон или Цветаева (для нее создается особый, инфернальный, контекст – см. поэму «Осколки разбитого века») – дерзко и рискованно. Тут надо все исполнить филигранно, величественно и без фальши. Фанфары так фанфары, флейта так флейта. Иначе будет смешно и жалко: сам себе воздвигнешь сомнительный памятник.
Итак, «Нерон», из сборника «Золоченая бездна» (2002) (вновь уже привычное оксюморонное словосочетание!).
Я – кровавый Нерон… <…>
Я – зверь! Я – кровавый Нерон.
Пусть я мать умертвил —
Да простится мне мать-Агриппина! <…>
Мне что мать, что жена,
Что проконсул, что черт —
Все едино,
И на копьях голов
Столько – кругом идет голова…
Но я все же поэт. <…>
Враг поэта – поэт!
Так подайте мне череп Сенеки!
Пусть коварный Петроний
Не встанет с багровой земли. <…>
Эй, хватайте меня!
Я кинжалом зарежу наяду,
Молча яд проглотив,
Перед смертью строку прошепчу…
(Без пространных цитат не обойтись, без них сложно представить мощь аврутинского поэтического дискурса.) Вот за это, за то, что перед смертью прошепчет строку, Аврутин милует Нерона. Искупление таким людям, которые преступили мыслимое и немыслимое человеческое, – то, что они поэты, читай – полубоги. Трансляторы откровений и Творцы. Не вполне люди, сверхчеловеки.
Я бы сказал так: Аврутин продемонстрировал исключительное чутье на поэтический сюжет, всегда содержащий романтизацию демонического. Более поэтический (двоякий в определенном отношении) сюжет трудно придумать. Соответственно, сюжет богат поэтическими возможностями, которые Аврутин реализует с неподражаемым мастерством. Это шедевр.
Таков поэтический контекст, в котором видит и мыслит себя Аврутин. Он окружен поэтами-друзьями, поэтами-соперниками, поэтами-«врагами». Поэзия не вчера появилась в мире, это вечная спутница задумавшегося странника. Аврутин прав: не потянешься к вечному – погрязнешь в сиюминутном.
Отсюда, как мне кажется, и тяга к переводам, к поэтическому состязанию в наиболее «чистом» виде. Дружеское рукопожатие плавно переходит в принципиальный армреслинг. Все верно: вызов способен бросить тот, кто чувствует собственную силу. Аврутин специализируется на переводах исключительно поэтических перлов, «золотых стихов» (тех же Рембо, Богдановича, античных поэтов). А в этом случае всегда либо со щитом, либо на щите.
Мы же вновь обратим внимание на характерную для Аврутина методу: он постоянно выхватывает те фрагменты реальности, где противоположности скрещиваются и, как им и положено, переходят друг в друга (переворачиваются). Отсюда в центре внимания – Нерон, Цветаева, еврейско-русское начало в судьбе поэта, двойственное сочетание «русский поэт Беларуси»… И все это естественно, органично, без натуги. Браво, Аврутин! Логика «или – или» исчезает, уступая место коварному «с одной стороны – с другой стороны». «С разных сторон» – это и есть формула гармонии, содержание которой – божественная двоякость. А поэзия, по большому счету, является инструментом реализации высшей гармонии. Божественным инструментом, если разобраться. В самый раз для «полубогов».
Аврутин со своей специфической проблематикой явно попадает в раздел «философская поэзии», согласно распространенной, но не очень точной, классификации. Строго говоря, нефилософской поэзии нет, как не существует и нефилософской культуры. Весь вопрос в том, насколько культура или поэзия является философской.
Философскость поэзии Аврутина очевидна. Она сказывается не только на уровне поэтической методологии, которой мы уделили столько внимания, лексики или на уровне тематики, но и на уровне какого-то наивного, сердечного вопрошания, детского и одновременно библейского. Что есть истина? Камо грядеши?
У Аврутина мы находим стилистически подобные ходы.
И стану сквозь боль повторять: «Кто мы будем?
Чьи тени беспечно шагают по краю?..»
(«Пою о смертельном, но не умираю»)
Кто мы?..
(«Поверуй… Вспомни… Усомнись…»)
Зачем же так? За что такая плата?
(«Город мой? Нет города… Чужие»)
Ответ на эти вопросы содержится во всей поэзии Аврутина. А возможно, и так: поэзия Анатолия Аврутина всем своим строем непременно рождает подобные вопросы. Что тут причина, а что следствие, где начало, а где результат – неизвестно. Разве у двоякости есть начало и конец? Двоякость – это целостность.
4
Закончим тем, с чего, возможно, следовало бы начать.
Русская литература Беларуси – есть, хотя ее не очень замечают. Опять же двоякость, которая Аврутину на роду написана. Поэтому мы говорим Аврутин – подразумеваем «русская литература Беларуси», говорим об отдельном – подразумеваем общее. Пора, пора открывать этот общий материк, на котором еще столько белых пятен.
Будем откровенны: поэты и прозаики – продукт штучный. Уникальный. Здесь логика «чем больше – тем лучше» не всегда справедлива. Но если появляется даже один истинный поэт (Аврутин же, специально оговоримся для буквоедов, не единственный талантливый русский поэт сегодняшней Беларуси, хотя, возможно, наиболее талантливый, одаренный, наделенный несомненным даром) – это свидетельствует о принципиальной возможности появления новых талантов. В Беларуси есть богатая русская почва и плодоносный культурный слой, на которых рано или поздно – неизбежно! – появятся россыпи иных талантов.
Тут бы нам и закончить. Однако по закону целостности (двоякости) хочется разбавить бочку оптимизма ложкой безнадежного реализма. Аврутин-то есть, живет и здравствует (и дай Бог ему здоровья); однако пророка в своем Отечестве как не было, так и нет. Не скажешь, что Аврутина не замечают; но его не замечают как первоклассного поэта, вполне Нобелевского по своему формату. Разве он не сопоставим с тем же Бродским?
Так будет впредь… Так было испокон.
В свой век глагол глаголеть бесполезно.
В несмелом вдохе – детский полусон,
Но в выдохе – клокочущая бездна.
(«Мятежный Блок, тревожный Мандельштам»)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































