Текст книги "Хорошее отношение к стихам"
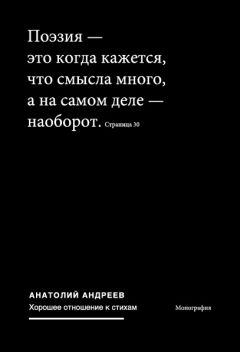
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
7. «Тонкость» как китайская поэтическая традиция в восприятии русским культурным сознанием
«Тонкость» китайской поэзии, будучи ее неким очевидным свойством, воспринимается носителями русской ментальности как данность. Это, что называется, не обсуждается. Просто констатируется. «Изысканность или, вернее, тонкость китайской поэзии не приводила к ее элитарности» (Л. Эйдлин. Китайская классическая поэзия. // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. – М., 1977, с. 200. В дальнейшем все стихи китайских поэтов цитируются по этому изданию; в скобках указаны фамилия переводчика и страница.) Не изысканность, не элитарность – именно тонкость. Здесь есть над чем подумать и есть что обсудить.
Существует выражение: «Восток – дело тонкое» (Китай в данном случае мы рассматриваем как органичную составляющую восточного варианта цивилизации, Востока). Это многозначительное, в свою очередь «тонкое» замечание содержит несколько уровней смысловых посылов. Попробуем формализовать это выражение, придать ему научные параметры, чтобы сделать его инструментом анализа. В соответствии с безусловным императивом литературоведения, гласящим, что в любом произведении существуют план содержания и план выражения, рассмотрим «тонкость» в контексте содержательно-формальных отношений.
1. В мировоззренческом отношении «тонкость» означает содержательную сложность объекта, приводящую к многомерности его устройства, влекущую за собой смысловую витиеватость; структурную «тонкость» сразу не поймешь, требуются время и усилия, чтобы разобраться в системности идейного порядка. В данном случае «тонкий» является объективным свойством предмета познания.
2. «Тонкое» означает не просто сложное, а хрупко-сложное, деликатное. В этой связи хочется вспомнить «где тонко – там и рвется». «Тонкий» – требующий бережного отношения во избежание смысловых натяжек. Речь идет уже не о «тонкости» устройства, а о «тонкости» – адекватности! – понимания. Здесь «тонкость» выступает как характеристика субъекта познания, точнее, характеристика методологии познания.
3. В психологическом смысле слово «тонкий» квалифицирует особого рода чувства и ощущения, порожденные утонченной системой ценностей (здесь мы уже переходим от мировоззрения к мироощущению). Тонкое чувство, умонастроение обслуживает соответствующую ментальность.
4. Наконец, «тонкий» употребляется как синоним понятия изысканный: эстетическая парадигма «тонкости» – ажурность, причудливость, экзотичность. Здесь мы переходим к литературоведческому, стилевому пониманию «тонкости».
Что же конкретно применительно к китайской поэзии означает «тонкость» как совокупность качеств (признаков) ментальности и специфики ее художественного воплощения?
В русской (и, шире, европейской) поэтической традиции поэт стремится называть знакомые вещи другими именами, пытается посмотреть на них другими глазами. Происходит феномен так называемого «остранения» (термин В. Шкловского), когда привычные вещи выглядят странно, непривычно, удивительно. Это не что иное как приспособление к миру путем его освоения, приближения к себе, к своим потребностям. Поэтическое отношение в данном контексте выступает как мифологическое, а поэт – как чародей, мифотворец, собственно, творец.
В культуре существует и иная традиция: называть вещи своими именами, что является прерогативой научного отношения – отношения познания в противовес приспособлению.
Казалось бы, третьего не дано. Третьего отношения быть не может. Однако китайская поэзия демонстрирует нам некий третий путь – оригинальнейшую модификацию приспособления, весьма и весьма «странную» для европейской поэтической «технологии».
Начнем с примера. Стихотворение Тань Сянь-Цзу «Ночую на берегу реки» (пер. Е. Витковского, с. 382).
Лежит тишина над осенней рекой,
редки лодок огни.
Ущербный месяц на небе слежу,
стоя в лесной тени.
Водяные птицы от света луны
встрепенутся, снова заснут.
Светлякам на крылья пала роса:
летать не могут они.
Минимализм средств – первое, что бросается в глаза. Это еще не изысканность, но уже вполне тонкость, – если минимализм ценен не сам по себе, а как «способ выражения» определенного содержания. За минимализмом же явно сквозит сдержанность. А за сдержанностью? Что диктует сдержанность, что задает сдержанный тон?
Автор не называет вещи другими именами. Но нельзя сказать, что он стремится назвать вещи своими именами (для этого надо аналитически выстроить контекст отношений, чего в небольшом стихотворении не может быть по определению). Метафора как средство создания образа здесь практически отсутствует; однако метафоричность как имманентное свойство художественного мышления присутствует в высшей степени. И эта метафоричность соотносит образ с «иными вещами». Какими?
Внесем ясность, назовем вещи своими именами. Автор стремится избегнуть самой ситуации оценочного называния, посредством чего непомерно выпячивается поэтическое «я»; субъект медитации предпочитает нарочито бесстрастно фиксировать некие простые реалии: тишина, река, лодки, огни птицы, светляки… Активность лирического героя как бы снижена, ибо поэтическая энергия направлена уже не на привычное переиначивание. Поэт, находящийся «в тени», хочет «дать понять». Он не хочет называть. Он сдержанно намекает на что-то. На что?
Сразу же отметим, что в этом отдельно взятом стихотворении отдельного автора просматривается некий универсальный поэтический принцип, актуальный для всей китайской поэзии. Вот еще несколько примеров, подтверждающих наш тезис. Гао Ци «Услышал звуки флейты» (пер. И. Смирнова, с. 373):
Хлынули слезы, как только ветер
пенье флейты донес.
Одинокая лампа. Нити дождя.
Тихий речной плес.
Шао Сян-Чжэнь «В начале лета на чистом ручье» (пер. Е. Витковского, с. 378):
Ветрено. Мелия расцвела.
Волны бегут без конца.
Одинокая лодка на переправе.
Пустынно у озерца. <…>
Лань Жэнь «В горах вечером возвращаюсь домой» (пер. Е. Витковского, с. 378):
Возвращаюсь домой; горная даль темна.
Омываю ноги; отражается в речке луна.
У бедных ворот сороки спокойно спят.
Между деревьев снуют светляки допоздна. <…>
Лу Ю «В сильный дождь на озере» (пер. В. Тихомирова, с. 363):
Туман клубится в устье ручья —
озерная скрылась коса.
Дождь нежданный все поглотил —
горы и небеса.
Природе чуждо великолепье —
ее красота в простоте.
Луна в облаках провожает домой
рыбачьей лодки паруса.
Простота, сдержанность, минимализм. Красота – в простоте. Это уже не намек: это императив. Внесем ясность. Перед нами поэтическая аранжировка формулы мудрости, архетипа всепроникновения: «кто знает – тот не говорит; кто говорит – тот не знает» (Лао-Цзы). Поэзия чтит мудрое молчание, преклоняется перед ним – и стремится к нему. В основе поэтического дискурса – молчание. Как связаны эти противоречащие друг другу стихии?
Дело в том, что представление «Учителя» о реальном мире исходило из того, что мир этот целостен, един и неделим. Праматерь же всего сущего – небытие, ничто. Все живущее и существующее нарождается и творится из ничего, поэтому ничто, дающее жизнь всему, есть начало и конец всего. Ничто – сущность, а реально наличествующий вещный мир (вместе со словами, его называющими) есть всего лишь жалкая частица, свидетельствующая о необозримом царстве небытия.
Мышление и «говорение» также рождаются из «ничего», и сколько бы ты ни говорил, тебе не удастся хоть как-то сравниться с божественным феноменом, давшим саму возможность говорения. Говорить, да еще наслаждаться процессом смыслопроизводства – унизительно для мудреца, понимающего несопоставимость «начала начал» и жалкого чириканья, претендующего на объяснение неизрекаемого экзистенциального духа.
Таким образом, простой логический ход: у всего есть свое начало, все рождается из чего-то, сопоставление момента предшествующего и настоящего как фрагментов «хода вещей», причины и следствия – вот основа «молчаливой» философии. Молчание как эквивалент и аналог «ничто» так же предшествует ничтожному сотрясанию воздуха, как могучее творящее начало – беззащитному и обреченному на «мгновенное» бытие ростку, как бесконечное – конечному.
Следовательно, в молчании гораздо более достоинства, нежели в самом ученом артикулировании, ибо молчание имитирует то, откуда берется все говоримое, и таким образом молчание всегда будет неисчерпаемым по содержательности, а все говоримое – конечно и унизительно глупо, неистинно по сравнению с неизрекаемой, но ощущаемой умной вечностью. Молчание выступает симптомом смирения перед невыразимостью ощущаемого сверхинформационного поля и одновременно высшим культурным действом. Содержательнее молчания ничего нет и быть не может. В этом контексте само безмолвие превращается в поэтическую метафору.
Давать другие имена или отчасти называть вещи своими именами – значит демонстрировать некую персональную поэтическую шустрость, не более того; такого рода активность означает признание собственного бессилия пред ликом принципиально неназываемого. В идеале поэзия должна стремиться к молчанию. К минимализму. Не разрушать тишину. Чем меньше – тем лучше. Перед нами тот случай, когда «великолепье» слов превращается в излишество. В этом случае предметом поэтизации становится неизрекаемый дух «Дао». Вот отчего многословие не в почете. Вот почему называние вещей любыми именами – это суета сует, которая не проясняет, а затемняет суть дела.
Человек общается не с природой – с проявлениями стихии: с небом, звездами, луной, облаками, горами, водой, тишиной, осенью. Причем конкретный «модус» стихии выступает не конечным звеном в порядке мироздания, а всегда и только – промежуточным. За «вещами» прячется бесплотное начало всего. Такому общению непременно сопутствует одиночество, грусть, печаль. Все это – атрибуты растворения в «цепи вселенной». В великом «ничто». В безмолвии. Этот тезис великолепно иллюстрируют миниатюры Ли Бо (пер. А. Гитовича, с. 265).
Одиноко сижу в горах Цзинтшань
Плывут облака отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.
Храм на вершине горы
На горной вершине ночую в покинутом храме.
К мерцающим звездам могу прикоснуться рукой.
Боюсь разговаривать громко: земными словами
Я жителей неба не смею тревожить покой.
А теперь вчитаемся в отрывок из концептуальной медитации Линь Хуна «Пью вино» (пер. Е. Витковского, с. 379).
Древние люди давно отошли во тьму.
Древние мысли лишь по книгам известны уму.
Одна пустота во многих тысячах книг.
Доверять невозможно речению ни одному.
Круглый год упиваться хочу вином.
Ведать в жизни ни о чем не хочу ином.
Знайте, что человек, пребывающий во хмелю,
В цепи вселенной служит главным звеном.
«Разговаривать громко» «земными словами» – значит нарушать, «тревожить» гармонию молчаливого мироздания. На стихийные явления – горы, облака, птиц – можно только смотреть, созерцая символы великого «ничто». Ведь горы – это больше, чем горы. Они также «глядят на меня». И слова здесь бессильны. Обратим внимание: главное звено в цепи вселенной – не человек, а «человек, пребывающий во хмелю», человек нерассуждающий (в «книжном» смысле этого слова). Именно так, путем отключения сознания, можно вписаться в порядок вещей, приспособиться к нему и стать «главным звеном» «в цепи вселенной».
Вот она, суть тонкости: смыслы непостижимы, следовательно, переживание непостижимости, загадочности, предопределенной неясности – самая умная (для посвященного!) на свете вещь.
Таким образом, культ поэтической «немоты» с ее девизом «мысль изреченная есть ложь» (Ф.И. Тютчев) по-настоящему состоялся не в русской, а в китайской поэзии. Русская поэзия болтлива. В свой «золотой век» (XIX) русская поэзия была озабочена «умными чувствами» и, вследствие этого, аналитизмом, тяготением к словесным формулам (наподобие приведенной выше тютчевской), где гармонично уживались чувство и мысль. Позже, в веке «серебряном», ХХ, поэзия стала специализироваться на выражении чувств «темных», утонченно-запутанных. Но и то и другое предполагало культ поэтического слова, культ говорения. Дело дошло до романов в стихах. Поэтическая сдержанность – антипод русской поэзии. Страстные чувства рождают страстные слова, призванные «глаголом жечь сердца людей».
Китайская поэзия, если так можно выразиться, намекает на чувство, обнаруживает предчувствие чувства, которое является не самоценным, а сопутствующим переживанием. Это, так сказать, поэзия симптоматики (ибо главное – сокрыто от глаз, ушей и ума). Культ скупого слова рождает табу на аналитизм, на называние, на узнавание, а вместе с этим предопределяет основные черты поэтики: многозначность нюансов, штрихов. Минимализм. Это именно поэтическая традиция, коренящаяся в мифах, в бессознательном.
Русская поэтическая и, шире, гуманитарная культура – европоцентрична, то есть, логоцентрична, все ее достижения и болезни связаны с последовательным культом либо сознательного, либо иррационального отношения (во многом, как ни парадоксально, интеллектуализированного).
В китайской поэзии нет подобной дилеммы, ибо культ индивидуальной умственной активности, личностного начала и вообще персоноцентризма несовместим с традицией служения «великому ничто», одного на всех. В этом месте мне, воспитанному в традициях русской филологической школы, вновь сложно удержаться от цитаты (из Лу Ю, пер. В. Тихомирова, с. 363):
Всяк о себе
думает в наши дни.
По этой причине
столько несчастий вокруг.
Тот, кто не делит мир
на «я» и «они»,
Тот в этом мире
мой друг.
Ощущение мира как единого и неделимого становится источником «иной» поэтики. Для русского уха и ума – это тонкие душевные колебания и вибрации не то чтобы вообще не связанные со смыслом, но как-то не по-нашему связанные. Понимая, что «Восток – дело тонкое», мы чувствуем в поэзии Китая иную ментальную парадигму. Мы учимся говорить и чувствовать на новом поэтическом языке. И по своей привычке называть именуем этот язык «тонким».
8. Публицистичность как компонент художественности
(по произведениям Я. Купалы)
В стихотворении «Паэзiя» (1906) Янка Купала дал «модели» поэзии, комедии, драмы, сатиры, сказки и др. (в основе которых – эскизы ситуаций, где морально-социальные и духовные архетипы зафиксированы в определенных устойчивых отношениях):
Праўду з няпраўдай
Цноту з гарэзіяй
Вымешай спрытам,
Будзе паэзія.
Лета, ноч, месяц,
Клёнік, чарэсня,
Хлопец, дзяўчына,
Вось вам і песня.
Какая же духовная ситуация стала исходным импульсом для творчества самого народного «песняра», какова «модель», заключающая главный пафос поэта – поэта, заложившего, в свою очередь, культурный архетип, программу развития белорусской литературы и ставшего символом этой литературы?
Я. Купала позаботился и о том, чтобы дать точную поэтическую формулу своей «модели», иначе говоря, определил свое место среди вечных тем, вечно актуальных для поэзии:
Вы кажаце: надта пяю я нявесела,
Пацехаў ніякіх не бачу ў людзей…
Пакіньце смяяцца! Вас праўда не ўсцешыла,
Няпраўды ж не знаю у душы я сваей. (…)
Я ў долю народа свайго узіраюся.
I толькі аб гэтым для вас тут пяю. (…)
Быць вольным хай родзяцца думкі ў нявольніка,
Хай быць чалавекам захоча брат мой.
(«Вы кажаце…», 1906; курсив мой – А.А.)
Таким образом, в «Паэзii» иронически перечислены те жанры и направления в лирике (и – шире – в литературе), которые своей пастушеско-идиллической умиротворенностью и легковесностью контрастируют с жесткой духовно-социальной реальностью, увиденной и воспетой человеком, возросшим на идеалах беззаветного служения народу.
Уникальность белорусского гения – в уникальности самой ситуации, когда обозначился интенсивный рост национального самосознания, когда формирование белорусской духовности (или, как сейчас говорят, ментальности) шло параллельно с поисками соответствующих современных форм ее (духовности) проявления.
Переключение личности творчески активной на сверхличную, надличную проблематику психологически вполне объяснимо: внутриличностная гармония тогда становится «предметом» поэзии, когда устраняется внешняя, социальная по своим корням дисгармония (по крайней мере, устраняется настолько, чтобы душа могла позволить себе быть «уязвленной» «кленiкам» и «чарэсняй» и не испытывать при этом мук из-за того, что «чэсны паэта» отвлекся от главной темы – «долі народа»). Недвусмысленная, строгая, бескомпромиссная позиция народного песняра точно отражала национальные приоритеты:
Мае цярпенне, мой крывавы боль —
Што значаць перад мукамі міль’ёнаў,
Дзе безнадзейны стогны родзяць стогны,
А слезы грызуць вочы усім, як соль!
(«Мае цярпенне», 1915)
Примеров осознанной неразделимости поэта и народа, превращенной в мировоззренческую доминанту, сколько угодно:
…роднай нівы я мільённая часціна, (…)
I калі здзекваецца нада мною хтосьці —
Над Бацькаўшчынай здзекваецца ён маёй,
Калі ж над ёй – мяне тым крыўдзіць найцяжэй.
(«Бацькаўшчына», 1915)
В этой связи можно вспомнить «Я не паэта» и др.
Каковы отношения – таков и язык, ими порожденный. Из всей духовно-эстетической палитры Я. Купале ближе всего была великая триада Героика – Трагизм – Сатира, связанная внутренним родством идеалов (генотип специфически купаловской героики – незыблемый приоритет национального над личным). Именно поэтому публицистичность стала органичной составляющей народно-освободительной по духу, призывной, отчасти повелевающей поэзии Купалы. (Под публицистичностью художественных произведений понимается обусловленность их содержания актуальными проблемами жизни общества; иначе сказать – социоцентрическая направленность идеалов. Разумеется, творчество поэта уровня и значения Я. Купалы несводимо только к обозначенному кругу проблем; но все же его определяющую идеологическую тенденцию можно обозначить именно как национально-патриотическую.)
К творчеству классика изящной словесности совершенно неприменим новомодный лозунг теоретиков и практиков «чистого искусства»: «литература начинается там, где кончается человек» (вспомним теперь уже по другому поводу его полемически-парадоксальное «Я не поэта»). Возведение культа формы в эстетический принцип, превращающий произведение в «игру словами», попросту разрушает художественность, лишая ее содержательной основы. («Оды», «серэнады» и «сялянкi», упоминаемые Купалой в «Паэзii», в этом контексте выглядят сверхсодержательным эпосом). С другой стороны, последовательный культ «правдивого» содержания также не способствует расцвету полноценной художественности, угрожая радикальным креном в натурализм и «голую» публицистику и, следовательно, превращением художественных образов в иллюстративно-публицистические. Эта вторая опасность, реально грозящая всякому социально озабоченному художнику, по отношению к Купале, опять же, выглядит надуманной и чисто умозрительной. Удивительно органический талант народного поэта превратил публицистичность именно в фактор и компонент высокой художественности. Не служанкой политики или питающейся ненавистью и обидами саморазрушительной националистической идеологии (в подтексте которой – угроза другим) была его лира, а поэтическими думами, оплодотворенными высоким гуманистическим принципом: «быць чалавекам» (в подтексте – ценностная ориентация просвещенной Европы: свобода, справедливость, взаимоуважение).
«Песенькi-думкi» Янки Купалы – нерукотворный памятник идеологии национального самоутверждения. Он настолько искренно и всецело был захвачен этой стихией, которой сам же он и дал «мову» и одновременно «мовой» которой он стал, что интимное, углубленное самосозерцание «диалектики души» отошло на второй план. Публицистическое начало, облеченное не в политико-идеологическую, гражданскую риторику, а в народно-поэтический по генезису образный ряд, приняло, в конце концов, такую форму, что публицистика как бы перестала быть себетождественной. Публицистичность, выраженная «непублицистическими» средствами, становится больше чем публицистичность, а именно: чаяниями народа. Императивный публицистический посыл, конечно, явно ощутим, однако приданная ему амбивалентность позволила сделать сиюминутное – вечным: призывы к своему народу исходят не из уст просвещенного одиночки (лирического героя), но только лишь озвучиваются им. Содержание же призывов – вековечно и народно по сути:
Паклон мой народу за песні,
Што даў, навучыў, як складаюць…
(«Паклон мой народу за песні», 1941)
Вот этот уникальный «сплав» и можно было бы назвать публицистичностью лирики Я. Купалы. В данном случае «глас поэта» – «глас народа». Таким образом, оксюморонное сочетание «публицистическая поэзия» приобретает своеобразное значение: поразительное органическое слияние поэта с народным мироощущением, развернутым в сторону гражданских и политических свобод, в направлении культурной идентификации.
Отдельные примеры просто нет смысла приводить, ибо вся поэзия Купалы, сам дух его поэзии-служения народу буквально «сотканы» из этого состава (во всяком случае, это, безусловно, относится к его лирике начала XX в. – начала 1920-х годов).
Духовный энтузиазм и вера Я. Купалы имеют своим истоком исключительно народ, плотью от плоти которого он сам себя ощущал:
У народ і край свой толькі веру
I веру ў самаго сябе.
(«Мая вера», 1905–1916)
Мы привыкли относиться к подобному симбиозу как к чему-то в высшей степени естественному, как к само собой разумеющимся вещам. Здесь, однако, есть над чем задуматься.
Выдающийся русский поэт Н.А. Некрасов, которого, кстати, переводил Купала и который также осознанно «лиру посвятил народу своему», относился вместе с тем к своему народу противоречиво, если не сказать двойственно. Отношение это наиболее выразительно и сконцентрированно воплотилось в знаменитом «Размышлении у парадного подъезда». Итог размышлений таков: «Где народ, там и стон…»
А дальше поэт задается вопросом: что же значит этот стон-песня? Неужели это все, на что способен народ? Не есть ли сам характер этих песен знак того, что народ «духовно навеки почил»?
Отнюдь не риторический вопрос так и повисает в воздухе. В «Элегии» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») подобное отношение выражено еще более заостренно. Песнь поэта, проклинающая «народного врага» и молящаяся за его «друга», – «песнь моя громка». Сама природа «внемлет» ей и сочувственно откликается. Но тот,
«Кому посвящены мечтания поэта, —
Увы! не внемлет он – и не дает ответа…»
Народ – безмолвствует. Тем не менее, Некрасов не отрекается от своего выбора: «я ему (народу – А. А.) служил – и сердцем я спокоен…» Так или иначе, поэт отделяет себя от народа, вступает в сложные отношения с породившей его «почвой».
У Купалы – во многом иное мироощущение. И дело даже не в том, что Некрасов выступал идеологом активных социальных действий, в идеале – социальной революции, которая, по мысли поэта, должна была привести к духовному (читай – социальному) освобождению, тогда как просветительские задачи Купалы были с явным национально-освободительным акцентом: он считал, что путь к духовному освобождению пролегал прежде всего через национальную «волю», свободу (хотя все это своеобразно переплеталось с социальным противостоянием «панов» и «хамов»). Дело в том, что Купала может и сам породить стон-песню, сам оценивает ее как песню «нядолі» (ср. «3 песень нядолi», 1905–1907), но в конечном счете он не сомневается в том, что народ не только не «почил духовно», а, напротив, неуклонно движется к неотвратимому духовному возрождению, которое, очевидно, следует воспринимать в контексте обретения государственности.
Народность Некрасова подразумевает трансформацию государственности, это народность с явным гражданско-социальным уклоном; народность Купалы подразумевает обретение государственности, это народность с уклоном в «белорусский дух». Знаменитый императив Некрасова «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» Купала модифицировал следующим образом: если ты собираешься быть поэтом, то ты должен стать народным поэтом.
Разумеется, реальная литературная картина, как всегда, не укладывается в жесткую логическую схему. Купала не менее остро, чем Некрасов, переживал социальную пассивность и неярко выраженное стремление к национальной независимости. Достаточно вспомнить в этой связи «Як спытаюцца нас» (1911) и особенно «Прарока» (1911). Самозабвенная любовь к «Бацькаўшчыне» диктует и следующие горечью пропитанные строки:
Вы не умееце йшчэ, гусі,
Выракацца Беларусі,
Як ўмеюць людзі.
(«У вырай», 1918)
Более того, неоднозначное отношение к народу запечатлено в стихотворении, которое в известном отношении можно рассматривать как итоговое, как своеобразный поэтический самоотчет:
Для Бацькаўшыны беднай,
Для ўпаўшых яе сіл
Складаў я гімн пабедны
Сярод крыжоў, магіл (…)
Узносіў гэтым долю
Сваю для ўсіх дабра,
А болей… Што ж там болей
Жадаць ад песняра?!
(«За ўсе…», 1926)
Горькая ирония относится к тому, что «песняр» в очередной раз не стал пророком в своем отечестве.
И все же подобные настроения, идущие контрапунктом, не меняют в целом оптимистического отношения к перспективе народного счастья.
Итак, публицистичность поэзии Я. Купалы того периода его творчества, который можно условно назвать «национально-освободительным» по доминирующей ориентации, была органичной и неконъюнктурной. Проблема публицистичности в лирике Купалы не исчерпывается публицистичностью «естественной». В творчестве поэта можно обнаружить и публицистичность иного типа, появление которой связано, очевидно, с изменившимся отношением к действительности. С изменением ценностных установок, конечно, изменилась и содержательность лирики, а следовательно, и характер публицистичности, повлекший за собой изменение ее функций в структуре художественности.
Но это уже тема отдельного исследования. Итог же подвижнического служения народу подведен в строках из того же стихотворения «За ўсе…»:
Я адплаціў народу,
Чым моц мая магла:
Зваў з путаў на свабоду,
Зваў з цемры да святла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































