Текст книги "Хорошее отношение к стихам"
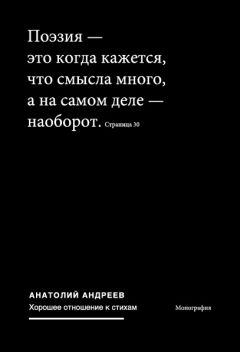
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
10. Тяга к речи
Имя в русской поэзии Беларуси: Владимир Карпов
Единственный прижизненный сборник стихов Владимира Александровича Карпова называется («назвался», по словам автора) «Амальгама» (Минск, 2000). Амальгама, зеркало, отражение, отзвук, эхо…
Стихи – «отпечатки жизни», как сказано в аннотации на книгу (по сути – на книгу книг, ибо в ней – наиболее значимые для поэта циклы, каждый из которых может быть представлен полноценной книгой; у Карпова неизданных стихов на добрый десяток «амальгам»). В данном случае это именно так: отпечатки. Простые слова и простые выражения у Карпова, поклонника-соперника поэзии серебряного века, переосмысливаются, получают эстетическую огранку и перестают быть «простыми», становятся «золотыми», «серебряными» – драгоценными, поэтическими, содержащими отражения, отзвуки…
Вовсе не случайно эпиграфом к книге избраны строки Пастернака, знакового поэта «серебряного века»: «Давай ронять слова…» Пастернаковский завет становится не легкомысленным поэтическим принципом, а чем-то судьбоносным. Тяга к речи, стремление ронять слова – это всегда на роду написано.
Вообще пастернаковское влияние явно ощутимо в поэзии Карпова, особенно в 70-е годы ХХ века. И сама логика эволюции поэта Карпова (в миру – профессора) отчетливо пастернаковская: от замысловатого плетения словес – к той простоте, которая стремится стать выражением глубины. От простоты, сокрытой (кокетливо и вместе с тем беспомощно) витиеватым поэтическим плющом, к простоте как свойству глубины: вот такой эволюционный архетип, который, возможно, является универсальным для всех поэтов. И не только для поэтов: это логика пути познания.
Только один пример из стихотворения 1973 г., посвященного Ю.М. Лотману.
И рос Кавказ алмазом юга,
а север, уходящий в тень,
кристаллизировал заслуги
на ледяном своем щите.
Сполохов пламя, день полярный,
и ночи юга, южный день —
взаимно перпендикулярны,
но не равны по высоте.
В.А. Карпов как-то послал свои стихи Ю.М. Лотману и получил вполне благожелательный отклик. С тех пор Владимир Александрович «легально» почувствовал себя поэтом (хотя как поэт он жил всегда), но никогда не делал поэтическую карьеру. А вот это уже не жест, не ложная скромность, имеющая целью привлечь внимание: он не разменивался на мелочи, жил «по-крупному», то есть живя сиюминутным, протягивал руку вечности. Самое поэтическое на свете дело. Ты «роняешь слова», «рассеянно и щедро, едва, едва, едва», а они почему-то бронзовеют.
Вот и второй сборник стихов В.А. Карпова «Дао» состоит из книг – из шести книг, судя по содержанию. «Дао» по-китайски – путь жизни; перед нами пунктиром очерченный путь беспокойного поэта, уже принявший очертания судьбы, в которой невозможно ничего исправить (судьба стихов – это уже совсем другой «дао»). Но судьбу можно не только предсказывать, ее можно читать, и это одно из самых увлекательных занятий, если творец собственной судьбы был честен и талантлив.
Поэту Карпову важно, чтобы в его книге присутствовал некий смысловой сюжет, то, что можно назвать «поэтической философией» («Путь жизни в Китае – это целая философия», – сказано в авторской аннотации): философия зеркала (эха…), философия пути.
Этот путь – до предела прямой,
поворотами он не изломан…
Дао – это дорога домой.
Даже если ты дома…
(«Дао»)
Собственно, «Дао» можно интерпретировать как путь к себе, как постижение себя.
А интерпретировать и постигать – это подлинно карповская стихия.
Первая книга «Дао» называется «Начала», и координаты начал указаны вполне по-философски: «меж музыкой и тишиной».
И все, что стало только мной, —
ютилось с сердца замираньем —
– меж музыкой и тишиной —
двумя нетленными мирами.
(«16 марта 1940»)
Музыка и тишина рождают смысл, который завораживает поэта. Эхо Дао?
Карповские метафоры всегда легки, принципиально воздушны, невесомы – и насквозь экзистенциальны, лишены пустоты:
Путь облака нам кажется чужим,
чужая боль не вызывает эхо.
………………………………
Оставленная кем-то книга
под серым куполом небес
дышала вечностью и мигом
одновременно, вся в себе.
(Цикл «Откровение»)
Все это было, было, было.
Сомненья, вечные вопросы.
И время видело чернила
и на стихах, и на доносах.
(Цикл «Все это было, было, было»)
Что постулаты в латах догм
безбожно куцых?
Две параллели хоть с трудом —
– пересекутся!!!
(Цикл «Времена жизни»)
Страницы бытия листает ночь.
(Цикл «Все это было, было, было»)
Экзистенциальность – это и есть «одновременно» «вечность и миг». Как разглядеть и зафиксировать подобные ситуации? Этому не научишь. Дао начинается с дара разглядеть в жизни время, бытие, вечность.
У Карпова очень много посвящений – настолько много, что эти посвящения – фирменный карповский жест! – стали едва ли не элементом поэтической технологии: «благодарность всем, кто вызвал эхо», кто вызвал поэтическую реакцию. Ронять слова для друзей. Видно, такой Дао: поэт умел жить среди хороших людей.
А вот и еще одна особенность поэтического мировосприятия. Во второй книге «Учителя» находим такие строчки:
Я в этой жизни кем-то был,
иль чем-то… Так материально
родство сегодняшней судьбы
со всем былым материалом.
(Цикл «Метаморфозы»)
Поэт умеет (тоже – дар!) ощущать себя звеном в бесконечной цепи мироздания. Эта особенность делает персональный Дао безмерным, безграничным, космическим. Всеобщим. Дао – это все, пропущенное сквозь магический кристалл – себя, любимого, несчастного, страдающего, творящего – разноликого. Поэт действительно становится больше, чем поэт: он становится ровесником века, другом вечности, завороженным мигом одним. А Дао становится пересечением космических трасс.
И еще. И третья книга «Ремесло», и четвертая «Чет и нечет», и пятая «Мое верую», и шестая «Мне говорят, что я не так живу» – каждая из книг, словно капля океана, содержит в себе сущностные признаки целой книги «Дао», а именно: философию пути. Каждая книга становится моментом целого. Зигзагом пути, если угодно. Здесь научно-диалектическая методология, которой профессор В.А. Карпов был большой поклонник, счастливо обрела поэтическую ипостась. Дао…
Своеобразная актуальность поэтического феномена видится Карпова в том, что он, будучи поэтом, не «зарегистрировался» как поэт, не формализовался – не спешил обнародовать, опубликовать свои стихи, весьма искусные и мастерские, но не бегущие впереди чувства, а едва поспевающие за ним, бьющим через край. Собственно, в лучших традициях мировой поэзии.
Безнадежно поучительная история. Сегодня все хотят, чтобы их считали поэтами, чтобы их заметили как можно раньше. Все страшно боятся опоздать. А ведь «не торопись, а то успеешь» никто не отменял. Поэты никогда не лезли на подиум толпами, они всегда выбирали органичную и приемлемую для них форму одиночества – свой Дао. Исчезла мода на поэзию (если она когда-нибудь была), появилась мода считаться поэтами. А ведь поэт и мода – две вещи несовместные, точнее, совместные в том смысле, что поэт может создать моду, но никогда не следует ей.
Что ж, и здесь Карпова легко отличить «по почерку», по стилю жизни, который становился стилем поэзии. По его Дао.
Мы только начинаем понимать, какое продолжительное эхо может вызвать то, что действительно вобрало в себя «эхо жизни». «Большое видится на расстояньи» – с хорошими поэтами, и к сожалению, и к счастью, бывает именно так.
Эта небольшая заметка – тоже эхо. Отзвук заметного поэтического явления, которое не скоро затеряется именно потому, что не лезло в глаза, не мельтешило, вооружившись попсовым лозунгом «как все». В этом смысле царское безразличие к тому, ведают ли о тебе, достойном, вполне сопоставимо с поэтической наглостью. Нечто в духе Дао.
В заключение – эхо, вызванное Пушкиным и странным образом аукнувшееся в судьбе поэта Карпова (Дао?).
Юный Пушкин
Жизнь – что бочка данаид,
как ни полнишь – все пустая…
Разлетелся год как стая
птиц к гнездовищам своим.
Стала инеем роса.
Стали сказки странной былью.
Аж до Африки доплыли
облака по небесам.
И забытые стихи
где-то что-то там нажали —
и, пожалуйста – Державин
оказался не глухим.
«Лиру – нате!» – говорит…
Где-то там еще хрустальный
голосок его Натальи?
Кровь, однако же, горит…
Ей еще не так гореть
на снегу нелепой речки…
А пока – была бы свечка,
Самовар, сверчок запечный,
десть, перо да тяга к речи —
после можно умереть.
Владимир Александрович Карпов ушел из жизни 23 января 2006 года.
Тяга к речи, запечатленная в его стихах, осталась.
Тяга к речи – Дао – эхо…
11. Штрихи к портрету войны
Имя в русской поэзии Беларуси: Юрий Сапожков
Поэт Юрий Михайлович Сапожков, которому в 2010 году исполнилось 70 лет, принадлежит к поколению детей Великой Отечественной войны.
Дети войны – это родовая отметина поколения, такая же характерная, как, скажем, потерянное поколение или поколение победителей. Дети войны – это особое мироощущение, особое отношение к войне, к миру, к человеку, к радости и боли. Их мировосприятие навсегда скорректировано «военной составляющей». Если ребёнку довелось родиться и жить во время войны, чувствовать её дыхание и ритм, следовательно, несмышлёныш обречен был бессознательно принимать в ней участие, по-своему воевать, примеряя к себе героические сюжеты и атрибуты. Разумеется, дети играли в войну, в «наших» и «фрицев», совершая подвиги и погибая, – то есть жили войной. И поскольку дети войны оставались прежде всего детьми, худо-бедно малолетством защищённые от непосредственного участия в сражениях, они, повзрослев, начинали испытывать нечто вроде комплекса вины перед теми, кто с войны не вернулся. Игравшие в войну в итоге победили и выжили, а те, кто воевал, часто погибали. Даже поколение победителей, тех, кто воевал и, к счастью, остался жив, обречено было ходить по земле без вины виноватыми, до конца дней своих изживать это недомогание героя, которому, к сожалению, повезло. А.Т. Твардовский очень чутко и точно запечатлел интимно-героический осадок в скупых, и оттого вместивших многое невыразимое, строчках:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Примерно то же самое испытывают без вины виноватые кругом обделённые дети войны. Чувство вины перед павшими героями, которые одновременно были их отцами или старшими братьями, и лечит, и калечит: если человеку дано переживать подобное, то это становится своего рода проклятьем; а если человек счастливо очерствел душой, то его также можно причислять к жертвам войны. Это проклятое «все же» остро со всех сторон…
Правда в том, что война не красит людей.
Но правда также и в том, что великая и справедливая война порождает высокий строй чувств, которые украшают человека.
Стихи очень подходят для выражения подобного сложного в своей простоте мировосприятия.
В 2004 г. Юрий Сапожков издал книгу стихов о войне «Письмо другу». Книжка представляет собой треугольник солдатского письма, без марки и конверта, которые отправлялись полевой почтой. Таким образом, формат фронтового общения поэт сделал эталоном содержательного человеческого общения в принципе: перед лицом смерти фальшь и пустые слова становятся эстетически безобразными, а точное и правдивое слово превращается в стихи. Мера этического становится мерой эстетического. За точными словами стоят честные чувства. Их невозможно сымитировать. Чтобы написать письмо другу и отправить его на фронт, надо принадлежать к поколению детей войны. В стихотворении «Другу», открывающем сборник, поражает умение обнаружить пафос в обыденности, и при этом не выпячивать его, сделать атрибутом повседневности, растворить в жизни и судьбе (что, конечно, тонус жизни повышает, а судьбе добавляет измерение, которое принято называть «не хлебом единым»):
Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем.
В таком же ключе сделано «Завещание отца».
Меня бессмертьем Родина
Посмертно наградила.
Отверстие для ордена
Мне пуля просверлила.
Жизнь принимал в открытую,
И встретил смерть не в спину.
Шинель свою пробитую
Велел примерить сыну:
Испытанная, давняя
Примета мне известна —
Не быть двум попаданиям
В одно и то же место.
Лучшие стихи Сапожкова вообще, и составляющие «военный» сборник в частности, обманчиво просты. Как правило, они держатся на одной магистральной метафоре, на метафорически осмысленной ситуации, которая расцвечивается мелкими, служебными метафорами (второстепенными, если так можно сказать). Получается ветвистое поэтическое сооружение – метафора из матрёшек, спрятанных одна в другую.
Иногда эта ситуация в концовке афористически оценивается и подаётся как своего рода «мораль» (см. «Завещание отца»):
…Мы незаметно их (героев – А.А.) перерастаем,
Всю жизнь мечтая дорасти до них
(«Портреты героев»);
А, может, вспомнил (престарелый ветеран – А.А.) —
Раньше перед боем
Вот так же оставляли адреса?..
(«Адреса»).
Магистральная метафора определяет своеобразие «Ночной тишины», «Бессмертия» – практически всех других стихотворений.
В эти стихи о войне надо вжиться, чтобы разглядеть очевидное (которое на первый взгляд не бросается в глаза, далеко не очевидно): отношение к войне, подсказанное судьбой и натурой поэта, становится поэтическим приёмом. Сапожков продляет войну в современность. Для него война продолжается и никогда не заканчивается, что надо понимать следующим образом: человеческая суть, которая на войне обнажается, в мирное время не становится другой; если посмотреть на человека предельно честно, если мысленно поместить его в ситуацию войны (в экстремальную, пограничную, экзистенциальную ситуацию), о человеке узнаешь много интересного.
Перед нами, если угодно, поэтический взгляд на вещи, поэтическое видение, обогащённое опытом поколения детей войны. В данном контексте определение поэта может быть таким: человек, который в своих стихах на себя и на других способен посмотреть глазами человека войны, чтобы разглядеть его беззащитность.
На самом деле, это, конечно, мирный взгляд, в нем нет ничего кровожадного; однако в нём есть «немирная» обострённость, непримиримость к душевным порокам. Это, конечно, в известном смысле романтический взгляд.
Вот почему в стихах Юрия Сапожкова нет войны как таковой, есть переклички с войной. Как, например, в «Игре».
На круче, где вихрем пехота
Прошла, поредев от потерь,
Осевшие, мрачные доты
Стреляют цветами теперь.
И Ленька – соседский мальчишка,
Овсяные брови вразлёт —
На красные беглые вспышки
Совсем по-отцовски ползёт.
Последним усильем под дула —
И вот уже рядом. Пора!..
А я в ту минуту подумал,
Что это у Леньки игра.
Лучшие произведения о войне – всегда не о войне. И все же реальное, неигровое мироощущение детей войны не даёт покоя. Есть матрёшечка и с таким содержимым…
Парадоксально: в стихах Сапожков о войне нет ненависти. Даже военные орудия, железно-стальные пушки, сеющие смерть, он видит вполне в гуманистическом ракурсе («Пушки»):
Водят дулом,
Смотрят косо,
Но пока ещё не бьют —
Наводящие вопросы
Немцу пушки задают.
Это логично и естественно: стихи, настоящие стихи, призваны славить жизнь, даже если они оплакивают смерть. Одно из последних стихотворение сборника «Отец» (памяти М.Д. Сапожкова) напрямую не связано с войной, однако оно помещено в сборник, и по логике ситуаций имеет отношение к внутреннему сюжету книги.
Отец мой там, где листьев всхлипы
Над свежекрашеной оградой.
Отец мой там, где корни липы
Вчера обрублены лопатой.
День новый ясной мыслью начат:
Там холодно, темно и влажно.
Но там отец, и это значит,
Что уходить туда не страшно.
После этого следует «Любовь» – опять же, вне контекста войны, но в контексте книги. Всё верно: война – это всегда стычка Эроса и Танатоса. Если жизнь продолжается, следовательно, победил Эрос.
В семнадцать – праздничная новь.
Когда тебе за тридцать – благо.
А после сорока любовь —
Души великая отвага.
Ты всем пожертвовать ей рад,
Хоть бездна жертв не возвращает.
А в шестьдесят?
А в шестьдесят
Любви, я думал, не бывает.
Таким образом, «Письмо другу» – это поэтический отчёт о том, что война была не напрасной, что души победителей уцелели и настроены на дружбу, любовь и память.
Не на войну.
12. Отражение судьбы, или Невесома жизнь без доли
Имя в русской поэзии Беларуси: Ольга Переверзева
Думаю, не биография делает писателя или поэта; его создаёт измерение жизни, которое называется судьба. Есть судьба – может появиться и поэзия (если, волею судеб, человек ещё и одарён, избран); нет судьбы —…
На нет и суда нет.
Новый поэтический сборник Ольги Переверзевой называется «Амальгама судеб» – и причудливое отражение судьбы поэтессы, с которой автор не может справиться, хотя прилагает к этому немалые усилия (по издавна заведённым правилам человек достойной судьбы обязан сопротивляться и противостоять судьбе же), ощущается в каждой строчке.
Дрожали слёзы и слова.
Он умолял, она кивала,
Как беззащитная сова,
От света прячась в покрывало.
Ты не сумеешь быть одна,
Я подарю тебе закаты
И жизнь свою сполна, до дна,
Мы всех простим, кто виноваты.
И будем жить душа к душе,
Родим детей, их будет двое…
Она вдруг вздрогнула:
– Уже
Зима пришла, как ветер воет.
…и в дом, где радуга видна,
Не проползти раздора змею.
Ты ведь не можешь быть одна!
– Я только это и умею.
Поэт всегда, вольно или невольно (лучше, конечно, невольно), специализируется на передаче определённого умонастроения, мироощущения. Когда говорят, что у поэта есть свой голос, имеют в виду именно эту специализацию. В литературе великой – очень много голосов, много поэтов «хороших и разных». С одной стороны, нет ничего сложнее, чем отыскать свой голос; а с другой – и отыскивать ничего не надо: как раз этим и «заведует» судьба.
Очень непросто сформулировать суть несомненно ощущаемой переверзевской специализации; здесь надо идти вслед за поэтом: чтобы добраться до мыслей, надо распутать клубок чувств. Начать хочется со странного (запомним это определение: вернёмся к нему в конце нашей заметки) ощущения, которое не покидает меня, когда я читаю стихи Ольги Переверзевой: интересно, а что бы она делала, если бы на неё вдруг обрушить огромное и несомненное человеческое счастье (как бы его ни понимать)? Мне кажется, она просто бы не знала, что с ним делать; не исключено, что, вжившись в роль своей поэтической героини, развела бы руками и вдобавок неподражаемо пожала плечами: дескать, оно мне надо? Судьба бы растерялась.
Я не хочу сказать, что она нашла своё счастье в том, чтобы быть изысканно несчастной (у неё в стихах это здорово, на зависть получается); я о её душевно-поэтической специализации: ей дано печально петь и темпераментно тосковать. Выражать вот эту невыразимую ностальгию по лучшей доле. (Оговорюсь: я не пытаюсь реконструировать реальный облик госпожи Переверзевой, боже упаси меня от подобной бестактности; меня занимает поэтический механизм, искусное отражение судьбы, а не сама судьба автора «Амальгамы судеб» – пожелаю её долгих счастливых лет, украшенных неиссякаемым творчеством.)
Думаю, сама фамилия поэтессы, столь чуткой к судьбоносным колебаниям, имеет отношение к её судьбе: Ольга Владимировна все своенравно переворачивает, переиначивает и стремится перекодировать в особый переверзевский стиль, где жизнь и судьба – переставлены самоуверенно и пересмешливо:
Простого сердца полнолунья,
Пустого слова полынья…
Не обнимая до безумья,
Вы не отпустите меня.
(……..)
Вы убиваете гуманно.
И больших бед не пережить.
Не отпускаете…
как странно
Любимой и убитой быть.
Вот её лирическая героиня, её поэтический двойник, всегда – «любима и убита», точнее, любима, потому что убита, и убита – потому как любима. Так сказать, только «это» и умеет. И исполняет она «это» с каким-то бунтарским драйвом (отчасти – цветаевским):
Оторви да брось,
Чтоб навек и врозь!
Раскрои по швам —
Ни себе, ни вам!
Распродай «за так»,
Как судьбу бедняк!
Разлюби – и сгинь,
Как занозу вынь!
И развейся в прах
В сорока ветрах!
Не срастётся вкось,
Разлюбил – так брось!
Всё смогу сама.
И сойду с ума.
Можно было бы сказать и так: её искренняя поэзия подпитывается игрой, порой переходящим в заигрывание с судьбой. И дело тут не в том, что мотив спора с судьбой так или иначе присутствует почти в каждом стихотворении («Переспорила б судьбу», «Увы, Вы жертва провиденья» и т. д.); дело в том, что поэтесса тонко чувствует экзистенциальную грань между жизнью и судьбой, – грань, которая всегда проявляется в мелочах, в «безделицах»:
Мелочь, сущая безделица:
Вам – не спится, мне – не верится.
И зима под ноги стелется
Смелых бабочек метелицей.
Прихоть, призрачная разница:
Жизнь капризной безобразницей
Вам – смеётся, мне – лишь дразнится
Пересмешницей-проказницей.
Вам – любить, а мне – лишь нравиться,
С этой разницей не справиться.
Солью снег к утру отравится,
Вам – дожить, а мне – прославиться…
Мелочь, сущая безделица:
Вам – зима, а мне – метелица.
И – вот она, квинтэссенция миросозерцания:
На, возьми
полезной боли —
Невесома
жизнь без доли.
И ещё одна мелочь: все её каверзные мироощущения и умонастроения – очень и очень женские по сути своей и природе, поэтому главным для неё становится любовь и отсутствие любви (что соотносится как судьба и жизнь):
Зла – не помню.
И не злюсь.
Я, наверно,
ровня чуду.
Отомщу разок,
клянусь,
И забуду.
Всё забуду.
И, пожалуй, последний пустячок из главных: чтобы поэтически выражать мироощущение, надо обучиться мастерству, которому нигде не обучают, – необходимо говорить не словами, но словами, совмещёнными со звуками, интонациями, паузами, ритмами, образами – тем поэтическим арсеналом, что «сам собой» сочится чувствами, которые подпитываются смыслом. Надо изъясняться языком гармонии (все вопросы по поводу обучения этому языку избранных, опять же, – к судьбе).
Всё вышеотмеченное – и бунты с «контрами», и беззащитная ностальгия по «высокому», и женское внимание к мелочам (которое и мужчин делает поэтами), и мастерство, без которого никак, но секреты которого никто не откроет, – всё это элементы традиции, из которых складывается поэзия (бессмысленно говорить «настоящая поэзия», ибо ненастоящей поэзии не бывает; поэзия – это феномен подлинного, настоящего, жизни, отбрасывающей тень судьбы, или даже судьбы, при которой сама жизнь становится тенью). И существовать в этой традиции, входя в её состав, превращаясь в одно из её звеньев («нет, весь я не умру»), – ох, как непросто; гораздо легче быть непохожим на других, ещё проще стать «резко индивидуальным» (для этого нужны «фишки», голое мастерство – собственно, не судьба, а именно её явное отсутствие); а вот быть поэтом, непохожим на других поэтов, – это уже из разряда быть отмеченным судьбой. У Ольги Переверзевой есть стихи, о которых нельзя сказать: хорошо – но Цветаева (или Ахматова, или Сапфо) лучше. У неё есть свой голос – радость и крест в поэзии (да и в искусстве в целом). А больше…
Чего ж вам больше?
Судьба же и решит, кому дано остаться в поэзии. Но и быть участником этого «розыгрыша» – весьма почётно по меркам культуры. Предыдущий сборник стихов Ольги Переверзевой (кстати, очень яркий и, есть основания надеяться, судьбоносный) назывался «Имя на память». Вроде бы, и не вызывающе, но и не без дерзости, всё как-то в пику «судьбы закону».
«Амальгама судеб» – это тоже «имя на память».
Думаю, любителям поэзии понравится. Запомнится.
Попробуйте забыть, например, такую вот безделицу:
Я – далеко,
я нигде и везде.
Я вся полна,
но полна пустотой.
Странное чувство:
как будто звезде
Вдруг пригрозили.
И чем?
Высотой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































