Текст книги "Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни"
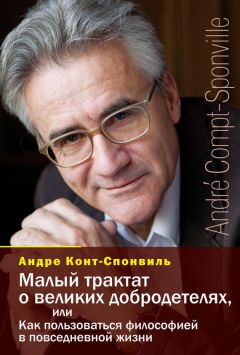
Автор книги: Андре Конт-Спонвиль
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В этом же можно усмотреть критерий или, как говорит Ален, золотое правило справедливости: «При заключении каждого договора, при каждом обмене поставь себя на место другого, но не забывай о том, что тебе известно, и, считая себя настолько свободным от любых принуждений, насколько это возможно, посмотри, одобрил ли бы ты этот обмен или договор». Золотое правило и железный закон – может ли быть что-либо суровее и непреложнее? Они выражают стремление совершать сделки только между равноправными и свободными субъектами, и здесь справедливость, даже понимаемая как ценность, относится к политике в той же мере, в какой она относится к морали. Справедливо, утверждает Кант, всякое действие, которое позволяет свободной воле каждого сосуществовать со свободой других в соответствии с универсальным законом. Такое сосуществование свобод под сенью одного и того же закона подразумевает равенство, во всяком случае равенство в правах, вернее сказать, оно делает это равенство реальностью – это и есть справедливость, которую приходится каждый раз создавать и воссоздавать и над которой постоянно нависает угроза уничтожения.
Я говорил, что здесь затрагивается политика. Защищать интересы свободных и равных (равных именно потому, что свободных) граждан – это и есть принцип любой подлинной демократии и горнило прав человека. В этом отношении теория общественного договора – в отличие от теории естественного права – имеет наиважнейшее значение для современного общества. Разумеется, и то и другое – фикция, но последняя предполагает реальность, что бессмысленно (если бы существовало естественное право, нам было бы не нужно добиваться справедливости: достаточно было бы ее соблюдать), тогда как первая утверждает ее принцип и выражает волю. Что поставлено на карту в идее первобытного договора (у Спинозы и Локка, а также у Руссо и Канта)? Не столько фактическое существование свободного соглашения между равными партнерами (подобных договоров никогда не бывало, что хорошо известно каждому, кто хоть когда-нибудь заключал авторский договор с издательством), сколько утверждение права на равную свободу для всех членов политического образования. Благодаря этому договоры возможны и необходимы. Вспомним Аристотеля, его равенство (поскольку всякая свобода постулируется равной иным свободам) и законность (поскольку при определенных условиях подобные договоры могут обретать силу закона). Яснее, чем Руссо, Локк и Спиноза, на эту тему высказался Кант, показавший, что подобный договор может носить лишь гипотетический характер, хотя без этой гипотезы немыслимо никакое небогословское определение права и справедливости.
Общественный договор есть правило, а не причина создания государства. В нем заключается не принцип его основания, но принцип его управления. Он не объясняет будущего, но проясняет идеал, в том числе идеал законности, правительства и общественной справедливости. Общественный договор ничего не говорит о происхождении государства, о его сущности, он показывает, чем государство должно быть. Идея справедливости, понимаемая как сосуществование свобод под эгидой закона, относится не к сфере познания, а к сфере воли (практического разума, как сказал бы Кант). Это не теоретический концепт, разработанный для данного общества, это путеводная нить для суда и идеал для деятельности.
То же самое находим и у Роулза. Можно представить себе людей в первобытном состоянии, когда никому не известно, какое место в обществе ему отводится (Роулз называет это состояние покровом невежества), и попытаться осмыслить справедливость как равенство (а не как просто законность или полезность), что возможно лишь при одном условии: придется вынести за скобки все индивидуальные различия между людьми и приверженность каждого, даже оправданную, личным эгоистическим и малосущественным интересам. Это снова гипотеза и даже фикция, но она позволяет нам хотя бы немного очистить требование справедливости от частных интересов, с которыми нас так и подмывает ее смешать. Первобытное состояние, сказал бы я, это своего рода виртуальное собрание равноправных индивидуумов, лишенных эго (поскольку предполагается, что никто из них понятия не имеет не только о своем классовом положении или социальном статусе, но и о своем уме, силе или, по Роулзу, «особенностях своей психологии»), и тем самым оно говорит о многом. Паскаль утверждал, что «я» – всегда несправедливо, и по этой причине рассуждать о справедливости можно, только выведя из игры свое «я» или, по меньшей мере, подчинив его строгому контролю. Это и происходит в первобытном состоянии, в котором никто никогда не жил и жить не может, но в которое можно попытаться перенестись, хотя бы временно и виртуально, чтобы осмыслить те или иные вещи и вынести о них свое суждение. Эта модель позволяет «закоротить» эгоизм (в первобытном состоянии никто не сознает своего места в обществе и своих природных козырей, поэтому не в состоянии разработать выигрышную для себя стратегию), в то же время не навязывая силой альтруизм (поскольку каждый человек откажется жертвовать своими, даже смутно сознаваемыми, интересами ради других). Это позволяет понять, что такое справедливость – не эгоизм и не альтруизм, но равновесие прав, проявляемое через взаимный обмен между индивидуумами. Каждый выступает только за себя, но это становится возможным – поскольку все реальные люди различны и дорожат своими интересами, противопоставляющими их остальным, – только при том условии, что каждый может поставить себя на место другого. Именно к этому приводит «покров невежества», по мнению Роулза, характеризующий первобытное состояние: каждый отдельный человек, не зная, кем он станет, будет видеть свой интерес в интересах всех и каждого, и вот этот недифференцированный интерес (взаимный и одновременно, в силу «покрова невежества», индивидуально бескорыстный) и можно назвать справедливостью. Во всяком случае, такая модель позволяет приблизиться к ее пониманию. Впрочем, необходимо задаться еще одним вопросом. Разве уже у Руссо в общественном договоре всеобщая отчужденность и двойная универсальность закона (при республиканском строе) не приводили к сопоставимому результату, хотя бы в виде тенденции? Но это заводит слишком далеко в дебри политической философии, тогда как нам пора вернуться к морали, то есть к справедливости, понимаемой не как общественный императив, а как добродетель.
И то и другое, бесспорно, тесно связано между собой, и эта связь предстает в виде эго, когда удается ее «развязать». Быть справедливым в нравственном смысле означает отказ от попыток возвыситься над законом (в силу чего справедливость даже в своей добродетельной ипостаси остается связана с законностью) и над другими людьми (в силу чего она остается связана с равенством). Что это означает? То, что справедливость – это добродетель, благодаря которой каждый человек пытается преодолеть обратную тенденцию, толкающую его вознестись выше всех и, как следствие, пожертвовать всем чем угодно ради удовлетворения своих желаний и интересов. «“Я”, – пишет Паскаль, – несправедливо по самой своей сути, ибо почитает себя превыше всего и всех»; оно «неудобно для ближних, ибо стремится подчинить их себе; каждое “я” враждебно всем прочим и хотело бы всех тиранить» («Мысли», 455). Справедливость есть противоположность этой тирании, следовательно, противоположность эгоизма и эгоцентризма (впрочем, похоже, что это свойство любой добродетели), либо отказ человека отдаться эгоизму. Таким образом, она ближе всех прочих к альтруизму или любви, которая является единственным подлинным альтруизмом. Но именно лишь ближе! Любить слишком трудно, особенно ближнего своего (если мы и умеем кого любить, так только своих близких), особенно людей – такими, какие они есть или какими нам представляются. Достоевский замечает в «Братьях Карамазовых», что многих людей было бы легче полюбить, не будь у них лица. Любовь слишком требовательна. Любить слишком опасно. Одним словом, любовь требует от нас слишком многого! В сравнении с чрезмерностью милосердия (для которого другой – это все) и чрезмерностью эгоизма (для которого «я» – это все) справедливость придерживается умеренности, символизируемой весами, иначе говоря, равновесия или пропорциональности. Каждому – по мере, говорит Аристотель, не больше и не меньше, в том числе и мне, как если бы я был всего лишь одним из прочих. Вот благодаря этому справедливость, несмотря на свою умеренность, а может, как раз из-за нее, остается для каждого недостижимым горизонтом.
В том, что я есть, проявляется истинность справедливости, и остальные – справедливые и несправедливые – обязательно мне об этом напомнят.
Спиноза называет справедливостью постоянную душевную готовность предоставить каждому то, что полагается ему согласно гражданскому праву. Соответственно, человек, постоянно стремящийся каждому воздать что положено, является справедливым. Это традиционное определение, повторяющее идеи Симонида и бл. Августина. Но вот вопрос – а что считать своим, полагающимся лично тебе? Из природных вещей – ничего. Именно поэтому справедливость подразумевает политически и юридически организованную общественную жизнь. «В естественном состоянии никто не является господином какой-либо вещи по общему признанию, и в природе нет ничего, про что можно было бы сказать, что оно есть собственность такого-то человека, а не другого; но все принадлежит всем, и вследствие этого в естественном состоянии нельзя представить никакого желания отдавать каждому ему принадлежащее или брать чужое, то есть в естественном состоянии нет ничего, что можно было бы назвать справедливым или несправедливым» («Этика», IV, 37, схолия 2). Для Спинозы, как и для Гоббса, понятия справедливости и несправедливости являются «внешними», описывающими качества человека общественного, а не одиночки. Что не исключает того, что справедливость является добродетелью, однако эта добродетель становится возможной только там, где установлены законы права и собственности. Но разве установление этих законов может происходить помимо согласия – добровольного или принудительного – индивидуумов? Справедливость существует постольку, поскольку люди, с общего согласия, стремятся к ней и творят ее. Следовательно, в естественном состоянии ни о какой справедливости не может идти и речи. Никакой природной справедливости не существует. Всякая справедливость человечна и исторична. В юридическом смысле термина справедливости нет без законов, в моральном – без культуры. Иными словами, нет общества – нет справедливости.
Но рассуждая от обратного, можно ли представить себе общество без справедливости? Гоббс и Спиноза дали бы на этот вопрос отрицательный ответ, и я склонен с ними согласиться. Разве может существовать общество без законов и без минимума равенства и соразмерности? Даже бандиты, и это широко известно, образуя группировки, соблюдают установленные между собой определенные правила, основанные на их представлениях о справедливости. Почему же в масштабе всего общества дело должно обстоять иначе? Но вот Юм (18), например, дает иной ответ на этот вопрос, что заставляет нас задуматься. Юм опирается на пять гипотетических положений, на мой взгляд, неравноценных, но каждое из которых заслуживает рассмотрения.
Разумеется, Юм не отрицает ни пользы, ни даже необходимости справедливости для всякого реально существующего общества. Мало того, эта идея лежит в основе его учения, ставшего предтечей утилитаризма. Необходимость справедливости для поддержания существования общества, полагает он, есть единственное основание этой добродетели. Насчет единственности можно поспорить, и мы к этому еще вернемся, но отрицать эту необходимость нельзя. Какое эффективно действующее общество способно выжить без законов – юридических и нравственных? Но общества так сложно устроены! Как узнать, что необходимость справедливости действительно является, как считает Юм, его единственным основанием? Надо представить себе, рекомендует Юм, общества, в которых подобной необходимости нет. Если справедливость в них существует, по меньшей мере, в виде требования, это значит, что одной необходимостью объяснить ее нельзя; если справедливости нет, это очень сильный аргумент в пользу утверждения, что хватает одной необходимости, чтобы объяснить ее появление в данном обществе и обосновать ее ценность. Рассуждая в подобном духе, Юм приводит пять последовательных гипотез, каждая из которых нацелена на отмену необходимости справедливости, в результате чего доказывается ее ценность. Если бы эти гипотезы были приемлемыми, а вывод обоснованным, то пришлось бы заключить, что и в самом деле польза или общественная необходимость являются единственной причиной справедливости и единственным основанием ее заслуг.
Вот коротко эти пять гипотез. Абсолютное изобилие; всеобщая любовь; всеобщая крайняя нищета и произвол насилия (как во время войны или в природном состоянии Гоббса); столкновение с существами, наделенными разумом, но слишком слабыми, чтобы защитить себя; наконец, поголовное отчуждение индивидуумов, приводящее к полному одиночеству каждого. На примере этих пяти моделей показывается, что справедливость, переставая быть необходимой или полезной, утрачивает всякую ценность. Но так ли это?
Из всех пяти гипотез самая сильная, конечно, последняя. Если справедливость регулирует наши отношения с другими людьми, то при условии поголовного одиночества она лишается объекта и содержания. В чем состояла бы ее ценность и какой был бы смысл считать ее добродетелью, если бы у нее не было ни единой возможности хоть как-то проявиться? Это не значит, что нельзя быть справедливым или несправедливым по отношению к самому себе. Но это становится возможным только в сопоставлении, даже неявном, с другими людьми. Выносить суждение – это всегда в какой-то мере сравнивать, и поэтому всякая справедливость, даже чисто рефлексивная, всегда носит общественный характер. Без общества нет справедливости, это мы уже показали, что доказывает правоту Юма: в обществе абсолютного одиночества справедливости нет места.
Можно на крайний случай принять еще и вторую гипотезу. Если каждый индивидуум исполнен самых дружеских, самых великодушных, самых доброжелательных чувств к себе подобным, то ему не нужны ни законы, ни уважение принципа равенства. Любовь стоит выше простого уважения чужих прав – это видно на примере дружных семей – и вполне успешно заменяет собой справедливость. Я не случайно оговорился: «на крайний случай», потому что немедленно возникает вопрос. Что сделает любовь – уничтожит справедливость, как полагает Юм, или – к чему склоняюсь я – превратит нас всех в людей справедливых? Вспомним прекрасное определение Аристотеля: «Когда [граждане] дружественны, они не нуждаются в правосудности, в то время как, будучи правосудными, они все же нуждаются еще и в дружественности» («Никомахова этика», VIII, 1). Это не значит, что мы должны быть несправедливы к своим друзьям, это значит, что справедливость между нами подразумевается само собой, что она включена в нашу дружбу. Так же и любовь – если она безгранична и носит всеобщий характер, то любые обязательства выполняются сами собой, и о них никто даже не задумывается (поскольку ничто не толкает людей к их нарушению). Итак, с одиночеством и любовью мы разобрались.
Три остальные гипотезы представляются более спорными.
Вначале поговорим об изобилии. Представим себе, что людям доступны все мыслимые блага в неограниченном количестве и каждый может получить все, чего ни пожелает. В этом случае, поясняет Юм, никому и в голову не придет задумываться о такой благоразумной и ревностной добродетели, как справедливость. К чему делиться благами, если у каждого и так есть все? Зачем устанавливать законы собственности, если их некому нарушать? Зачем объявлять ту или иную вещь своей, если, пожелай кто-то ею завладеть, ему достаточно будет лишь протянуть руку и заиметь точно такую же? Справедливость в этом случае обернется пустым звуком, церемониалом и никогда не сможет занять свое место в списке добродетелей.
Но так ли это на самом деле? Да, законы, направленные против воровства и на защиту собственности, станут бесполезными. Но разве собственность – единственный, как полагает Юм, объект справедливости? Разве это единственное из прав человека, которому может грозит опасность и которое нуждается в защите? Даже в обществе всеобщего изобилия, напоминающего поэтический «золотой век» или предсказанный Марксом коммунизм, останется возможность оклеветать ближнего или осудить невиновного (воровство, может, и потеряет смысл, а как насчет убийства?). И это будет точно такая же несправедливость, какая царит в нашем обществе повальной нехватки благ и относительной недостаточности ресурсов. Если справедливость – добродетель, основанная на уважении равенства прав и каждому воздающая по заслугам, то разумно ли считать, что она касается только собственности и собственников? Разве обладание чем-то – мое единственное право? Разве только в собственности мое достоинство? И кто скажет, что он в ладах со справедливостью только потому, что он ничего ни у кого не украл?
Те же самые замечания напрашиваются и в связи с гипотезой о крайней нищете или разгуле преступности. Предположим, продолжает Юм, что общество больше не в состоянии удовлетворить самые обычные потребности людей, так что даже воздержанность и изворотливость самых богатых не могут помешать большинству гибнуть. В подобных обстоятельствах строгие законы справедливости теряют вес и уступают место заботам о спасении собственной жизни. Но, насколько мне известно, опыт нацистских или сталинских лагерей опровергает это предположение. Цветан Тодоров (19), опираясь на свидетельства выживших, показал, что даже в концлагерях, в самых экстремальных условиях оставался выбор между добром и злом. Праведники были редки, но это не значит, что мы должны о них забыть, если, конечно, не хотим сыграть на руку их палачам. В концлагерях, как и везде, индивидуальные различия между людьми нередко оборачивались нравственными различиями. Одни крали чужую пайку, выдавали смутьянов охранникам, издевались над слабыми и пресмыкались перед сильными. Вот она, несправедливость. Другие организовывали сопротивление, укрепляли солидарность, делились общими запасами, защищали слабых, одним словом, даже в нечеловеческих условиях пытались создать хотя бы видимость равенства. То есть справедливости. Да, эта справедливость сильно видоизменилась, но ведь не исчезла же – ни как императив, ни как ценность, ни как возможность. Да, и в лагерях были праведники и негодяи. Вернее сказать (не следует упрощать), и в лагерях была возможность вести себя более или менее справедливо, и многие вели себя как раз справедливо, часто ценой собственной жизни. Что ж теперь, нам сделать вид, что эти люди никогда не существовали? А сколько таких, кто, даже не будучи героем, все равно вел себя более справедливо, вопреки инстинкту самосохранения? Слишком часто повторяя, что в концлагерях не было места морали, мы признаем правоту тех, кто и в самом деле хотел, чтобы она исчезла, и забываем тех, кто оказывал сопротивление – на своем уровне, своими способами – ее уничтожению. Эти люди вели каждодневную битву против охранников, против других заключенных и против себя.
И почему на войне дело должно обстоять иначе? Никто не спорит, что война резко меняет условия жизни и делает проявления справедливости гораздо более трудными. Но это не значит, что солдат или офицер не может в той или иной ситуации повести себя справедливее или несправедливее. Это доказывает, что война вовсе не отменяет императива справедливости и не лишает ее ценности. Впрочем, это признает и Юм, указывая, что даже во время войны у врагов остаются общие интересы и общая польза. Но разве этим исчерпывается справедливость? Ведь справедливость как раз и вступает в противоречие с корыстью и пользой! Например, рассмотрим гипотезу, согласно которой пытки и казни военнопленных выгодны обеим воюющим сторонам (поскольку каждая находит в этом свою пользу). Но разве это делает их справедливыми? Общая польза усиливает потребность в справедливости и часто служит ей самым сильным побудительным мотивом, заставляющим нас ее уважать. Этого никто не оспаривает, но если бы справедливость заключалась только в пользе, то на свете вообще не стало бы ни справедливости, ни несправедливости. Было бы только то, что полезно и вредно, то есть остались бы только корысть и расчет. Чтобы быть справедливым, вернее тем, что понималось бы под справедливостью, достаточно было бы быть умным. Но ведь это не так, и пример праведников, которые остаются справедливыми даже в ужасающих условиях, напоминает нам об этом.
Что касается последней гипотезы Юма, то от нее, признаться, по спине пробегает холодок. Больно читать строки, написанные этим гением:
«Если бы существовала разновидность созданий, живущих среди людей, созданий, наделенных разумом, но настолько слабых как в физическом, так и в нравственном отношении, что они были бы неспособны оказать малейшее сопротивление и никогда, даже в самой оскорбительной ситуации, не проявили бы своего гнева, я думаю, что мы были бы обязаны, согласуясь с законами человечества, обращаться с этими созданиями мягко, но, собственно говоря, мы не обязаны были бы проявлять к ним справедливость, а они не имели бы ни права, ни способности противостоять своим судьям и хозяевам. Наши отношения с ними не могли бы именоваться “общественными”, потому что это название подразумевает определенную степень равенства, а здесь мы имели бы, с одной стороны, “абсолютную власть”, а с другой – “рабскую покорность”. Все, чего нам захочется, они должны немедленно уступить в нашу пользу; все, чем они владеют, остается в их владении лишь с нашего позволения; наше сострадание и наша доброта суть единственные тормоза, спасающие их от нашего произвола. И поскольку от применения власти, установленной самой природой, не может происходить никаких бед, то требования справедливости и прав собственности никогда не будут иметь места в подобном обществе неравенства за их полной бесполезностью» («Учение о справедливости», часть III).
Я привел этот фрагмент целиком, чтобы ничего в нем не извратить. Мы видим, что личные качества Юма, особенно его человечность, не подвергаются сомнению. Но философская основа его рассуждений совершенно неприемлема. Разумеется, я согласен с тем, что в отношениях со слабыми необходимы мягкость и сострадание, и читатель найдет их на страницах этого трактата. Но разве допустимо считать, что мягкость и сострадание способны заменить собой справедливость? Юм пишет, что без «определенной степени равенства» не бывает не только справедливости, но и общества. Прекрасно! Но только следует добавить, что речь идет не о фактическом равенстве и не о равенстве сил, а о равенстве прав! Между тем, чтобы иметь права, достаточно обладать сознанием и разумом, даже если у тебя нет сил защищаться или нападать на других. Иначе дети и инвалиды не имели бы никаких прав. И в конце концов, никто из людей не имел бы никаких прав (потому что ни один человек не может быть настолько сильным, чтобы гарантировать себе абсолютную защиту от всего на свете).
Представим на минуту этих наделенных разумом и беззащитных созданий, о которых пишет Юм. Имею ли я право (поскольку мягкость и сострадание – вещи иного порядка) эксплуатировать или насиловать их в свое удовольствие? Таково отношение людей к животным, уточняет Юм. А вот и нет! Потому что животные-то как раз и не наделены разумом! Юм это чувствует и потому приводит два других примера. И какие это примеры! «Великое превосходство европейцев над индейскими варварами, – продолжает он, – позволяет нам вообразить себе подобные взаимоотношения, отказавшись в обращении с ними от всякого долга справедливости и даже человечности». Пусть так, но где же тут справедливость? Слабость индейцев по сравнению с европейцами ни у кого не вызывала сомнений, и справедливость по отношению к ним, как показали события, быстро потеряла социальную необходимость. Но разве это значит, что они не имели права на справедливость? Разве можно согласиться с тем, что мягкостью и состраданием мы полностью воздали им должное (и даже не должное, ибо они в силу своей слабости не имели никаких прав, следовательно, мы им ничего не были должны)? На мой взгляд, согласиться с этим невозможно, не отказавшись от самой идеи справедливости.
Монтень, близкий к Юму во многих других вопросах, заметил это. Слабость индейцев должна заставить нас проявить к ним справедливость (а не только сострадание!), и мы жестоко виноваты в том, что злоупотребили своими правами, поправ их права. Справедливость, каждому воздающая по заслугам, не дозволяет убийств и грабежей. Если справедливость возникает для пользы общества, это еще не значит, что она ограничивается исключительно пользой самого этого общества. Монтень, правда, такого вывода не делает, но мне представляется, что он не стал бы против него возражать. Представим себе еще одну Америку, которую мы открываем на другой планете. Америка эта населена существами разумными, но мягкими и беззащитными. Что же, мы опять начнем играть в конквистадоров? Убивать и грабить? Если руководствоваться только корыстью и пользой, то почему бы и нет? Но только не надо называть это справедливостью.
Второй приводимый Юмом пример выглядит забавнее, что не делает его менее спорным. «Во многих обществах женский пол сведен к рабскому состоянию, что объясняют неспособностью женщины в сравнении со своим хозяином и господином владеть чем бы то ни было. Но хотя во всех странах мужчины, объединившись, достаточно сильны физически, чтобы навязать женщинам эту суровую тиранию, умение уговаривать, ловкость и прелести их супруг таковы, что женщины обычно находят возможность нарушить это правило и разделяют с противоположным полом все права и привилегии жизни в обществе». Я не оспариваю ни упомянутого рабства, ни ловкости, ни прелестей. Но разве это рабство справедливо? И было бы оно справедливым в стране, где закон не только не запрещает его, но даже предписывает, по отношению к женщине, полностью лишенной умения уговаривать, хитрости и прелестей? Нет, это немыслимо. Так же немыслимо, как полагать, что единственными ограничениями, которые мы должны соблюдать по отношению к уродливой и неловкой женщине, являются мягкость и сострадание.
Зато у Лукреция, который, как и Эпикур, в отношении справедливости придерживался скорее утилитаристских взглядов, мы находим прямо противоположное суждение. В доисторические времена слабость женщин и детей не только не исключала их из сферы действия справедливости, но и делала справедливость морально необходимой и желательной. «Когда они научились пользоваться жилищами, звериными шкурами и огнем, когда женщина в силу брачных уз стала собственностью одного супруга и они стали вместе растить свое кровное потомство, вот тогда род человеческий начал понемногу терять свою неотесанность. Венера лишила их грубой силы, а дети своими ласками с легкостью побороли природную злобу родителей. Тогда же начали завязываться дружеские связи между соседями, желающими защититься от взаимных обид: они стали вместе заботиться о женщинах и детях, давая понять и на словах, и на деле, что жалеть слабых – справедливо» («О природе вещей», V, 1011–1023).
Мягкость и сострадание не заменяют справедливость, но и не означают ее конец. Скорее то и другое лежит в основе появления справедливости, и поэтому справедливость, которая имеет значение в первую очередь для слабых, не должна исключать их из сферы своего действия и не должна давать нам право их попирать. Вполне очевидно, что справедливость имеет общественную пользу, мало того, она необходима для общества, но этими пользой и необходимостью ее значение далеко не исчерпывается. Справедливость во благо сильного – это уже несправедливость. В этом и состоит сущность справедливости как добродетели: она подразумевает соблюдение равенства прав, а не равенства сил; равенства индивидуумов, а не могущества.
Паскаль часто высказывается гораздо более цинично, чем Юм. Но в главном он непреклонен: «Справедливость, не поддержанная силой, немощна; сила, не поддержанная справедливостью, тиранична» («Мысли», с. 298). Побеждает всегда не самый справедливый, а самый сильный. Это запрещает нам мечтать о несбыточном, но не запрещает бороться. Бороться за справедливость? – спросят меня. А почему нет, если мы ею дорожим? Бессилие фатально; тирания омерзительна. Значит, надо объединить силу со справедливостью. Этим и занимается политика, что делает ее необходимой.
Как я уже упоминал, желательно, чтобы законы и справедливость двигались в одном направлении. На суверена это накладывает тяжкую ответственность. В наших демократических обществах эта ответственность лежит на законодательной власти. Но переложить весь груз забот на плечи парламентариев не получится. Власть никому не дается просто так: за нее надо бороться, ее надо защищать, и никто не подчиняется власти с большой охотой. Но было бы большим заблуждением мечтать об абсолютно справедливом законодательстве, которое останется только применить. Уже Аристотель показал, что справедливость не вмещается в рамки законных установлений. Равенство, к которому она стремится, есть правовое равенство, несмотря на существующее фактическое неравенство и даже несмотря на неравенство, возникающее из-за механистического или слишком негибкого применения законов. «Добро, – поясняет Аристотель, – есть право, но право не в силу закона, а в качестве исправления законного правосудия» («Никомахова этика», V, 14). Это позволяет применять общий закон ко всему множеству сложных случаев и меняющихся обстоятельств, увидеть каждую конкретную ситуацию в ее уникальности. При этом добрый человек будет в высшей степени справедливым – в том смысле, в каком справедливость стоит гораздо выше простого подчинения закону и является ценностью и императивом. Добрый человек, уверяет Аристотель, это тот, кто справедлив независимо от писаных законов. Доброму человеку равенство важнее законности, во всяком случае, он умеет корректировать негибкие и абстрактные положения закона в пользу более сложных императивов (ведь, повторимся, речь идет о равенстве индивидуумов, которые различаются между собой). Это может завести его далеко, часто вынуждая пойти наперекор своим интересам. Добрый человек – это тот, «кто способен сознательно избрать добро и осуществлять это в поступках, кто не требует точного соблюдения своего права в ущерб другим, но, несмотря на поддержку закона, склонен брать меньше, и этот душевный склад – доброта, представляющая собою вид правосудности и не являющаяся каким-то отличным от нее душевным складом» («Никомахова этика», V, 14). Назовем это прикладной справедливостью – живой и конкретной. То есть подлинной справедливостью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































