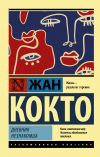Текст книги "Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее"
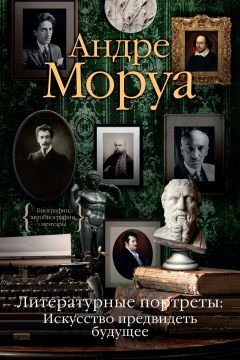
Автор книги: Андре Моруа
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Почему? Никаких продиктованных рассудком аргументов у него не было, да и вообще ко всему рассудочному он относился с презрением. Он очень рано выбрал в учителя Бергсона, отсюда его доверие интуиции и уважение к тайне, если не к мистике.
Он стеснялся называть себя верующим: «Когда я говорю о своей вере в Бога, это значит, что я чувствую присутствие Бога в себе, и, возможно, это попросту равносильно вот чему: лучшие моменты моей жизни идентичны переживаниям верующих». Est Deus in nobis[64]64
Est Deus in nobis – «Есть в нас Бог» (Овидий. «Наука любви», III, 549).
[Закрыть]. Но имеет ли это чувство – задавался он вопросом – отношение к вере? Не есть ли это скорее нравственное убеждение? «Отсюда и сложности, мои собственные сложности: в то время как настоящему христианину именно вера помогает жить правильно, у меня все наоборот – ощущение, что я живу правильно, делает для меня возможным религиозное переживание. То есть происходит некий терминологический перевертыш». Вот как думал Чарли до 1926 года, и, мне кажется, именно это способствовало нашему сближению, ибо для меня тогда все вертелось вокруг проблем нравственности и речь шла о том, как быть и оставаться в согласии с лучшим в себе. В этом мы сошлись наипрекраснейшим образом: моральный тонус Шарля дю Боса тоже влиял в те времена на его религиозность куда сильнее, чем религиозность на состояние его нравственности. Он ожидал спасения благодаря самосовершенствованию и не мог представить себе веры без истинной святости.
И стало быть, в течение всех тех лет, что его шатер кочевника стоял на границе с католицизмом, Чарли пытался совершенствовать самого себя. В разнообразных влияниях извне недостатка не было. Его жена, сама верующая, благоразумно остерегалась вмешиваться, «не столько, – как говорила она, – из уважения к чужому пути, сколько для того, чтобы не помешать особенному движению к Богу такой особенной души». Туманный и неустойчивый Жид сделал несколько шагов по направлению к христианству в «Numquid et tu?..», но тут же спохватился. У Паскаля – и у Мориака – Чарли нашел мысль о том, что чувственная жизнь и грех – из-за гадливости, которую они вызывают, – суть главные факторы на пути к обращению. «Вся мощь католицизма основана на том, с какой силой он выявляет плачевные стороны человеческой натуры, и именно потому нет более великого католика, чем Паскаль, которому известно, что пустое сердце человека битком набито отбросами». Однако сам дю Бос отрицал это уравнение с двумя известными: Богом и чувственной жизнью. Ему хотелось вернуться к Богу чистым и выполнить грязную работу до того, как вернется к Нему. Изабель Ривьер[65]65
Ривьер Изабель – жена Жака Ривьера и младшая сестра Алена-Фурнье.
[Закрыть], с которой он поделился своими мыслями, ответила: «Чарли, все это потому, что в глубине души вас одолевает гордыня, вы даже не представляете, до чего вы спесивы». Спесив? Да, признается он, если желание принести Господу лучшее в себе – гордыня, то спесив. Он не отступает: прежде всего – нравственность. «Если человек не способен возвыситься над самим собой, то как жалок этот человек!» Или еще так: «Человек есть то, чем он хочет быть, он не то чтобы никогда не падает, но он всякий раз, как упадет, поднимается».
Одним словом, проблема дю Боса состояла вот в чем: можно ли жить, исповедуя теизм, который опирается единственно на предположение о существовании имманентного Бога, или надо признать Бога-творца – Бога трансцендентного? В начале 1927 года он много читал Библию, Евангелия, особенно – Нагорную проповедь, «прижимая к сердцу» строки: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»[66]66
Мф. 5: 48.
[Закрыть]. Он ощущал, как рвется все внутри, ощущал свою готовность к великим переменам и пьянел от незнакомой ему прежде печали при мысли о том, что «если когда-нибудь придет этот день, некоторые из людей, таких мне дорогих, подумают, будто я потерян для них, тогда как все будет наоборот». Идя пешком по авеню Эйлау[67]67
Улица в XVI округе Парижа, одна из двенадцати, исходящих от площади Звезды. Названа в 1885 г. в честь самой кровавой битвы в русско-прусско-французской войне, битве при Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск Калининградской области) 7 и 8 февраля 1807 г.
[Закрыть], он вспоминал слова Паскаля: «Хотим мы того или нет, мы отчаливаем» – и говорил себе, что именно здесь пролегает граница между ним и многими из его друзей. Они-то, похоже, смирились с тем, что остаются на берегу, а его уже подхватил поток, и остается только надеяться, что впереди – великое приключение и что этого приключения ему не избежать. Шарля и на самом деле ожидало большое приключение, но только потому, что он жаждал приключения и ждал его, потому что ему было необходимо в свои сорок четыре года «сосредоточить внимание на средоточии» и, после стольких остановок в мирских часовнях, преклонить колени у главного алтаря.
Однако в апреле 1927 года он еще не решается переступить порог, как ни торопят его друзья: теолог Жак Маритен[68]68
Маритен Жак (1882–1973) – философ и теолог, ведущий представитель неотомизма – обновленной версии официальной философской доктрины Католической церкви. В своих лекциях и многочисленных книгах защищал католическую религию от модернизма, считая необходимым интегрировать прогресс и традицию в рамках католической веры.
[Закрыть] (чья интеллектуальная вера не удовлетворяла бергсонианца Чарли), аббат Альтерман (крещеный еврей и великая душа, властный священнослужитель ветхозаветного покроя), Изабель Ривьер. «Но ведь если я стану католиком, – размышлял Чарли, – кто же будет тогда связующим звеном: одни (обращенные) так и не научатся терпимо относиться к светскому мышлению, другие (рационалисты) останутся глухи к религиозной философии». Кто, кроме него, способен противостоять несдержанности Клоделя и Геона, когда они слышат высказывания Валери, Алена или Жана Прево?[69]69
Прево Жан (1901–1944) – писатель, литературовед, журналист, участник движения Сопротивления; см. очерк о нем в наст. издании. – Ред.
[Закрыть] Снова дело в гордыне? Нет, ему казалось, что дело тут, скорее, в боязни благополучия. До сих пор божественное всегда снисходило на Шарля как дар, как приятная неожиданность, как внезапно выпавшая роса, и он плохо представлял себя удобно устроившимся в вере. Но Изабель Ривьер и тут отвечала ему: «Все то же: вам непременно хочется все сделать самому, ничего не желаете оставить Божьему промыслу. Вы хотите что-то нести ему, отдавать ему, но именно это делает вашу ситуацию тупиковой, ибо, по существу, Господь хочет от вас совсем иного». (Тезис, который лично мне кажется несостоятельным, иначе как же такое может быть, чтобы не делалось то, чего хочет Господь?) Словно соглашаясь с этими словами, Чарли решил, что пора прекратить самоанализ, пусть идет, как идет, то есть пусть проявится воля Господня.
И эта насыщенная чувством пассивность сыграла-таки свою роль: в июне 1927 года дю Бос ощутил «наступление последнего часа перед отбытием» и уложил свои духовные чемоданы. Теперь он каждое воскресенье посещал утреннюю мессу в бенедиктинском монастыре на улице Месье, и именно здесь, в этом храме, для него соединились наконец-то священная мистика и мистика мирская – молитва и поэзия. «Я никогда не видел службы прекраснее, а торжественности интимнее и словно бы бесконечнее в своем неторопливом достоинстве. Одеяния священников – это гармония алого и гранатового, та же, что торжествует в Сикстинской капелле. Они придают обрядам то живость, то таинственность, но остаются при этом неизменными в течение многих веков и благородно сдержанными. А песнопения, с которыми после проскомидии и вплоть до четвертой части мессы с победным „Свят, свят, свят Господь…“ чередуются долгие медитации органа, эти песнопения с таинственными и трогательными латинскими словами, неведомо как, но нежно и целительно надрывающие душу…» Ах, сколько прустовского чувствуется в этих необычайных и пышных прилагательных! В таком исключительном месте и таким образом эстет устранял с пути все тернии, чтобы дать пройти верующему.
В пятницу 29 июля 1927 года, в 10:10 утра (Чарли любил это уточнять), он, вернувшись домой, диктовал новую дневниковую запись: «Как таинственно и чудесно состояние благодати в момент возникновения»… – и тут подоспел на помощь случай. К Чарли пришел аббат Альтерманн[70]70
Альтерманн Жан-Пьер (1892–1959) – аббат, литератор, основатель католической ассоциации «Дом Анании». – Ред.
[Закрыть], Чарли рассказал аббату о том, как перечитывал Евангелие от Иоанна, потом спросил, когда тот уезжает отдыхать. Альтерманн ответил: «В понедельник – и до 30 сентября», – и Чарли вдруг понял, что надо срочно принять решение, уже принятое в сердце своем, иначе свет, «заливший в это мгновение все внутри», может его покинуть. «Тем не менее это было бы чересчур – думать, будто в том, что я спонтанно делал всю свою жизнь ради Китса, я отказываю Богу и Христу. Моя природа бездонна, непостижима, и именно в эту минуту она явила мне гордиев узел, который требовалось разрубить, а не продолжать развязывать». Он разрубил – и несколько дней спустя почувствовал, что его повседневная жизнь, его вселенная обрела новый смысл. Изменилось все – отношения с живыми людьми, взгляд на пейзаж за окном, а любые задачи решались теперь легко и радостно.
Но переменился ли он сам? Перестал ли быть нашим Чарли, помешанным на музыке, живописи, светской поэзии? Нисколько. Он продолжал любить те же произведения искусства, какие любил раньше, только теперь, в той атмосфере значительности, в которой он жил отныне, ему, когда он слушал великую музыку, казалось, будто вокруг него сгустилось чудесное, сверхъестественное, теперь он был словно «окутан потусторонним миром». Ежедневная месса виделась ему «таинственным свиданием с самим собой», и некоторых из его верующих друзей это «с самим собой» удивляло: не правильнее было бы сказать «с Богом»? Не ждет ли Шарль от пищи небесной того, что его современники ждут от пищи земной? Ладно, пусть так, он остается эстетом, он это понимает и принимает. Его восторги? «Господь пренебрег ими», оставив их Чарли. Религия же дала ему ту «возбуждающую скорбь», в которой он так нуждался. В бенедиктинском монастыре на улице Месье он снова и снова вспоминал Гюисманса[71]71
Гюисманс Жорис Карл (1848–1907) – романист и художественный критик. Романы Гюисманса точно отражают эволюцию интеллектуальной и художественной жизни во Франции конца XIX в., но при этом их можно рассматривать и как развернутую автобиографию писателя.
[Закрыть], Псишари[72]72
Псишари Эрнест (1883–1914) – офицер и литератор, внук по материнской линии философа-позитивиста, историка и писателя Жозефа Эрнеста Ренана (1823–1892).
[Закрыть]. Дю Бос не ограбил старика, дю Бос старика обогатил.
Неверующие друзья Чарли не перестали любить его, в глазах друзей он оставался все таким же нежным, глубоким и «безумно чувствительным». Но их удивляло постепенное проникновение в его дух той скрупулезной, кажущейся навязчивой набожности, какая свойственна неофитам. Жида новые черты дю Боса раздражали. По злосчастному совпадению время, когда Чарли пришел к обращению, для Жида было временем признаний, публичной исповеди. «Коридон», в котором Жид выступил адвокатом гомосексуализма (отказываясь признавать педерастию извращением), поразил дю Боса настолько, что Чарли решил высказать совершенно откровенно (читай – со всей строгостью) свою позицию по отношению к «делу Жида». И сделал это в книге «Лабиринт с просветами»: «лабиринт» – потому что рассудок Жида соткан из противоречий и выхода не найти, а «с просветами» – потому что в призрачном лабиринте невозможно ничего увидеть и сама мысль Жида истончается. Однако это духовное приключение двух великих умов достаточно важно для того, чтобы остановиться на этом подробнее.
IV
Шарль дю Бос познакомился с Андре Жидом в 1911 году за обедом у Жака-Эмиля Бланша[73]73
Бланш Жак-Эмиль (1861–1942) – художник, писатель и художественный критик.
[Закрыть], в присутствии Мориса Барреса. Чарли был намного моложе Андре, восхищался его «Тесными вратами», вышедшими в свет за два года до их встречи, и высоко ценил Жида-критика. Сблизились они сразу: оба отличались требовательным и тонким литературным вкусом, любили Бенжамена Констана и Жубера, обожали музыку, хорошо знали английскую культуру (познания Чарли, наполовину унаследованные, наполовину полученные в Оксфорде, были глубже, чем у Жида, с его скорее интуитивным и приблизительным знанием английского языка, но их объединяло преклонение перед Шекспиром и Браунингом). Обоим было очень трудно найти собеседников своего уровня, и то, что они быстро подружились, было совершенно естественно и как бы предопределено.
Тем не менее хватало и противоречий. Чарли был исключительно внимателен, всегда серьезен, и Жид с его острым, но непоседливым умом мог показаться рядом с ним почти легкомысленным. Чарли видел себя моралистом, и даже если позволял себе какую-то слабость, то жалел об этом. Жид, напротив, претендовал на аморальность, и ему куда больше нравилось демонстрировать свою слабость, чем высокую нравственность, иногда даже без всяких на то оснований. Жид был натуралистом, а Чарли признавал природу исключительно как объект произведений искусства. Жид однажды обрушился на Чарли, потому что тот при переводе слов «snail’s horns» («рожки улитки») заколебался. «Нет, вы только подумайте, он сроду не видел улитки!» – воскликнул негодующий Жид, однако заминка друга его развеселила. Жид также уверял, что слышал от Чарли, будто тот «никогда не играл», хотя друзья детства дю Боса (Жозеф Барюзи[74]74
Барюзи Жозеф (1876–1952) – поэт и музыковед.
[Закрыть] и другие) это опровергали. И дю Бос, и Жид получили христианское воспитание, оба были прилежными читателями Священного Писания, но Жид, поскольку его личная жизнь не укладывалась в рамки общественных приличий, принимал сторону сатаны, а Чарли, который всегда охотно прощал любовь мужчины к женщине, какова бы она ни была, извращений не терпел. Долгое время эти различия не мешали дружбе, но наступил день – и темпераментам Жида и дю Боса стало вместе тесно.
В начале Первой мировой войны ни того ни другого не мобилизовали – Жида по возрасту, а Чарли по здоровью, – и они решили вдвоем организовать франко-бельгийский приют для беженцев. Вначале общее дело их сблизило: оба были одинаково милосердны, – но у Жида милосердие было замешано больше на любопытстве, он быстро устал и бросил приют. Впрочем, хотя впоследствии оба и вспоминали с удовольствием «героические времена приюта», административные способности начисто отсутствовали у них обоих. Жид признавал за Чарли литературный талант и советовал ему вести дневник, который станет главным его творением. Жиду казалось, что предназначение дю Боса – ежедневные излияния, а не создание книги, и, пожалуй, это было мудрое суждение. Дю Боса, в свою очередь, восхитила «Пасторальная симфония», которая показалась ему столь же прекрасной, как «Тесные врата», и он посвятил ей проникновенную статью. В 1922 году Жид надписал дю Босу свою самую религиозную книгу «Numquid et tu?..», старательно очертив границы своего согласия с религией: «Речь идет не столько о том, чтобы верить словам Христа, поскольку Христос – Сын Божий, сколько о том, чтобы понимать: Христос – Сын Божий, и потому слово его Божественно». Тогда было выпущено всего несколько экземпляров книги – только для близких друзей.
И тогда же, в 1922 году, Жид и дю Бос провели вместе десять дней в Понтиньи. Я тоже был там во время этой изумительной декады. Жид описывал дю Боса как «короля праздника, несказанно пленительного – и пластичного, и речистого». И все-таки, читая дневник Жида, можно заметить, что искренний его восторг перед безупречным красноречием друга смешивается с едва уловимым раздражением от того, что сам он чувствует себя отодвинутым на второй план. Однако стоило Жиду и дю Босу заговорить друг с другом, диалог их делался невероятно волнующим и захватывающим. «Это, – говорил Жид, – любовная идиллия мысли, такое ощущение, что беседа становится для Шарля – при всей его осмотрительности – средоточием нежности, убежищем для сладострастия». И как было Жиду не полюбить критика, который лучше, чем любой другой, восхвалял кристальную чистоту его стиля и глубинное волнение, просвечивающее сквозь ясность формы?
Год 1925-й. В доме подруги Шарль дю Бос читает курс лекций (небольшой – всего пять встреч со слушателями), посвященных Андре Жиду и представляющих собой весьма дружеское, чтобы не сказать – пылкое, восхваление художника (а Жид для Чарли – прежде всего художник), но художника, не отдаляющегося от жизни. «Я не знаю большей противоположности Жиду, чем был Вилье де Лиль-Адан[75]75
Вилье де Лиль-Адан Филипп-Огюст-Матиас де (1838–1889) – писатель и драматург.
[Закрыть], с его высокомерной шуткой: „Жить? С этим прекрасно справятся наши слуги“». Жид никогда не терял связи с тем, что немецкие метафизики называли «Grund», то есть с реальной основой всего сущего. У подростка Андре Жида любовь к добродетели, искусство и религия находились в полном согласии, но очень скоро любые правила стали для него невыносимы. Как можно выбрать, если хочется всего? Четвертая лекция дю Боса была посвящена «Яствам земным», самодовлеющим страстям, а пятая – тогда еще не изданной «Numquid et tu?..».
Книжка «Numquid et tu?..» – почти брошюра, по размеру в ней всего семьдесят одна страница, а по содержанию – почти цитатник, и почти все цитаты автор взял из Евангелия и из Послания к римлянам святого апостола Павла. На первый взгляд – акт капитуляции? Нет, Чарли не мог не увидеть, что Жид примеряет и приспосабливает священные тексты к себе (и своим страстям): «Я знаю, и Господь мой Иисус Христос подтвердил мне, что нет ничего нечистого по своей природе, что нечистой любая вещь становится только для того, кто сочтет ее таковой». Отсюда легко сделать вывод о том, что любовь, к которой склонен Жид, не может быть нечиста для него, поскольку сам он не считает ее нечистой. Оба, Жид и Чарли, остерегались подчеркивать эту причинно-следственную связь, но оба сознавали, насколько она двусмысленна.
Ну и потом, Жид ведь к тому времени еще не опубликовал «Numquid et tu?..», держа этот свой дневник в тайне. Почему? Чарли находил ключ к поведению друга в следующем пассаже, помещенном автором в самый конец работы: «Книги заброшены, оставлены и упражнения в набожности, которой нет уже в моем иссохшем и рассеянном сердце. И тотчас же стало видно, что нет здесь ничего, кроме комедии, и комедии нечестной, в которой, я в этом убежден, хорошо заметны игры дьявола. Вот что нашептал мне прямо в сердце демон. Господи, ах! Не оставляй ему последнего слова!» Тройной перевертыш – такой характерный для Жида и такой обманчивый. Однако в лекции 1925 года Чарли предпочел увидеть здесь лишь свидетельство о возвращении Андре в лоно христианской мысли. Не решился сыпать соль на раны друга.
А что произошло между 1925 и 1927 годом? Об этом можно прочесть в дневниках обоих писателей. Для Андре Жида главным в этот период было решение открыто выступить в защиту гомосексуализма как одной из форм любви – и во второй части исповедальной по духу автобиографии «Если зерно не умрет», и в «Коридоне». Тексты, известные до сих пор лишь нескольким друзьям, стали достоянием читающей публики. Чарли не одобрил этого решения и записал в дневнике, что Жид отныне внушает ему лишь мучительное беспокойство. «Можно подумать, будто грех Жида не есть обычный людской грех, что он живет воспоминаниями о чем-то сделанном ранее, что хотел бы рассказать об этом, но не в силах рассказать, ибо воспоминания принадлежат ему одному. Получается так, словно Жид отрезал себя от общества». Испытывая непреодолимое желание высказаться по «делу Жида», Чарли приступил к работе над «Лабиринтом с просветами».
«Мне, как ни противится все во мне этой необходимости, приходится снова впрячься в увязшую в грязи телегу под названием „Наблюдения за Андре Жидом“ и – увы! – сдвинуться с места, что я и сделал, начав писать мои пресловутые „Лабиринты с просветами“…» В новой книге (не знаю, ясно ли осознавал это сам Чарли) автор с первых же страниц выказывает крайнюю суровость по отношению к объекту исследования. Дю Бос делает исключение лишь для самых ранних вещей Жида, остальным же выносит беспощадный приговор: «Подземелья Ватикана», книгу, жанр которой ее автор определил как «соти», он осудил за недостаток серьезности; роман «Фальшивомонетчики» – за нехватку искренности; «Коридон» – за покушение на мораль. Не только Жид-писатель, но и Жид как человек не избежал нападок дю Боса: и неразумен, и нетерпелив, и легкомыслен. «Натура Жида не так уж богата», – заметил Чарли, и до чего же, должно быть, это оказалось болезненно и неприемлемо для писателя, считавшего себя гётеанцем. Склонность Жида к игре, к голословности шла вразрез с ответственностью Шарля во всем, с почтением, которое он испытывал ко всему серьезному. Дю Бос продолжал восхищаться художником, но теперь он видел, что искусство Жида легковесно и настолько утонченно, что превращается в пустышку. «Изабель» – всего лишь «экзерсис», где автор все усилия направляет не столько на сюжет как таковой (посредственную хронику романтических событий), сколько на стиль изложения. Жида «Тесных врат» спасали сомнения, но в новом, сегодняшнем Жиде (говорит дю Бос) сомнения либо отсутствуют вовсе, либо сбрасываются, как карты. Жид прислушивается к собственному голосу и поддается его очарованию. Кроме того, Жид обладает опасным влиянием на молодежь: сколько Лафкадио вышло из «Подземелий Ватикана», сколько было совершено немотивированных преступлений, сколько беспричинных поступков!
Суровый приговор, вынесенный «Подземельям Ватикана», был для Жида все-таки менее удручающ, чем приговор «Фальшивомонетчикам». Книге, которую автор первой из своих книг решился назвать романом, даже «романом в чистом виде», потому что именно в ней он попытался очистить повествование от элементов, не имеющих, на его взгляд, отношения к роману: от описаний, от не связанных с сюжетом событий, от случайностей. А Чарли показал, что на самом деле этот роман – просто хроника происшествий, перегруженная как раз не связанными с развитием сюжета событиями. Не помогло даже алиби, которое придумал для себя Жид, поместив автора романа внутрь произведения. Это не Жид – это Эдуар написал «Фальшивомонетчиков», и это Эдуар сожалеет о том, что не все вышло так, как хотелось. Эдуар – собрат Жида по перу, в уста которого он вкладывает все, что должно, по его мнению, быть высказано, но так, чтобы не брать на себя за это ответственности. «Фактически мы становимся здесь свидетелями встречи художника – умного и смелого художника – с романом». Словом, самое занимательное в этом романе – это фиаско романа. Тема гомосексуализма присутствует в книге, но присутствует потаенно, наподобие грунтовых вод, о наличии которых можно догадываться, но которые так редко пробиваются наружу.
Все вышесказанное было уже достаточно жестким, но оставалось еще поговорить о «Коридоне». Чарли полагал, что обязан это сделать. «Писать о Жиде, оставляя в стороне гомосексуализм, – все равно что писать о Байроне, умалчивая об инцесте». Но как воздать должное истине, не нарушив при этом долга дружбы? «Поскольку я верный последователь Платона, пусть Жид простит мне, что si amicus Gide, sed magis arnica Veritas»[76]76
Перефразирована латинская пословица «Amicus Plato, sed magis arnica Veritas» («Платон мне друг, но истина дороже»).
[Закрыть], – говорит дю Бос, никоим образом не принимающий аргументации Жида в защиту «греческой любви». Вероятно, педерастия бывает «свойственна людям от природы», как и другие человеческие склонности, но это не значит, что педерастия – норма, говорит Чарли. По словам дю Боса, если есть что-то, чего Жид не способен постичь, то это любовь как таковая. А дальше он цитирует высказывание, более всего другого его поразившее: «…надо признаться, любовь мне скучна». Любовь не то же, что наслаждение! Эдуар (за которым стоит Жид) всегда влюблен, но влюблен во всех и во все, стало быть, это не чувство любви. Подобное поведение можно оправдывать (как оправдывает, к примеру, Бернард Шоу Дон Жуана), но Чарли выносит ему суровый приговор.
Оставалось теперь заставить Жида принять этот перечень обвинений. И Чарли дополнил «Лабиринт с просветами» «Письмом-посланием», в котором цитирует крик Саула из драмы самого адресата: «Я подстрекаю всех против себя самого». Да, дю Бос сожалеет, но совсем не о высказанных им мыслях, а только об их тоне – более жестком, чем ему хотелось бы, и в заключение говорит: «Только потому, что я так люблю Вашу душу, мне пришлось во время этого диалога так часто и так сильно Вас терзать. Не слишком на меня сердитесь и позвольте завершить письмо строкой, в которой, впрочем, мы, такие, как мы есть, нуждаемся все: „Для Бога нет ничего невозможного“». Конечно же, это примирительное послание ничего не дало, совсем наоборот, и первая реакция Андре на него была горькой. Вот цитата из его «Дневника»: «Отлично высказалась мадам Тео[77]77
Имеется в виду Мария, жена бельгийского живописца Тео ван Рейссельберге (1862–1926), в конце жизни обратившегося к портретной скульптуре и вылепившего голову Андре Жида. Женатый писатель однажды согрешил с дочерью художника, и плодом случайной связи стала Катрин – единственный ребенок Андре Жида и внучка Тео и Марии.
[Закрыть] о Шарле дю Босе (прочитав его длинное исследование-обвинение): „Он спасается за ваш счет“».
Поссорились ли былые друзья? Тогда все очень этого опасались, и та же мадам Тео ван Рейссельберге сказала Жиду, что его молчание (Андре ничего не ответил на «Письмо-послание») сильно дю Боса встревожило и опечалило. Жид, подумав, написал, что если он и промолчал, то, с одной стороны, потому, что чтение «Лабиринта» привело его в крайнее замешательство, а с другой – потому, что у него сложилось ощущение, будто Чарли больше не испытывает к нему ни малейшей симпатии. Огорчение дю Боса, о котором рассказала мадам Тео, и его предложение посвятить Жиду своего «Байрона» показали Андре, что в последнем своем предположении он ошибался. «Я оплакиваю нашу вчерашнюю близость, но не могу – увы! – разделить Вашу надежду на то, что она возобновится. Мы всегда умели говорить друг с другом только о самом главном, о том единственном, что имело для нас значение, но я сильно опасаюсь, что именно в этих вопросах нам предстоит расходиться все дальше и дальше. Воспоминание о нашем общении останется для меня одним из самых чудесных и изысканных…» Это было прекрасное, полное достоинства ответное письмо, а заканчивалось оно так: «Прощайте, дорогой друг, дорогие друзья», – после чего шел постскриптум, вносивший поправку: «Увидев слова прощания, Вы можете ошибиться и подумать, будто я не хочу больше встреч с Вами. Ничуть не бывало».
Стало быть, полного разрыва отношений не было. Шарль дю Бос посвятил Жиду своего «Байрона», тот в ответ посвятил Чарли своего «Монтеня». Тон писем у обоих оставался в течение всего 1929 года вполне сердечным. Тем не менее в «Дневнике» Жид не скрывал, что оскорблен: «Чарли проводил меня до редакции „НРФ“. Говорили без прежней свободы и доверия… и закончилось все церемонным поклоном Чарли. Я не знаю, что он хотел выразить этим поклоном – надменность? презрение? необходимость подчеркнуть дистанцию, которая установилась между нами после обращения Чарли?.. Нет, в этом нелепом жесте я способен увидеть лишь инстинктивное и непреодолимое желание показать, что он-то остается на высоте… желание сказать себе самому: „Сейчас, и с Жидом тоже, я вел себя правильно – как везде и всегда“». Мысли Андре были несправедливы: Чарли вовсе не считал, что везде и всегда поступает правильно, он только стремился к этому. На самом деле Жида раздражало религиозное обращение друга – обращение как таковое: «Не мог бы поручиться, что в какие-то периоды жизни я сам не был близок к обращению, но, слава богу, обращение некоторых моих друзей поставило все на место. Ни Жамм[78]78
Жамм Франсис (1868–1938) – поэт-символист.
[Закрыть], ни Клодель, ни Геон, ни Шарль дю Бос никогда не узнают, насколько поучителен был для меня их пример».
Чарли заметил, что излюбленное выражение Жида «оставляю последнее слово за вами» было его способом уклониться от выяснения отношений. Их дружбу окутало молчание, но это не значит, что дружба умерла, – нет, она погрузилась в спячку. После смерти Чарли мадам дю Бос отправила Жиду «Дневники» и другие изданные ею книги, но тот не отозвался. Потом, когда вдову дю Боса больно ранили посвященные Шарлю строки из «Дневника» Андре, где писалось, что дневники Чарли стали памятником его нескромности и неосознанному самолюбованию, она попросила у Жида разрешения опубликовать их переписку с Шарлем, и письмо Жюльетты дю Бос действительно стало «последним словом» в этих отношениях: «Видите ли, дорогой друг, пусть даже порой Вы ранили друг друга, Ваша прекрасная дружба должна жить, и мне кажется, эта переписка – лучшее свидетельство ее существования, именно это должно остаться на все времена».
V
Начиная с 1930 года тон дневников Чарли резко меняется, ибо отныне в них находит себе место не только религия, но и набожность. «В 7:05, когда я вошел в Нотр-Дам, здесь читали „Апостольские послания“. Молитва перед началом мессы включала в себя 75 стих 118[79]79
Автор «Дневника» ошибочно называет 110 псалом.
[Закрыть] псалма: „Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня“, перевод латинского: „Cognovi, Domine, quia aequitas judicia tua, et in veritate tua humiliasti me“, и это „in veritate“ просто восхитительно, в Господе – истина, которая и сама – Бог». Стало быть, наш великий критик поэзии анализировал Писание и жития святых одновременно и как знаток стиля, и как верующий. Среди тех, чью власть над собой признает Чарли, выступают поочередно святой Бонавентура, святая Иоанна Шанталь, святая Тереза из Лизье[80]80
Святой Бонавентура (Джованни Фиданца; около 1217–1274) – один из основателей ордена францисканцев. Святая Иоанна Шанталь (1572–1641) – католическая святая, основательница ордена визитанток. Святая Тереза из Лизье (1873–1897) – монахиня-кармелитка, известная как Маленький Цветок Иисуса.
[Закрыть], а особенно – и на протяжении всей жизни – Блаженный Августин. Что, впрочем, не мешает ему хранить верность Вордсворту и Китсу, по окончании разговора с суровым аббатом Альтерманном спешить в кондитерскую, чтобы выпить чаю с женой и дочерью, и без конца возвращаться к «прекраснейшему из чужестранцев» – Гёте. Чарли-2, тот, кем он стал после обращения, не мешал существованию Чарли-1, и оба Чарли на удивление легко сочетались в «Дневнике»: «Я побывал у Смита, где обнаружил очень красивую тетрадь с замочком для будущего дневника Z2, который она будет вести на двенадцатом году жизни, потом перешел в кафе Вьеля на бульваре Мадлен, где просидел полчаса, полагая, что чай с бутербродом поможет мне избавиться от сонливости, и именно там я пережил кульминацию этого странного дня. Потому что я окончательно напитался, но не бутербродом, который не доел, и не чаем, который оставил недопитым, а невидимой пищей, полученной от святого Фомы Аквинского». Боже, сколько простодушного очарования в этом сочетании бутерброда со святым Фомой!
Дю Босы жили тогда в Версале, и Шарль благодарил Господа за то, что очутился на этом прекрасном зачарованном острове. «Стояла пора необычайной красоты: лишь несколько деревьев оставалось в золоте – самом роскошном, самом пышном и самом царственном, золоте Ватто, вызывающем в памяти драгоценную виноградную лозу, лозу богини Осени… А утонченная гармония нежной слюдяной голубизны неба со слегка озябшими голыми ветвями высоких деревьев, словно бы стремившихся еще и еще раз подчеркнуть темную глубину леса! А сочетание солнца, которое так согревает этот „маленький Прованс“, словно ты вдруг и впрямь очутился в Провансе, с дуновением свежего ветра, вызывающего желание быстрым шагом пройтись по одному из проспектов, веером раскинувшихся перед тобой… Сегодня утром я удовольствовался тем, что четверть часа погулял вокруг фонтана „Нептун“ и по краю Малого Трианона, снова повторяя про себя самые первые страницы книги наставительных писем отца де Коссада[81]81
Коссад Жан Пьер де (1675–1751) – писатель-священник.
[Закрыть] „Отдаться на волю Божью…“».
Однако нездоровье и горести все чаще и чаще мешали Чарли приступить к ожидавшим его серьезным трудам. «Бергсон может умереть со дня на день, и, если я до того публично не воздам ему должное, я себе этого не прощу: я слишком хорошо себя знаю, чтобы в этом усомниться». Но его «Бергсон» так и не был написан. Недельное пребывание в Шартре в 1932 году окончательно убедило Шарля в том, что отныне его призвание – это не эстетика, а религия. «Я сказал бы, что до Шартра работа возвышалась надо мной, а со времен Шартра я возвысился над своей работой… иными словами, до Шартра плоды моего труда сохраняли в моих глазах ценность и обаяние, которых в Шартре навсегда лишились… Истинной ценностью обладает лишь непостижимое, а единственное, что непостижимо, – это Господь». Его мистицизм трансформировался, теперь он считал для себя возможным писать и говорить об искусстве лишь в том случае, если чувствовал одобрение и помощь Бога. Христианская жизнь стала важнее работы, «и именно это, только это я и имею в виду, когда говорю, что отныне возвысился над своей работой».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?