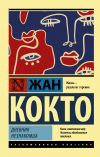Текст книги "Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее"
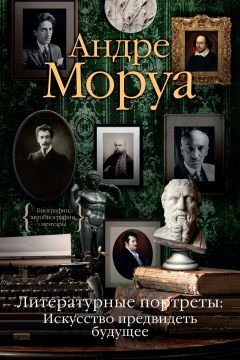
Автор книги: Андре Моруа
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Тому, кто хорошо знал Кокто, трудно судить о нем беспристрастно. Хорошо его знать означало его любить. Он обладал несравненным обаянием и блестящим умением вести беседу. Своими тревогами и страданиями он пробуждал в друзьях сердечное участие. Говорили, что его блеск был фальшивым, что его рассказы быстро превращались в «номера», в повторяющийся набор пластинок. Может быть, и так. Никому не дано поминутно полностью меняться – тогда человек перестал бы оставаться собой. Однако эти его «номера» завораживали. Я был потрясен, когда в последний раз, уже после его смерти, услышал его в телепередаче.
Некоторые так и продолжали видеть в нем легкомысленного принца, каким он был в молодости, акробата, иллюзиониста, но этому акробату неизменно все удавалось, а за его легкомыслием скрывались бездонные глубины мысли. Другие обвиняли его в следовании моде. «Я не следовал моде, – говорил он, – я ее создавал и тут же оставлял, предоставляя другим следовать ей». Это правда: он либо вдохновлял, либо поддерживал все начинания во всех видах искусства. Чуткий приверженец искусства Дягилева и Пикассо, он нашел и объединил лучших музыкантов, лучших художников, лучших писателей своего времени. Этот творец был, кроме того, и великолепным организатором.
Ошеломляющее разнообразие его талантов долго мешало современникам оценить по достоинству произведения Кокто. Невероятная энергия этого деятельного человека, не боявшегося и самых крутых поворотов, умудрявшегося одновременно быть значительным поэтом, самобытным романистом, драматургом, кинематографистом, обновившим кинематограф, виртуозным рисовальщиком, изумляла и обескураживала критиков. Они не могли поверить, что подобный разброс дарований может быть проявлением гениальности. Кокто сознавал опасность, но отважно шел на любой риск. Достигнув в чем-либо совершенства, он всякий раз бросал это занятие и брался за нечто совсем другое – случалось, представлявшее полную противоположность прежнему. Едва встав во главе авангарда, он уже воспринимал его как арьергард. Такие резкие перемены курса раздражали людей не столь разносторонних. Приняв на веру легенду, они упускали из виду его секрет: труд, труд на протяжении шестидесяти лет, стойкое и суровое подвижничество. «Я прячусь, живя потаенно под покровом вымыслов и домыслов», – говорил он. Он сам помогал соткать этот покров, считая, что за всеми этими выдумками истинная суть его личности станет невидимой. О нем говорили, будто он, подобно Оскару Уайльду, гениально жил и талантливо творил. Нет, он проявил гениальность в творчестве и большой талант в жизни, он жил талантливо и почти по-детски неловко, потому что всю жизнь оставался восторженным, робким и трогательным ребенком.
I
Жизнь
В жизни Кокто чередовались побеги и возвращения. Началась она с опасной удачи – обеспеченного детства. Он родился в 1889 году в Мезон-Лаффит, в семье, принадлежавшей к старой парижской буржуазии и любившей искусство, а в особенности – музыку, «с широтой вкусов, исключавшей понимание». Его дед играл в одном любительском квартете с Сарасате[225]225
Сарасате-и-Наваскуэс Пабло Мартин Мелитон де (1844–1908) – испанский скрипач и композитор. – Ред.
[Закрыть] и хорошо знал Россини. С первых дней Жана сопровождали живопись, музыка и поэзия. По вечерам он видел нарядную мать, собравшуюся в Оперу или в «Комеди Франсез»: затянутую в бархат, увешанную бриллиантами, в облаке духов и сиреневой пудры. «Затем снопы и лучи света скрывались под мехами, мама наклонялась, наспех целовала меня и уносилась к шумящему океану драгоценностей, перьев и лысин, бросалась в него, словно в красную реку, смешивая свой бархат с театральным и свое сверкание со сверканием люстр и жирандолей». Он мечтал в свой черед пуститься в плавание по этой красной реке, увидеть огромные раззолоченные залы, куда детей младше десяти лет не пускали.
Кокто, подобно Прусту, был из числа тех, на кого детство накладывает неизгладимый отпечаток. В этом одновременно их сила и их слабость. Сила – потому что уцелевший в них сказочный мир не дает им с годами очерстветь; слабость – потому что они не в силах оторваться от утерянного рая, сильнее других страдают от жестокости мира взрослых и до старости мечтают о комнате, где, окутанные и согретые материнским теплом, могли бы снова собрать свои игрушки и своих любимых людей. Райские сады детства Кокто находились в Париже. Его отец умер в 1899 году, когда Жану было десять лет. Мать поселилась на улице Лабрюйера. «Я изъясняюсь на парижском диалекте, – говорил он, – у меня парижское произношение». Парижу он был обязан живым умом, безошибочным вкусом и пониманием современности. Он бывал в Новом цирке, в «Шатле»[226]226
Новый цирк – цирк на улице Сент-Оноре; его арена могла трансформироваться в бассейн. Театр «Шатле» – музыкальный театр на одноименной площади.
[Закрыть], на дневных представлениях классики в «Комеди Франсез» испытал на себе поэтическое могущество кумиров сцены. В лицее Кондорсе он познакомился с трудными детьми и легендарным обаятельным двоечником Даржело. В его стихах, романах и фильмах мы то и дело встречаемся с картинами тех лет: убийственный снежок, пущенный рукой рыцаря с ранцем-щитом, попадает ребенку в лицо, под носом у него появляется струйка крови.
В лицее Жан занимался спустя рукава, получая награды лишь по тем предметам, где только ленивый, по его словам, не успевал бы: по рисованию, гимнастике и немецкому языку (потому что его воспитывала «фрейлейн»). Но желание писать пробудилось у него уже тогда. «Поэзия – врожденное несчастье». Как и всякий одаренный подросток, он не признавал господствовавших в его окружении вкусов (впрочем, весьма непостоянных), но с собственными пристрастиями определиться никак не мог. В юности он был помешан на театре, его кумирами были «священные чудовища» – Муне-Сюлли, Сара Бернар, Режан, де Макс[227]227
Муне-Сюлли (наст. имя Жан-Сюлли Муне; 1841–1916) – актер. Бернар Сара (1844–1923) – актриса. Режан (наст. имя Габриэль Шарлотта Режю; 1856–1920) – актриса. Эдуард де Макс (наст. имя Эдуард-Александру Макс Ромало; 1869–1924) – румынский актер, игравший в парижских театрах. – Ред.
[Закрыть]. Товарищ по лицею, Рене Роше, познакомил его с румынским трагиком. «Этот великодушный человек, – сказал Кокто, – совершил очевидный промах, похвалив мои первые стихи и преподнеся их публике». В 1906 году де Макс устроил в театре «Фемина» творческий вечер семнадцатилетнего поэта.
Никогда Жан не подвергался большей опасности. Знаменитые актеры превозносили до небес его скверные вирши, а он хмелел от этих похвал. Родственники были в восторге. Они любили литературу и ни малейшего представления не имели о драме сочинительства. Радостные и гордые, они поспешили издать стихи, которые сам автор вскоре сочтет бездарными. «Всю жизнь мне придется, – сказал Кокто, – истреблять память об этих первых шагах». Но не стоит преувеличивать. Несомненно, этим лестным отзывам о юношеских стихах он был обязан своей репутацией «легкомысленного принца». И что же? Эти стихи в его творчестве заняли то же место, какое в творчестве Марселя Пруста заняли «Утехи и дни»[228]228
«Утехи и дни» (1896) – сборник новелл Марселя Пруста, манифест эстетической отрешенности. – Ред.
[Закрыть]. До того как обрести себя, всякий начинающий автор усваивает вкусы и перенимает приемы своего времени. Затем, подобно тому как каждое столкновение непредсказуемо изменяет траекторию движения молекулы, каждая встреча увлекает юношу в неожиданном направлении, на новый путь, которым он будет следовать, пока не встретит нового наставника или нового друга.
Впрочем, первые стихи Кокто были не такими уж плохими; они были вполне в духе эпохи. Андре Жид сдержанно похвалил их в «Нувель ревю франсез». Позже, в 1912 году, Париж был поражен роскошью и яркостью русских балетов Дягилева. Они привели Кокто в восхищение и пробудили его. Дягилев, с которым он тесно сошелся, сказал решающие слова, определившие его дальнейший путь: «Удиви меня». В самом ли деле надо удивлять? В искусстве – да. Шоковая терапия помогает прозреть и делает душу восприимчивой. Но шок по определению не может длиться долго. «Ничто на свете не проходит так быстро, как новизна», – говорил Валери. Увлечения кратковременны. Искусство авангарда очень быстро превращается в шаблон, умы снова погружаются в дремоту, и потому всякий раз, как хочешь их пробудить, необходимо нападать в неожиданном месте и неустанно обновлять свой стиль. Жан Кокто инстинктивно угадал эту стратегию внезапности и совершил первый из тех резких поворотов, которыми так часто удивлял.
Он понял, что поэзия требует целиком ей отдаться. «Поэт, – говорил он, – служит некой живущей в нем силе, которую он сам плохо знает. Он должен лишь помогать этой силе оформиться». Отсюда – тренировка души, требующая удалиться от Парижа и от света. Всю жизнь Кокто сбегал, чтобы поработать. Затворившись сначала в Оффранвиле у Жак-Эмиля Бланша[229]229
Бланш Ж.-Э. – см. примеч. на с. 60.
[Закрыть], а потом запершись со Стравинским в Лейзене, он написал «Потомака», сочинение трудное и невнятное, однако потрясшее умы, которые в этом потрясении нуждались. Я признаюсь в своей слабости к этому бессмысленному розовоухому чудовищу, живущему в пещере под площадью Мадлен, и к серии Эженов[230]230
Текст «Потомака» был проиллюстрирован никак не соотносившимися с ним рисунками, на которых чету Мортимеров преследовало дикое племя парижских Эженов, и только в финале выяснялось, что Эжены – всего лишь персонажи кошмарного сна Мортимеров.
[Закрыть], предвосхищающей работы выдающихся американских графиков, таких как Джеймс Тёрбер[231]231
Тёрбер Джеймс (1894–1961) – американский художник газетных сатирических комиксов, писатель и юморист, в течение долгого времени работавший в журнале «Нью-Йоркер». – Ред.
[Закрыть]. Никто в наше время не создавал столько новых форм, сколько Кокто. Перед самым началом войны, в 1913 году, он познакомился с Пикассо и Браком, чьи поиски какими-то тайными ходами оказались близки к его собственным.
Началась война. Кокто был признан негодным к военной службе, но записался санитаром-добровольцем, а затем, поскольку был славным и храбрым товарищем, сделался «сыном полка» морских пехотинцев, жил в укрытиях в Диксмюде и Ньюпоре, ежеминутно подвергаясь опасности. Траншеи заносило песком, заливало водой. Снаряды «завершали свой скользящий росчерк черной кляксой взрыва и смерти». Кокто едва не наградили медалью «За боевые заслуги», но в последний момент оказалось, что свой подвиг он совершил незаконно. Начальник штаба спас его тогда от жандармов, а заодно и уберег от смерти, поскольку все его товарищи, морские пехотинцы, вскоре погибли. В этом походе зародился и через некоторое время, необходимое для вынашивания замысла, появился на свет прекрасный роман «Самозванец Тома».
Париж, 1916 год. Кокто летает с Гарросом[232]232
Гаррос Ролан (1888–1918) – летчик; в 1913 г. он первым совершил перелет через Средиземное море.
[Закрыть]; он часто встречается с Эриком Сати, Максом Жакобом[233]233
Сати Эрик (1866–1925) – эксцентричный композитор и пианист. Жакоб Макс (1876–1944) – поэт и художник. – Ред.
[Закрыть], Пикассо. В 1917 году труппа Дягилева поставила балет «Парад» по сценарию Кокто, на музыку Эрика Сати, с декорациями Пикассо. Балет вызвал всеобщее возмущение – сегодня трудно понять почему. В сюжете ничего возмутительного не было: представление перед ярмарочным балаганом, три эстрадных номера, зрители не понимают, что спектакль идет внутри. Но Пикассо и Сати смущали, а Кокто, следуя своей тактике, продолжал удивлять. Если бы на помощь авторам не явился Аполлинер в военной форме, им бы не поздоровилось. Почти такой же скандал в 1921 году вызовет еще один парад – балет «Новобрачные на Эйфелевой башне».
А тем временем вызвавший такое негодование молодой Кокто совершил очередной резкий поворот в сторону «атакующего классицизма» – для него двигаться в этом направлении было естественным. Ни рамок, ни порядка в то время не существовало, и «призыв к норме» оборачивался обновлением. В «Петухе и Арлекине» (1918) Кокто систематизирует свою эстетику и показывает свое умение высказываться сжато. Некоторые формулировки переживут автора. «Чувство меры в дерзости состоит в том, чтобы понимать, как далеко можно зайти». «Искусство – это знание, ставшее плотью». «Я знаю, что поэзия необходима, но не знаю для чего». «Молодой человек не должен приобретать проверенных ценностей». «При жизни художнику надо быть живым человеком, а известность придет посмертно». «Буржуазия – основа Франции; все наши художники вышли из нее. Бодлер – буржуа». Все так и есть, но требовалось мужество, чтобы изрекать подобные истины.
«Петух и Арлекин» сделал Кокто глашатаем антивагнеровского музыкального направления, рупором группы «Шестерка»[234]234
«Шестерка» (фр. Les Six) – название дружеского объединения французских композиторов в конце 1910-х и в начале 1920-х гг. в Париже; идейные вдохновители – Э. Сати и Ж. Кокто. – Ред.
[Закрыть], а также художников-кубистов. «„Осторожно, окрашено!“ – предупреждают таблички. Я прибавлю: остерегайтесь не только красок, но и музыки. У поэта всегда слишком много слов в словаре, у художника слишком много цветов на палитре, у музыканта слишком много нот на клавиатуре». Это было истинно французское возвращение к точности и чистоте стиля.
Монпарнас увел Кокто с улицы Анжу, где в роскошном доме поселилась теперь его семья. Пикассо первым понял, что не только улица Анжу, но и Монпарнас отжил свое. Кокто стал учеником нового гения – Раймона Радиге[235]235
Радиге Реймон (Раймон; 1903–1923) – писатель, автор романа «Дьявол во плоти». – Ред.
[Закрыть], которому тогда было пятнадцать лет. Не по годам развившийся подросток был щуплым, бледным и подслеповатым. «Он счищал патину со штампов, сдирал старую краску с банальностей». Его романы были явлением не менее удивительным, чем стихи Рембо. Любой хороший роман, написанный в двадцать лет, – это чудо. Радиге поддержал Кокто на крутом развороте в направлении классицизма; он предостерегал его от нового, которое только выглядит новым, учил двигаться наперекор авангардным течениям и подталкивал к подражанию мастерам. Художник учится ремеслу, копируя чужие шедевры. Подражая испанцам, Корнель мало-помалу сделался Корнелем. Радиге никогда не был самим собой в большей степени, чем тогда, когда, копируя «Принцессу Клевскую», превращал ее в «Бал у графа Оржельского».
Под благотворным влиянием этого юноши Кокто, вдохновившись «Пармской обителью», написал «Самозванца Тома», взяв за образец Малерба и Ронсара[236]236
Малерб Франсуа де (1555–1628) – поэт, родоначальник классицизма. Ронсар Пьер де (1524–1585) – поэт, глава «Плеяды». – Ред.
[Закрыть] – «Церковное пение». Радиге встретился на его пути, когда он стремительно мчался к своим причудливым парадам. Внезапно, затормозив на развилке, Кокто решил свернуть на путь классицизма, тем самым поставив себя в опасное положение. Со всех сторон послышались возмущенные голоса:
Вы – автор «Мыса», «Словаря»!
Вы пишете такое? Не угодить вам людям,
Ведь нравится им одно и то же…
Но едва он осмелился совершить этот поворот, Радиге внезапно умер от брюшного тифа, и Кокто некоторое время двигался без руля и ветрил. Никто не зависел от своих друзей больше, чем он. «Без них, – говорил Кокто, – все мои старания напрасны, пыл мой угасает. Без них я лишь видимость».
Не в силах справиться с горем, он пытался забыться при помощи опиума, и позже ему стоило огромного труда избавиться от этого пристрастия. Помогла работа. Глазам не веришь, как много он успел сделать с 1923 по 1956 год. Три романа-бриллианта великолепной огранки («Великое отступление», «Самозванец Тома» и «Ужасные дети»), несколько поэтических сборников, такие замечательные эссе, как «Профессиональный секрет» и «Бремя бытия». Одновременно с этим он отдался наконец течению красно-золотой реки театра. Радиге, понимавший, насколько глубоко Кокто чувствует природу мифа, обратил его внимание на греческих трагиков. Поначалу Кокто им подражал, возрождая и обновляя миф («Антигона»), и тем самым проложил путь Жироду и Аную; потом стал придумывать мифы сам («Адская машина», «Орфей»). Тема рока его не отпускала, и, утратив надежду, он нашел прибежище среди обломков колонн разрушенных храмов. С шумом прорвавшись через ограду привычек и условностей, он покинул бульварный театр.
А потом настал день, когда драматург-новатор понял, что пришло время обновляться и самому и поискать, по выражению Стравинского, прохладное место на подушке. «Скандал начинает становиться неприличным, когда из здорового и свежего, каким был поначалу, превращается в догму и начинает приносить доход». Он захотел восстановить ток, пробегающий между сценой и залом, между автором и публикой, «писать пьесы значительные и тонкие и прельщать больших актеров большими ролями». Прославившись авангардистскими спектаклями, теперь он с помощью Ивонны де Бре, Эдвиж Фёйер и Жана Маре[237]237
Бре Ивонна де (1889–1954), Фёйер Эдвиж (наст. фам. Кунати; 1907–1998) – актрисы театра и кино. Маре Жан (1913–1998) – актер, постановщик, писатель, художник, скульптор, а также каскадер. – Ред.
[Закрыть] завоевывает также популярность у широкой публики. Его «Трудные родители», «Священные чудовища», «Двуглавый орел», «Адская машина» пользовались успехом. Все дело в том, что две партии, которые Кокто одновременно разыгрывал, одна другой не противоречили. Истины в искусстве неизменны, но меняются формы.
Вся эта работа прерывалась болезнями, путешествиями (в том числе и «Вокруг света за 80 дней»), новыми дерзкими начинаниями. Моноспектакль «Человеческий голос» открыл перед ним двери «Комеди Франсез», и в этом мраморном здании, населенном великими тенями его юности, ему привиделся маленький Жан Кокто, которого провожала к его обычному креслу билетерша с розовым бантом и седыми усами. Поэт-кочевник, он написал «Трудных родителей» в гостинице в Монтаржи, а «Конец Потомака» – в Эксидее (Дордонь). Он опубликовал в «Фигаро» великолепный цикл статей «Портреты-воспоминания». А затем началась Вторая мировая война. Почти всю ее он провел в Париже, где подвергался нападкам со всех сторон, и, несмотря на это, написал «Вечное возвращение» по мотивам «Тристана» и трагедию в стихах «Рено и Армида», которая была поставлена в «Комеди Франсез».
Его давно тянуло к кинематографу. Еще в 1931 году он снял короткометражный любительский фильм «Кровь поэта», до сих пор известный во всем мире (он идет в Берлине и Нью-Йорке на протяжении уже тридцати лет). Мы попытаемся оценить вклад Кокто в экранное искусство. Он имел обыкновение, расставляя по полочкам свои творения, снабжать их ярлыками: поэзия романа; поэзия театра; поэзия кинематографа. Он хорошо понимал, какими огромными поэтическими возможностями обладает кинематограф, которому подвластно сверхъестественное, которому доступны любые мгновенные перемены и воплощение вечных символов. «Орфей» и «Красавица и Чудовище» остаются и останутся в числе наиболее своеобразных произведений, запечатленных кинокамерой. Недавно мы снова посмотрели их по телевизору: они не устарели и не устареют никогда.
После окончания войны Кокто жил попеременно на юге Франции и в Мийи-ла-Форе неподалеку от Фонтенбло, в доме, который превратил в очередной свой шедевр – безупречный по убранству, уюту, приветливости, ощущению вечного детства. Деревянная лошадка, сошедшая с карусели XVIII века, соседствовала с поражающей воображение сиреной и геральдическим львом. Поэзия дома. В то время он занимался главным образом декорированием, оформил две часовни (в Вильфранш-сюр-Мер и Мийи) и мэрию в Ментоне, проявив незаурядные способности и в этом деле. Продолжали выходить в свет его стихи («Светотень») и эссе («Дневник незнакомца»), ставились пьесы («Вакх»). Эти сверхчеловеческие труды истощали его силы. Тяжелый сердечный приступ поставил его на грань жизни и смерти. Вечно служащий предметом разногласий и мишенью для всевозможных недоброжелателей, он забрал себе в голову, что Французская академия должна стать «прибежищем для преследуемых художников, которых обвиняют в индивидуализме».
Однажды вечером, в гостях у нашего общего друга, он после ужина взял меня за руку. «Мне хотелось бы с вами поговорить, – сказал он. – Вот что… Вы, должно быть, не раз слышали, что я не испытываю ни малейшего желания сделаться членом Французской академии, больше того – что я отказался бы от этой чести, если бы она была мне предложена, потому что для меня это означало бы отклонение от моего пути и признание жизненного поражения… Так вот, это не так. Если бы Академия пожелала меня принять, мне бы это доставило огромное удовольствие… Вопреки тем россказням, которые обо мне ходят, я всегда глубоко уважал и даже любил традиции. Мне кажется, нет большей глупости, чем конформизм нонконформистов. Но это еще не все. Мне необходима опора, поддержка друзей. Вы и представить себе не можете, каким нападкам я подвергался, как меня преследовали и травили… Да, я знаю, что многие считают меня избалованным и взбалмошным ребенком. Всю жизнь я страдал из-за этого заблуждения… Я – ремесленник, труженик, мастер слова… Решать вам. Если вы считаете, что у меня есть серьезные шансы, если захотите меня поддержать, я выставлю свою кандидатуру».
Я подумал, что, отвергнув Кокто, мы поступили бы дурно по отношению не только к нему самому, но и к нашему учреждению. «Я буду всемерно помогать вам», – пообещал я. Он прошел в Академию без всяких затруднений, очаровав при встречах будущих собратьев. Позже, принимая его в стенах Академии, я сказал ему: «Некоторых из наших прорицателей удивило ваше скорое избрание – у нас подобное случается довольно редко. Они не верили в ваш успех. Да вы и сами не слишком верили в него. Вы думали, что всякий истинный поэт – дитя и было бы дерзостью с его стороны занять место среди взрослых. Но взрослые любят детей и поэтов. Каждое свое посещение вы превращали в произведение искусства. Ваше умение вести беседу, ваши высказывания, поражающие здравомыслием и парадоксальностью формы, принесли вам не один голос. Вы не вызвали бы неудовольствия собеседников, даже превратив разговор с ними в монолог, но вам достало такта поддерживать диалог, и вы с полным правом могли бы повторить слова английского короля, с которыми тот обратился к придворному: „Да попробуйте же хоть изредка возражать мне, чтобы нас стало двое“».
Торжественное заседание по случаю приема в Академию стало триумфом Кокто. На набережной Конти собралась толпа, показав тем самым, как много у него читателей. Он с удовольствием вошел в здание под долгую барабанную дробь, ему понравились гвардейцы, встречавшие его с воинскими почестями, и зал, заполненный коронованными особами и поэтами. В ответ на его речь я напомнил ему милую историю, которую слышал от него в Мийи-ла-Форе: «Родители вашей племянницы сообщили девочке, что ангел только что принес ей братика. „Хочешь на него посмотреть?“ – спросил отец. „Нет, – ответила малышка, – я хочу посмотреть на ангела“. Мы ничем не отличаемся от вашей племянницы. Нам хочется увидеть не очередного академика, а ангела».
Надежды наши не были обмануты, мы увидели ангела, то есть сердечного, умного и надежного собрата, верного себе в лучших своих проявлениях. Его место было в самом веселом углу, где сидели Марсель Ашар, Анри Труайя, Марсель Паньоль и Пьер Гаксотт, позже к ним присоединился еще Рене Клер[238]238
Ашар Марсель (1899–1974) – сценарист и драматург. Труайя Анри (наст. имя Лев Асланович Тарасов; 1911–2007) – писатель. Паньоль Марсель (1895–1974) – драматург и кинорежиссер. Гаксотт Пьер (1895–1982) – историк. Клер Рене (1898–1981) – кинорежиссер, сценарист и продюсер. – Ред.
[Закрыть]. Резкие черты лица Кокто, его непокорные волосы и засученные рукава добавляли нашей устоявшейся компании своеобразный и изысканный оттенок. Он чувствовал, что его любят и уважают, и я думаю, что он был с нами счастлив. Но, даже будучи счастливым, Кокто никогда не забывал о смерти. «Каждый носит в себе свою смерть и успокаивает себя собственными выдумками, будто она – всего лишь аллегорическая фигура, появляющаяся только в последнем акте… Искусно меняя обличья, она даже тогда, когда мы, казалось бы, бесконечно от нее далеки, присутствует в самой радости жизни. Она в нашей молодости. Она в нашем росте. Она в нашей любви».
Одним утром 1963 года тщательно выверенным движением затянутой в перчатку руки она подала знак состоящим у нее на службе исполнителям.
Не смерть сама нас убивает,
На то есть у нее свои убийцы.
Похороны Кокто в Мийи-ла-Форе были необыкновенными – все складывается так безукоризненно только тогда, когда люди прощаются с тем, кого очень любили. В этот октябрьский день чистое небо с проплывающими по синеве крохотными белыми облачками казалось весенним. Солнце щедро заливало лучами маленький городок. За гробом, покрытым трехцветным шелком и чудесными цветами, шли друзья. Окруженная белыми домами площадь перед мэрией напоминала лучшие полотна Утрилло. Рядом с префектом и академиками выстроились пожарные в медных касках. Это соединение официальности с сельской простотой очаровало бы Чародея. Нам казалось, что, если бы Кокто сам распоряжался этой церемонией, она прошла бы точно так же, став очень простым гимном дружбе. Певчие из церкви Святого Евстафия исполняли великолепную музыку. Затем процессия проследовала через весь город к расписанной Кокто часовне; могила была вырыта позади нее на лужайке, среди простых лекарственных трав, чьими изображениями Кокто украсил свою фреску. Речи были такими же простыми, но прекрасными и трогательными. На ветках, среди желтеющих листьев, сидело несколько еще не улетевших птиц. Поэт упокоился навеки теплым незабываемым днем. Нам было грустно оттого, что мы его потеряли, и радостно оттого, что мы смогли дать ему то, чего он сам себе желал бы. Мы оплакивали его смерть и провожали бессмертного, обретшего не то «скудное и сдобренное лаврами» бессмертие, которым тщится наделить официальное признание, но то подлинное и прочное, какое живет в сердцах и умах.
II
Темы – красная нить
В прекрасной новелле под названием «Узор ковра» Генри Джеймс[239]239
Генри Джеймс (1843–1916) – американский писатель, большую часть жизни проживший в Европе.
[Закрыть] утверждает, что в жизни и творчестве художника всегда существует скрытый в переплетениях арабесок мотив, который и заключает в себе его тайну. Высказывая свои мысли, Кокто использовал самые разнообразные формы. Какая же тема проходит красной нитью через его многочисленные и на первый взгляд столь непохожие произведения?
Кокто понимал, что уловить ее нелегко, и это одновременно и печалило его, и успокаивало. Он страдал, чувствуя, что, хоть он и знаменит, его почти не знают.
Я скрыт, я спрятан в плаще из слов,
Прилипчивых, как смола.
На песке не остается моих следов,
Мое тело невесомо.
Будучи на виду, он оставался невидимым: воспользовавшись его собственным многозначным и многозначительным выражением, я бы сказал, что на него «плохо смотрели». Легенда, неотступно преследовавшая Кокто, скрывала его, мешала увидеть, поначалу сделав из него легкомысленного подростка, освещенного яркими разноцветными лучами дягилевских прожекторов, а затем превратив его в чародея, создающего свои поэмы, романы, драмы, фильмы, балеты, рисунки и пастели одним мановением волшебной палочки. Настоящий Жан Кокто, серьезный и трудолюбивый, свой образ ненавидел и бежал от него, как от чумы; он руки бы ему не подал. Он и жил большей частью не в Париже, для того чтобы держаться от него подальше: «Отпускаю его, моего двойника, с миром, пусть пляшет под вашу дудку, – таков удел марионеток».
У этого легендарного двойника не было с ним почти ничего общего. Кокто часто упрекали в том, что он хватается за все подряд, но это совершенный вздор. Он менял лишь средства, при помощи которых старался донести все те же истины. В бутылку можно поочередно наливать белые, красные, зеленые или черные жидкости, но форма ее от этого нимало не изменится. Каждую из девяти муз он просил рассказывать о его трудах и страданиях и с каждой из девяти сестер расставался, лишь взяв у нее все, чему она могла его научить. «Если я пишу, то пишу, – говорил он, – если я рисую, то рисую; если я высказываюсь с экрана, я покидаю театр; взявшись за пьесу, бросаю фильм; и скрипка Энгра[240]240
Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867) – художник, живописец и график. В данном случае имеется в виду фотография художника и фотографа Ман Рэя (1890–1976), сделанная в 1924 г. и изображающая женское тело как скрипку. Фотография обыгрывает каламбурный фразеологизм «это его скрипка Энгра (фр. violon dʼIngres)» в значении «это его „конек“, слабость, любимое занятие». Энгр любил играть на скрипке и изображал одалисок в тюрбанах. – Ред.
[Закрыть] мне по-прежнему кажется лучшей из скрипок».
Поэму или роман, фильм или спектакль он неизменно составляет из одних и тех же алхимических ингредиентов: ангел, роза, петух, статуя, лошади, мрамор, лед, снег, стрельба, пули, пляшущая в фонтане яичная скорлупка, смертельно раненный ребенок, окровавленные губы, комната в беспорядке. Он всегда создавал одну и ту же пьесу, писал одну и ту же книгу, сочинял одни и те же стихи, выражал все те же чувства, высказывал все те же мысли. Что это были за чувства? Что за мысли? И кем был Кокто?
Прежде всего – поэтом, и он был совершенно прав, понимая это слово в куда более широком смысле, чем просто «автор рифмованных сочинений». Для него поэт – это мифотворец, который с помощью чар и заклинаний помогает разглядеть подспудную красоту и тайну мира. Поэт заново создает вселенную, используя ритмы, выбирая слова, отягченные мифами, высвечивая подробности, которых до него никто не замечал. Он и сам не знает как. В нем обитает ангел, и этот ангел – лучшая часть его самого, «ледяной и мятный, снежный, огненный и эфирный ангел». Своему внутреннему ангелу Кокто дал имя – ангел Эртебиз, и он тщетно пытался оградить свой покой от этого чужака, который являлся им в большей степени, чем он сам.
Если моя песнь звучит странно,
Увы, я ничего поделать с этим не могу.
Заждавшись слов,
Беру я те, что есть.
Воля муз неведома мне,
Как и воля Бога.
Могу ли я раскрыть их тайны?
Нет, я лишь несу свой крест.
В действительности ангел Эртебиз – не ангел, это та сверхличность, которую каждый носит в себе. Правильнее было бы говорить не о вдохновении, а о выдыхании. «Мы все вытаскиваем из себя, – говорил Кокто, – мы это выдыхаем, изливаем. Каждый из нас вмещает в себе ангела, и мы должны быть хранителями этого ангела». Неудивительно, что ему не давал покоя миф об Орфее. Он был одновременно и Орфеем, и ангелом Эртебизом. Одна его половина вела другую в ад, чтобы вывести оттуда Эвридику его воображения. Его ангел истязал его. «Я хочу жить, – говорил ангел, – а ты можешь и умереть, велика важность!» Но этот мучитель был и его единственным утешителем. Кокто, как и все люди, увязал ногами в тине, жил как мог; ангел хватал его, выдергивал из «ласковой человеческой грязи», помогал справиться со своим даром. Не так легко себя вылепить, но переделать еще труднее. И все же он себя переделал, отказавшись идти по пути наименьшего сопротивления. Почерк его становился все более стремительным, он тратил все меньше слов и избавлялся от прикрас. Он все чаще старался, как он говорил, попасть в яблочко, а не удивить хозяйку тира. С годами его суровая требовательность возрастала. Ангел в нем одерживал верх.
Но реальный мир не склонен втискиваться в формы, которые навязывает ему поэзия. Поэта преследуют грубые и сильные чудовища. Кокто был для них особенно лакомой дичью. Он обостренно чувствовал одиночество, в которое погружен человек, невозможность соединиться с теми, кого любишь, – словом, трудность бытия. Нам, восторженно любующимся вспышками его остроумия, невозможно себе представить, что на площадку, с которой запускали фейерверк, опустится ночь и от всего этого волшебства останутся лишь обугленные трубочки. Жизнь поэта выглядит танцем, но, подобно акробату, он танцует над пропастью: если оступится, разобьется насмерть. Воспользовавшись милой нашим романтикам мыслью о том, что поэт пишет собственной кровью, Кокто снял незабываемый фильм.
Чернила, которыми пишу, из лебединой крови,
Он умер, чтобы быть в строке живым.
Очень рано красная нить вывела его к лику смерти. Она представлялась Кокто очень красивой молодой женщиной в белом медицинском халате и резиновых перчатках; речь у нее быстрая, голос резкий и равнодушный. За ее лимузином следуют мотоциклисты в черном, ее подручные.
Смерть не действует сама,
У нее есть дуэлянты,
Палачи, убийцы,
Они приносят то, что любит она.
Ее стерильная и сухая деловитость пугает больше, чем танец скелетов. Эта зловещая распорядительница очень рано пришла за теми, кого он любил, и потому у Кокто неизменно наслаиваются одна на другую мелодии любви и смерти. Ему было всего тридцать лет, когда он написал:
Я вижу смерть, она уж рядом,
Увы, я на середине жизненного пути;
Молодость покидает меня, я получил ее удар.
Она снимает, смеясь, мой венок из роз;
Мы – узор ковра,
Который ткет смерть с изнанки.
Он не знал надежного способа отгородиться от смерти и бед. Он не только был фаталистом, но и верил в заговор сил, враждебных человеку. Трагедию Эдипа он принимал близко к сердцу, как и трагедию Орфея. С чрезвычайной серьезностью и суровостью он обращается к нам в начале «Адской машины»: «Взгляни, зритель, перед тобой одна из самых совершенных машин, построенных ужасными божествами для математически рассчитанного истребления смертных; ее взведенная до отказа пружина медленно раскручивается в течение всей человеческой жизни». Даже на закате своей блистательной жизни, несмотря на все обрушившиеся на него почести, несмотря на любовь и дружбу, которыми его окружали, он так и не смог избавиться от наваждения адской машины. И ведь это правда, что она подстерегает нас и поочередно уничтожит всех до одного. Правда также, что Кокто был более уязвим, чем другие, потому что был более восприимчив.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?