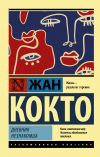Текст книги "Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее"
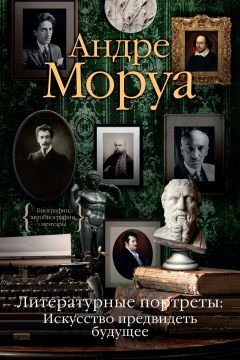
Автор книги: Андре Моруа
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Бергсон был для Пеги не только учителем, которым он восхищался в Эколь Нормаль. Бергсон был философом, учение которого позволяло Пеги защищать христианство от материализма и позитивизма с точки зрения философской. Церковь всегда учила, что духовная смерть есть результат очерствения сердца и что решительный отказ от покаяния свидетельствует об окончательном омертвении сердца. Но что представляет собой этот духовный склероз с точки зрения метафизики? Только Бергсон сумел глубоко исследовать явления привычки, старения, очерствения. «Потому что мертвое дерево – это дерево, совершенно законченное, заполненное свершившимся, мумифицированное, хранящее в себе весь свой опыт и всю свою память… Так же и мертвая душа – это душа совершенно законченная, заполненная свершившимся… заскорузлая, очерствевшая, бесчувственная… Эта душа мало-помалу, по мере очерствения, утрачивала податливость…»[110]110
Неточная (у Моруа) цитата из посмертно опубликованной работы Ш. Пеги «Дополнительная заметка о Декарте и картезианской философии».
[Закрыть] Бергсон, который спасает еще не завершенное, только делающееся, необходим Пеги. Философ служит опорой для поэта.
III
«Обыкновенный человек и рядовой христианин. Обычный городской житель и рядовой прихожанин. И самый обыкновенный грешник. Человек, неизменно одетый в обычную одежду, пишущий на обычной бумаге, всегда сидевший лишь за общим столом». Так он любил себя описывать – колоском из того богатого урожая, каким явилось его поколение во Франции. При этом под словом «обычный» он не имел в виду заурядность, совсем наоборот. Жанна д’Арк была обыкновенной девушкой, обыкновенной крестьянкой, простой пастушкой. Как и Шарль Пеги был обыкновенным лейтенантом, обыкновенным героем, простым солдатом огромной армии, сражавшейся на Марне.
Ничто в его жизни не оставило на нем такой отметины, как военная служба и те времена, когда он был офицером запаса, офицером территориальных войск. Ему очень нравился армейский словарь. Его пристрастие к долгим пешим прогулкам, по словам Таро, всегда ассоциировалось у него с представлением о чем-то военном. Он шел, «в душе сожалея, что это не более чем прогулка». Ему хотелось, чтобы каждый его шаг отзывался в истории, как то было у солдат Великой армии. Ему хотелось шагов в эпохе, а не в периоде. Как и столь любимый им Гюго, он был, по собственному признанию, пацифистом. И он пошел на войну в августе 1914-го, чтобы убить эту войну, чтобы осуществилось всеобщее разоружение. Но, подобно Гюго, он говорил все это лишь для очистки совести – всем сердцем любя военное дело. «Великая философия, – говорил он, – это та, которая когда-то отчаянно сражалась на опушке леса». Случалось, он высмеивал пацифизм Гюго – старого хитреца и проныры, который так горячо превозносил мир, а сам был счастлив приветствовать императора, видеть «улан крылатых батальоны», пушки у Дома инвалидов, трофейные знамена под великолепными сводами, Вандомскую колонну, Триумфальную арку – и ввести все это в свои стихи, облекая в такие прекрасные рифмы: «Орлы ваграмские! Вольтера край родной! Свобода, право, честь присяги боевой…»[111]111
Цитата из книги В. Гюго «Власть освящена» (перевод Г. А. Шенгели).
[Закрыть] Возможно, эти строки Виктора Гюго волновали Шарля именно потому, что представляли в сжатом виде его собственные чувства.
Он любил прошлое Франции чудеснейшей любовью ребенка, ученика начальной школы, ставшего историком своей родины. Пеги ничего не выбирал в ее прошлом. Он испытывал глубокое презрение к тем авторам учебников (из числа республиканцев), которым хотелось верить, что 1 января 1789 года, разогнав тьму, воссиял день во Франции и зло в ней было навеки похоронено 31 декабря 1788 года. Он восхищался солдатами Жанны д’Арк точно так же, как теми, кто сражался при Вальми, солдатами Тюренна[112]112
Тюренн Анри де Латур д’Овернь (1611–1675) – маршал Франции, сын герцога Буйонского, одного из вождей гугенотов.
[Закрыть] точно так же, как теми, кто сражался при Аустерлице. Он знал, что это одни и те же люди, выходцы из одних и тех же семей, «солдаты, сыновья солдат, под теми же стягами».
Его республика – та, о которой говорят: «Как прекрасна была республика при Империи!», та, что обещала братство, а не та, что преследовала братьев, та, что была республикой Ламартина, а не республикой господина Комба[113]113
Комб Эмиль (1835–1921) – государственный деятель, выступавший в период острой борьбы сил демократии и реакции вокруг дела Дрейфуса с требованием пересмотра дела как защитник республиканского строя.
[Закрыть]. В глубине души он считал, что республика умерла в день смерти Гюго, умерла в тот день, когда мистика превратилась в политику. Нет смысла сражаться и браться за перо ради того, чтобы на смену команде политиков-консерваторов к власти пришла команда политиков-радикалов. А поскольку он любил и уважал французов, то в падении нации он обвинял одних только политиков. «К тебе приходим мы…» – писал он, обращаясь к шартрскому собору Нотр-Дам:
К тебе приходим мы из Парижа,
Там наше правительство,
И время, которое теряем в пустой болтовне,
И наша мнимая свобода[114]114
Из стихотворения «Представление реки Бос Шартрской Богоматери», написанного Ш. Пеги после того, как он совершил в середине июня 1912 г. первое пешее паломничество в Шартр, чтобы вымолить у Богоматери исцеление своего сына Пьера.
[Закрыть].
Шарль Пеги являл собой наиболее полное воплощение той двойственности, о которой говорил Жан Шлюмберже и которая составляет самую суть жизни французского народа. Франция не поддается объяснению, если мы пытаемся постичь ее при помощи анализа и логических рассуждений, потому что она одновременно религиозна и антиклерикальна, религиозна и цинична, революционна и консервативна, она – труженица и мятежница, воительница и пацифистка, она – простой народ и аристократы, она – за республику и за монархию, за республику и за империализм, она фрондерствует и соблюдает дисциплину, она серьезна и легкомысленна, рассудочна и безумна, она христианка и атеистка, она богата и бедна, она верит, и она изверилась во всем… Но когда мы видим все эти свойства соединенными и перемешанными в одной личности, в таком человеке, как Шарль Пеги, становится понятно, что противоречат одно другому здесь только слова, а в живом теле вполне возможно их примирить. И именно в Шарле Пеги, куда в большей степени, чем в любом представителе его поколения, нашла одно из своих воплощений Франция – со всем своим величием и со всеми своими слабостями.
Здесь Франция везде, в большом и малом,
Страна полей красивых и лесов,
Страна зеленых садов, где льются ручейки
И зреют грозди винограда.
IV
О Пеги говорят, что он трудный писатель. Это неправда. Просто надо читать его вслух и на ходу. Этот человек, который так любил ходить пешком, так любил долгие прогулки и «пешеходные маршруты», этот пехотинец и паломник сочинял стихи и прозу, подобные строевым песням. Все мы во время службы в армии пели такие бесконечные кантилены, где каждый куплет начинался с последней строчки предыдущего. Так же писал и Пеги – легко связывая новую фразу с несколькими словами из предыдущей, с удовольствием повторяя некоторые мысли и слова как припев.
Его проза походит на строевые песни, а стихи – на церковные литании. Монотонные повторы рифм в длинном стихотворении, однообразие форм не пугали его. Он позволял своим мыслям двигаться неспешно, шаг за шагом. Шаг – это очень короткое расстояние, но именно шаг за шагом батальон в конце концов приходит туда, куда требуется. Пеги, начиная работу, не составлял планов. Все, чего он хотел, – это выразить мысли и чувства, возникающие у него в пути в связи с какими-то событиями. «Представление о строгом плане было совершенно чуждо ему, – писал Таро. – Нет, мало сказать „чуждо“, точнее будет сказать „враждебно“: враждебно творчеству, как Шарль его понимал. Больше всего ему хотелось создать впечатление свежести только что родившейся, едва встрепенувшейся, едва оформившейся в ясном сознании мысли. В этом его природные наклонности превосходно согласовывались с представлениями его учителя Бергсона о том неповторимом мгновении, которое еще не сделалось прошлым, но оно уже и не будущее, о протекании мгновения, являющего собой настоящее, саму жизнь, как раскрывающуюся почку, о кратком и наполненном мгновении, дарящем миру вечную молодость и тут же улетучивающемся, чтобы превратиться в память, в старость, чтобы одеться твердой корой».
Кое-чем – например, неорганизованностью, небрежностью, желанием внутренне постоянно находиться на связи с тем, что диктует мысль, склонностью к повторам – он походил на Гертруду Стайн[115]115
Стайн Гертруда (1874–1946) – американская писательница, почти всю жизнь – с 1903 г. – прожившая в Париже.
[Закрыть]. Вернее, это Гертруда Стайн походила на Пеги, которого, возможно, никогда не читала. Хотя стилистические предпочтения у них были очень разными. Излюбленными причудами стиля Пеги, наряду с ритмом походного марша, были неожиданные и непривычные отступления, нагромождения прилагательных – по три-четыре подряд без запятых – или цитаты, врезанные в текст таким образом, будто они естественная составная часть мысли самого эрудита. Вот пример:
«Я напрасно старался, я напрасно защищался: внутри меня, вокруг меня, надо мной – не спрашивая моего мнения – все наперебой спешили сделать из меня крестьянина вовсе не с Дуная[116]116
«Крестьянин с Дуная» – французская идиома, обозначающая дикого и грубого с виду человека, поражающего своей резкой откровенностью.
[Закрыть], что отдавало бы литературщиной, но попросту из долины Луары, сделать меня дровосеком из леса, тоже отнюдь не бессмертного Гастинского[117]117
Образ из элегии «Против дровосеков Гастинского леса» главы поэтической школы «Плеяды» Пьера Ронсара (1524–1585), оплакивавшего в стихотворении неизбежный закат Ренессанса.
[Закрыть], но, как и он, обреченного на гибель Орлеанского, сделать виноградаря с берегов Луары, выросшего на их песках…» Да, он был виноградарем, но отучившимся в лицее, а после в Эколь Нормаль и неспособным удержаться, чтобы не помянуть Ронсара вслед за Лафонтеном. «И мне стоит все же заявить, что именно мы, парни с Луары, говорим на самом чистом французском».
Он говорил на чистейшем французском языке, но злосчастный Шарль Виктор Ланглуа был не совсем не прав, когда обвинял Пеги в том, что он грешит бессвязностью изложения без начала и конца и проявляет склонность к аллитерациям и литаниям. Верно, что его «Кайе», как и «Деньги», «Клио», «Виктор Мари, граф Гюго», «Дополнительная заметка о Декарте и картезианской философии», не имеют ни начала, ни конца, ни введения, ни заключения. Верно, что Пеги заводит свои жалостные песни, перенасыщенные цитатами, не зная, куда они его выведут. Но верно и другое: его журнальные статьи в «Кайе» были прекрасны и остаются прекрасными и сейчас, когда перестали быть злободневными, – ты шагаешь вслед за их строками, как за полковым оркестром. У Гюго есть удивительное стихотворение под названием «Ibo» («Пойду»)[118]118
Стихотворение Виктора Гюго из шестого цикла «На краю бесконечности» сборника «Созерцания» (1856), рисующее образ пророка, полного решимости разгадать загадку бытия.
[Закрыть], в котором герой не сходит с места, и, по мнению Алена, это одно из самых прекрасных его стихотворений. Так и с Пеги. Он воплотил в себе «сотни и тысячи, сотни тысяч людей идущих, отмеряя один и тот же шаг, умирающих одной и той же смертью, вечно нетленных…».
V
Таковы уж они, мои французы, – говорит Бог, – они не без изъянов.
Какое там! У них полно изъянов.
У них больше изъянов, чем у других.
Но со всеми своими изъянами они мне куда милее, чем другие, – те, у кого изъянов намного меньше.
Я люблю их такими, какие есть. А совсем без изъянов – только я один, – говорит Бог.
Пеги, как Бог из его стихотворения, любил французов такими, какие они есть. И для него это был единственный способ кого-то любить. Так давайте же и мы любить Пеги таким, каким он был. Тяжеловатым, хаотичным. Подобным грунтовой дороге, где комья тучной земли пристают к мысли. Дороге, идущей круто вверх, с участками, на которых у вас перехватывает дыхание, но заканчивающейся дивным видом на окрестности. Это трудный, неудобный, пролегающий во тьме между крутыми склонами путь, и ведет он прямо на равнину, выкошенную пулями. Рассказ о Пеги всегда надо заканчивать одним из самых прекрасных его стихотворений – стихотворением, которое он подписал собственной кровью:
Счастливы те, кто умер в справедливой войне,
Кто пал за плоть земли,
Счастливы те, кто умер за мир.
Счастливы те, кто смерть в битве нашел.
<…>
Счастливы те, кто умер, ибо они вернулись
К праматери-земле.
Счастливы те, кто умер в справедливой войне,
Счастливы, как спелые колосья в снопу.
Можно ли лучше выразить то, что нам хотелось в 1940 году сказать миру, представляя ему истерзанную Францию?
Вот наши сыновья, что воевали,
Да, доля их нелегкая, но упрекнуть их не в чем.
…Но положите вместе с ними, скажем мы, на ту же чашу весов все, что они вам дали: соборы, мудрость Монтеня, веру Паскаля, остроумие Вольтера, музыку Гюго, пять веков живописи, десять веков сражений… Положите все это – и тогда, мы это знаем, чаша достоинств перевесит в вашем сознании чашу недостатков, и вы повторите вслед за Богом, цитируя Пеги: таковы уж они, мои французы, – они не без изъянов, но я люблю их такими, какие есть…
Ромен РолланПоскольку многие бессознательно относят Ромена Роллана к предыдущему поколению, кое-кто удивится, наверное, обнаружив в этой книге посвященный ему очерк. Но ведь он родился всего за три года до Андре Жида, а умер спустя три десятка лет после Пеги. И разве можно забыть, как важен был для меня самого и для стольких моих ровесников в дни нашей юности его роман «Жан-Кристоф»? Для нас это был великий роман, пусть даже и не получившийся таким совершенным во всех отношениях, как «Война и мир», но зато ставший предшественником, родоначальником всех наших многотомных романов – «Тибо», «Людей доброй воли»[119]119
Имеются в виду выходивший отдельными книгами в период с 1922 по 1940 г. восьмитомный роман Р. Мартена дю Гара «Семья Тибо» и эпопея Ж. Ромена, отразившая самые важные стороны жизни Франции 1908–1933 гг.
[Закрыть] и других. Кроме того, во время войны 1914–1918 годов Ромен Роллан оказался одним из тех французов-патриотов, по мнению которых патриотизм не может выражаться во лжи, липовых обещаниях и ненависти. На родине такая позиция обеспечила ему своего рода остракизм со стороны официальной литературы и молчание критики до конца его жизни, а за рубежами Франции – глубокое уважение, широчайшую читательскую аудиторию и – в 1918 году – Нобелевскую премию.
Интеллектуальное мужество писателя более чем заслуживает признания и уважения, даже если лиричность его прозы, избыток в ней пылкости и отпугивают в наше время читателей, более циничных и более близких Стендалю, чем были современники Роллана. Но пусть они прочтут «Жан-Кристофа», пусть прочтут дневники Роллана, его обширную переписку – им откроются там настоящие страсти. Ален считал «Лилюли»[120]120
«Лилюли» (первое название «Буриданов осел») – сатирическая пьеса, над которой Роллан работал с 1912 по 1919 г. Пьеса написана в духе аристофановских комедий, и в последней редакции говорится о том, как лицемерные политики толкают народы к взаимному истреблению.
[Закрыть] пьесой, достойной самой высокой оценки. И пусть мощный поток слов не отвращает от книг Роллана чересчур тонкие умы! Да, стоит Роллану приблизиться в своих творениях к пониманию таких вещей, как война, нищета или лицемерие, как он становится красноречив и многословен, подобно Виктору Гюго и Льву Толстому, но разве это преступление? Восторженность писателя удивляет людей нашего времени, но восторженность его идет от сердца, и, я думаю, она благотворна. Не надо скупиться на восхищение человеком, умевшим восхищаться Бетховеном или Микеланджело так, как они того заслуживали. Ален говорил: «Мы знаем, что этот прославленный человек никогда не пресмыкался ни перед какой властью и всегда слушался только своей совести».
I
Юность и начало карьеры
Ромен Роллан родился в городке Кламен, Ньевр[121]121
Ньевр – департамент в Бургундии, на востоке центральной части Франции.
[Закрыть]. Отец его был нотариусом в пятом поколении. «Я родился в обеспеченной буржуазной семье, жил в окружении любящих меня родственников в благословенном крае, сочную прелесть которого я позже… воспел голосом своего „Кола“»[122]122
Роллан Р. Воспоминания. М.: ГИХЛ, 1966. С. 15.
[Закрыть]. Всю жизнь он помнил поместье дедушки близ Осера – глаза и ноздри Роллана до последнего дня сохранили память о родной природе, откликаясь на запахи травы, смолы, меда, акаций, согретой солнцем или влажной после дождя земли.
Но почему тогда он, будучи еще ребенком, ощущал себя пленником? Почему называл жизнь «крысоловкой»? Хотя его родители были здоровыми, высокими, крепкими, без единой, как говорится, червоточинки, здоровье самого Ромена с раннего детства оставляло желать лучшего. По вине служанки он едва не умер, когда ему не исполнилось еще и года, и последствия этого ощущались до конца жизни – у него всегда были слабые легкие и затрудненное дыхание. Его младшая сестренка умерла в три года от ангины. Сам он перенес бессчетное количество бронхитов, у него постоянно болело горло, часто случались носовые кровотечения. «Не хочу умирать!» – повторял мальчик, лежа в кроватке. Роллан проживет семьдесят восемь лет чахлым, бледным, со впалыми щеками – вечным умирающим, который тем не менее не подпускает к себе смерть (как Вольтер). «При взгляде на овал и цвет лица Роллана, на его глаза, – писал Шарль дю Бос, – легко было подумать, что он сидит на хлебе и воде в какой-нибудь кутузке вблизи Женевы». Злые и недостойные Чарли слова, но Роллан никогда не был любимым автором дю Боса.
Пришедшаяся на годы детства необходимость битвы за жизнь гасила его физические и душевные силы. Тем не менее он перенял у матери «любовь к музыке и умение музыку чувствовать, религиозность, абсолютную независимость души от окружающего мира и от чужого мнения».
Первым учебным заведением, куда отдали маленького Ромена, был коллеж в Кламси. Но в 1880 году его отец продал свою нотариальную контору и перебрался с семьей в Париж, где подросток смог продолжить свое образование сначала в лицее Святого Людовика, а затем в лицее Людовика Великого. Когда в его судьбе пробил час и он действительно пробудился, сделал свой первый шаг? К какому времени относятся слова «Я не согласен!», ставшие его девизом? Разумеется, ко времени его приезда в Париж. «Лицей с его нездоровой казарменной атмосферой, где томятся снедаемые вожделением юнцы, лихорадка Латинского квартала, захватывающая сутолока улиц, призрачный город – все это вызывало у меня только отвращение… Беспощадная борьба за существование навалилась тяжелой ношей на хрупкие плечи четырнадцатилетнего человечка. Опереться было не на что. Слабые ростки религиозности, вывезенной из провинции, увяли. Молодежь того времени плевала на религию… Материалистический позитивизм, плоский и сальный, разливался прогорклым жиром по светлой глади рыбьего садка»[123]123
Роллан Р. Воспоминания. М.: ГИХИ, 1966. С. 226.
[Закрыть].
Страдания, которые причинило столь резкое перемещение в другую среду, можно было смягчить только двумя лекарствами: природой и музыкой. Природу Роллан любил всегда, сам того не подозревая, а «печать, закрывавшая от меня эту Книгу книг, была наконец сломана в 1881 году на террасе в Ферне[124]124
Полное название – Ферне-Вольтер, город и коммуна во французском департаменте Эн вблизи Юрских гор и границы со Швейцарией, – фактически «иностранный пригород» Женевы. В 1759 г. деревушка Ферне была куплена для Вольтера, который прожил здесь, занимаясь ее благоустройством, до своего триумфального возвращения в Париж в 1778 г.
[Закрыть]. Тогда я увидел ее, тогда я стал читать ее». Почему в Ферне? Мать отвезла мальчика в Швейцарию, «в гости к Вольтеру». Исполненный гармонии и покоя пейзаж, широкие горизонты, радующие глаз цветущие луга, спускающиеся к озеру, а вдалеке подобная приглушенным звукам «Пасторальной симфонии»[125]125
Шестая симфония Бетховена (1808). – Ред.
[Закрыть] панафинейская[126]126
Панафинеи – древнегреческие празднества в честь богини Афины.
[Закрыть] декорация – задник, где на фоне бескрайнего неба высились Альпы. «Почему откровение снизошло на меня именно здесь, а не где-нибудь в другом месте? Я не знаю. Но это было так. Точно спала пелена»[127]127
Роллан Р. Воспоминания. М.: ГИХЛ, 1966.
[Закрыть]. И внезапно нивернезские пейзажи – пейзажи его детства – обрели для него иной, чем прежде, смысл. «В ту минуту, когда я увидел природу обнаженной, когда я „познал“ ее, только тогда я понял, что любил ее и прежде. Я понял, что принадлежал ей с самой колыбели…»[128]128
Там же. С. 26.
[Закрыть] С тех пор Роллан часто ездил в Швейцарию – в поисках широких горизонтов и чистого горного воздуха.
Симфонические концерты в Париже стали для юноши драгоценной заменой песни горных вершин. В 1883 году он обретает музыку и через нее веру. «Благодаря Моцарту я снова обрел веру», – напишет он, а год спустя, в 1884-м, закончит фразу: «…и я отрекся от нее благодаря Бетховену и Берлиозу…»[129]129
Там же. С. 231.
[Закрыть] Только это будет уже другая вера. Новое прозрение наступило между шестнадцатью и восемнадцатью годами, когда он читал «Этику» Спинозы. «Совершенно необходимо, – пишет Спиноза, – строить любые наши умозаключения на вещах физических, иными словами – реально существующих, исследуя шаг за шагом серии причин, одну реальную сущность за другой, не отвлекаясь на вещи абстрактные и универсальные… Но надо заметить, что под „серией причин“ и „реальными сущностями“ я имею в виду не серии вещей особенных и изменчивых, а только незыблемых и вечных». Это чтение Спинозы стало для подростка ночью Паскаля[130]130
Паскаль Блез (1623–1662) – математик, физик, философ, классик французской литературы. В ночь с 23 на 24 ноября 1654 г. – «от десяти с половиною часов вечера до половины первого ночи» – он пережил, по его словам, мистическое озарение свыше. Придя в себя, он тут же переписал мысли, набросанные начерно, на кусочек пергамента, зашил пергамент в подкладку своей одежды и до самой кончины не расставался с тем, что его биографы впоследствии назовут «Мемориалом» или «Амулетом Паскаля».
[Закрыть]. Юный Роллан открыл для себя Бога – единого, бесконечного, вездесущего, Бога, вне которого нет ничего. «Все, что существует, существует только в Боге». И я, я тоже существую только в Боге, говорит себе лицеист-мечтатель, а раз так – я должен навсегда обрести мир в душе. Вставай! Вперед! Действуй! Сражайся!
Действовать, творить, сражаться – вот отныне смысл его жизни, а Бетховен и Вагнер, Шекспир и Гюго – вот отныне его верные помощники. И еще Толстой, которого он только что открыл для себя и который «очень сильно повлиял на эстетическое чувство, довольно сильно на нравственность и совсем никак на интеллект». В июле 1886 года двадцатилетний Роллан поступил в Эколь Нормаль и привел туда, под эти монастырские своды, великих русских. Год спустя он написал Толстому, и тот ответил молодому человеку, обратившись к нему: «брат». А за четыре года до того Ромен видел в Швейцарии Виктора Гюго: «Старый Орфей, совсем седой, весь в морщинах, словно бы вышедший из глубины времен… Толпа пожирала его взглядами и не могла насытиться. Один рабочий рядом со мной сказал жене: „Надо же! Такой урод – а до чего красив!“»
Эколь Нормаль подарила Роллану друзей: Суареса, Луи Жийе[131]131
Суарес Андре (1868–1948) – прозаик и поэт, один из четырех основателей «Нувель ревю франсез». Жийе Луи (1876–1943) – историк искусства и французской литературы.
[Закрыть], – но учителей он там приобрел мало. Он не любил философию и литературную критику «с их ханжеским спиритуализмом», а именно это течение царило тогда на улице Ульм, поддерживаемое стариком Буассье и молодым Брюнетьером[132]132
Буассье Мари Луи Гастон (1823–1908) – историк и филолог, специалист по культуре античного мира и истории раннего христианства; в 1865–1899 гг. преподавал в Эколь Нормаль римскую словесность. Брюнетьер Фердинанд (1848–1907) – литературовед, историк литературы и критик; в 1880-х гг. читал лекции в Эколь Нормаль, стремился превратить науку о литературе в естественно-научную дисциплину, с использованием в ней естественно-научных принципов и методов.
[Закрыть], и потому выбрал для себя историю, которую в Эколь Нормаль преподавали, заботясь о том, чтобы ни в коем случае не погрешить против истины. Он получил диплом историка, его направили в Рим, во Французскую школу, и здесь он открыл для себя Италию. Никакого желания заниматься археологией у стипендиата не было – ему хотелось изучать историю искусств, особенно – музыки. Истинное призвание Роллана влекло его к театру или прозе, он мечтал написать «музыкальный роман», построенный скорее не на событиях, а на контрапункте чувств.
В Риме Роллан снова встретился с семидесятилетней, но удивительно молодой душой женщиной, которую уже видел как-то в гостях у семьи Моно, – с Мальвидой фон Мейзенбуг, другом Вагнера и Листа, Ницше и Ленбаха, собеседницей Мадзини[133]133
Мейзенбуг Мальвида фон (1816–1903) – немецкая писательница, номинантка первой Нобелевской премии по литературе 1901 г. Ленбах Франц фон (1836–1904) – немецкий художник, известный своими реалистическими портретами. Мадзини Джузеппе (1805–1872) – итальянский политик, писатель и философ, сыгравший важную роль в оформлении движения за национальное освобождение и либеральные реформы.
[Закрыть] и Герцена. Их сближало все: любовь к великим произведениям искусства, отвращение к светской жизни, желание трудиться во имя союза просвещенной буржуазии с народом. Десятилетняя дружба с Мальвидой сформировала Роллана. «В этом смысле я был создан Мальвидой»[134]134
Роллан Р. Воспоминания. М.: ГИХЛ, 1966. С. 138.
[Закрыть], – писал Роллан. В каком «этом»? Мальвида внушила молодому человеку веру в себя самого и в свое будущее творчество. «Благодаря Вам я пробудился, чтобы ясно увидеть себя самого… Благодаря Вам я поверил в свои силы… Я чувствовал, как мое сердце эхом откликается в Вашем, и это давало мне ощущение, что я имею право быть тем, кто я есть».
В 1892 году Роллан женился на Клотильде Бреаль, дочери профессора словесности в Коллеж де Франс, с которой сблизился благодаря общим вкусам и склонностям. Семья жены помогла Роллану сразу же войти в университетские, академические и светские круги, однако легкомыслие и распущенность Парижа 1890-х годов выводили этого рассерженного молодого человека из себя и страшно раздражали.
Любимый тесть Роллана, Мишель Бреаль[135]135
Бреаль Мишель (1832–1915) – лингвист и историк, общественный деятель. – Ред.
[Закрыть], потребовал, чтобы зять защитил докторскую диссертацию, и вскоре Ромен вместе с женой отправился в Рим – собирать материал. Там он успешно написал научную работу на тему «Происхождение современного оперного театра. История оперы в Европе до Люлли и Скарлатти», затем в Париже успешно защитил диссертацию и сразу же получил кафедру истории музыки, сначала в Эколь Нормаль, а потом и в Сорбонне[136]136
Кафедра в Сорбонне была создана специально для Р. Роллана.
[Закрыть].
Казалось, перед ним открывался легкий и приятный жизненный путь, но натура Роллана не принимала легких путей и страшилась их. «Уже несколько лет во мне сидит какой-то демон неистовства, бороться против которого нет сил… В такие минуты я способен порвать все отношения», – писал он. И еще: «У меня подлое тело, способное предать, и бесстрашный дух. Вырастая, этот дух занимал все пространство и становился в нем хозяином… И телу приходилось искать выход. Как бы оно ни дрожало и ни мерзло, как бы ни боялось, ему надо было идти, и оно шло»[137]137
Текст, опубликованный Жан-Батистом Баррером, французским литературоведом, исследователем творчества Виктора Гюго.
[Закрыть]. Если Роллан выбирал цель и намечал дорогу к ней, ничто не могло заставить его отступить. А в то время его целью сделался народный театр, который виделся ему театром борьбы.
Он приступает к циклу пьес «Трагедии веры» («Аэрт» и «Святой Людовик»), выражавших христианско-мистические взгляды, и задумывает еще один цикл, посвященный Великой французской революции (единственной для него – 1789 года). Первая пьеса из этого цикла – «Волки» – наделала много шума, потому что была сыграна в 1898 году, то есть в разгар дела Дрейфуса, и зрители считали (совершенно напрасно, утверждал автор), что в персонажах легко узнать самого Дрейфуса, полковника Пикара, генерала Мерсье[138]138
Пикар Жорж (1854–1914) – военный и государственный деятель, военный министр Французской республики (1906–1909), дивизионный генерал; главный участник разоблачения дела Дрейфуса (см. примеч. на с. 75). Мерсье Огюст (1833–1921) – генерал, министр обороны во времена дела Дрейфуса. – Ред.
[Закрыть]. Вожди обеих партий присутствовали на премьере, и это просто бесило Ромена Роллана. Сам он был дрейфусаром, но слишком уважал свою профессию, чтобы с целью понравиться или не понравиться публике позволить себе использовать в творчестве намеки на злобу дня.
Брак Роллана продержался девять лет, в 1901 году он с Клотильдой развелся. «Печальная новость, я собираюсь развестись, – пишет он Мальвиде фон Мейзенбуг. – Между мной и Клотильдой не произошло ничего особенного; ничего, если не считать того, что мы живем слишком по-разному и самым роковым образом удаляемся друг от друга. Вы знаете, что, когда я женился на Клотильде, она тяжело переживала смерть матери и Сезара Франка[139]139
Франк Сезар-Август (1822–1890) – композитор и органист бельгийского происхождения.
[Закрыть], который был для нее близким и великодушным другом. Она глубоко страдала в ханжеском окружении и была исполнена благородного стремления вести трудовую жизнь, отрешившись от суеты… Но по-видимому, она переоценила свои силы… Идеализм Клотильды очень скоро пошатнулся, и она, перестав сопротивляться, снова подпала под влияние старых парижских друзей… Сегодня силы наши на исходе. Совместная жизнь была бы возможна, если бы кто-то из нас пожертвовал собой ради другого, но я не должен этого делать, а она… она не желает». И неделей позже: «Самая тяжелая неделя позади, только что она закончилась… Больше всего я горюю из-за того, что не представляю ее будущего и боюсь за нее. Теперь она так одинока, так слаба и дружит с такими опасными людьми».
В эти самые дни Ромен Роллан решил на время связать свою литературную судьбу с судьбой Шарля Пеги. Роллану очень тогда хотелось опубликовать трагедию «Волки», а это было нелегко: на пьесу ополчились оба лагеря.
«Мне все равно! Я высказал то, во что верю, и пусть теперь меня ненавидят. Ненависти я не боюсь», – храбро писал Роллан. Вот только ни один журнал, ни одно издательство – никто не хотел печатать у себя «Волков». «Мне отвечают ясно и недвусмысленно, что из-за сюжета моей трагедии часть читателей откажется от подписки». Тогда-то мужественный и верный друг Роллана Луи Жийе посоветовал ему обратиться к двадцатипятилетнему Шарлю Пеги – такому же воителю, как он, только что основавшему благодаря приданому жены издательство «Жорж Беллэ». Более того, Жийе настоял на том, чтобы Пеги сам обратился с просьбой к Ромену Роллану, и тот был счастлив отдать свою пьесу в столь надежные руки.
Пеги был крайне требователен в отношении ремесла: ему хотелось, чтобы первая опубликованная им книга стала шедевром полиграфического искусства, – и он преуспел в этом. Зато не преуспел в другом: он назвал свой роскошный том «народным изданием» с соответствующей ценой в два франка, что вызвало скандал в книгоиздательской и книготорговой среде. Все бойкотировали книгу, выпущенную Пеги. Тираж расходился крайне медленно. Полностью «Драмы Революции» увидели свет только через несколько лет, в 1909 году, с такими посвящениями: пьеса «Четырнадцатое июля» – «Народу Парижа»; «Дантон» – «Моему отцу»; «Волки» – «Шарлю Пеги».
В конце 1899 года Шарль Пеги основывает периодическое издание «Кайе де ла кэнзэн». Отнюдь не политик, а социалист-мистик, он берет себе девизом «Революция может быть только нравственной – иначе ее и быть не может». В связи с этим Роллан пишет Мальвиде фон Мейзенбуг: «Я знаком с несколькими людьми Революции, особенно хорошо знаю одного, и, если Вы увидите Жийе, расспросите хорошенько об этом человеке – его зовут Шарль Пеги… Он в одиночку основал журнал, он весьма красноречив в высказываниях и осмеливается говорить самую резкую правду всем власть имущим, к какой бы партии те ни принадлежали…» Именно Роллан предложил Пеги предоставлять в своем «Кайе» место не только публицистике, но и литературе как таковой, после чего стали появляться выпуски, целиком отданные тому или иному произведению. В шестом выпуске журнала была опубликована трагедия Роллана «Дантон».
В начале нового века здоровье часто вынуждает Ромена Роллана уезжать из Парижа в Рим или Швейцарию. Тем не менее начиная с 1901 года он постоянно сотрудничает с Шарлем Пеги и публикуется в «Кайе». В 1902 году он заканчивает для Пеги публицистическую драму о войне в Трансваале[140]140
Англо-бурская война в Южной Африке в 1899–1902 гг. – Ред.
[Закрыть] «Настанет время», но главное – он тогда же приступает к многотомной эпопее, которую впоследствии назовут «романом-потоком» или «романом-рекой». «Мой роман – это история одной жизни от рождения до смерти. Мой герой – великий немецкий музыкант, которого жизненные обстоятельства вынуждают с шестнадцати до восемнадцати лет жить за пределами Германии – в Париже, в Италии, в Швейцарии и так далее. Среда – сегодняшняя Европа. Характер у героя не мой… моя собственная индивидуальность оказалась распылена между второстепенными персонажами. И чтобы уж все сказать: мой герой – это Бетховен в современном мире… Это мир, увиденный из сердца героя как из центра повествования».
Роллан одновременно пишет свой многотомный роман и ведет рубрику «Жизнеописания великих» (Бетховен, Микеланджело, Толстой) в «Кайе» – и все у него получается, а успех «Бетховена» превосходит все ожидания, тираж раскупается за месяц. Роллан выпускает второе издание, помогая Пеги преодолеть финансовые затруднения. Летом 1903 года он заканчивает первый том романа (но роман ли это, спрашивает себя Роллан; жанр героической биографии нравится ему куда больше). Для книги в целом он выбирает название «Жан-Кристоф», для первого ее тома – «Заря». Скорее всего, второй том – «Утро» – был передан в «Кайе» тогда же. В эпопее о придуманном им музыканте Роллан найдет себе «убежище» на десять следующих лет.
Здесь тоже успех последовал мгновенно. Ромен Роллан явно перерос рамки журнала «Кайе» с его двумя тысячами читателей. Габриэль Моно[141]141
Моно Габриэль (1844–1912) – историк и публицист. – Ред.
[Закрыть] писал Шарлю Пеги: «„Жан-Кристоф“ – шедевр. Но удастся ли Вам сделать его доступным для более широкой аудитории? И существует ли широкая аудитория, способная этот роман оценить так, как он того заслуживает?»
Жизнь очень скоро докажет, что такая аудитория существует. Парижский издатель Поль Оллендорф предложил выпустить «Жан-Кристофа» большим тиражом, и автор, разумеется, согласился. Вот только дружба Роллана с Шарлем Пеги от этого пострадала – ведь издание Оллендорфа мешало «Кайе» получать прибыль от успешной книги, и, во всяком случае, даже оставляя Пеги право первой публикации, Роллан отныне хотел распоряжаться дальнейшей судьбой своей книги сам. Они поссорились, но ненадолго: в конце концов Пеги уступил Оллендорфу права на все тома «Жан-Кристофа»[142]142
«Тетради Ромена Роллана». Тетрадь 7-я, «Французская дружба». – Примеч. автора.
[Закрыть]. Из дневника Ромена Роллана: «Я был бы несправедлив, если бы не считался с тем, как устал за эти пять лет Пеги, в каком чудовищном напряжении Шарль жил все эти годы. И в конце концов, я же понимаю при этом, что именно его огромные недостатки и начинавшееся безумие давали ему силы и позволили из ничего построить невероятное».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?