Читать книгу "Аваддон. Записки демона"
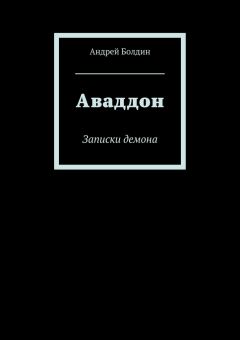
Автор книги: Андрей Болдин
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Что мне было на это ответить?
– Хорошо. Если бы жили плохо, меня бы там не было, – изображая прожженного рвача, говорил я.
Между тем, истина в моих словах была. Помощники депутатов живут, действительно, неплохо. Правда, касается это главным образом, тех, кто числится на госслужбе. Таковых у каждого парламентария по закону может быть не больше двух. Остальные – сидят на контрактах и зарабатывают существенно меньше. Я – из этих остальных. А вообще – все зависит от депутата. Мне просто не повезло…
Вот у депутата Милонова какой помощник – красавчик, модник, бонвиван! Его можно без грима – на обложку глянцевого журнала. Сразу видно, человек сделал правильный выбор. Залезешь на его страничку «Вконтакте» – залюбуешься: где только он не был – и в Сербии, и в Крыму, и в Сирии, и даже в степях под Донецком. Человек дышит историей, пробует ее на ощупь. А я? Что я вижу, кроме кабинета? Вот он, бодрый и веселый, в стильной и нахальной шляпе, сидит, развалившись в кресле, под парадным портретом Башара Асада. Снизу подпись: Дамаск. Я смотрел на это и смертельно завидовал. Небезопасно все это, конечно, но все-таки лучше так, чем как я. Я рядом с ним – сущее пугало: прическа «взрыв на макаронной фабрике», кипа бумаг в руках, сам куда-то вечно бегу, взмыленный, как скаковая лошадь. У всех депутаты как депутаты, а у меня – лось сохатый. И я лось. Нет, я – лох. Лошара.
Единственное, за что большой человеческий рахмат моему благодетелю – это приснопамятная августовская поездка в Болгарию. Конечно, курица – не птица, Болгария – не заграница, но все-таки. В официальном пресс-релизе на персональном лосяковском сайте я тогда написал: «Делегация законодательного Собрания Санкт-Петербурга посетит с дружественным визитом…». На деле – четверо приятелей-депутатов решили прошвырнуться за казенный счет – попить ракии и окунуться в уютное советское прошлое.
В маленьком городке недалеко от Софии встречали нас так, как будто приехала не горстка городских заседателей, а целый российский президент. И как будто его приезд совпал с главным национальным праздником.
Судя по многочисленной детской массовке, в окрестных школах отменили занятия. Когда мы подъезжали к зданию местной администрации, в глазах пестрело от цветов, ленточек и бантиков, от флагов, шариков и платьев. С обеих сторон дороги колыхалась пестрая человеческая масса, сотни рук размахивали трехцветными флажками, в воздухе стоял радостный гул, и казалось – сами небеса ликуют по случаю нашего визита. Лица, заглядывавшие в окна машины, светились искренним радушием – как будто освобождение Болгарии от османского ига совершилось не в позапрошлом веке, а вот только что, как будто не успели остыть скобелевские пушки, не выветрился еще с болгарских полей запах пороха. Несколько нимфеток в белых платьицах выпустило перед кортежем стаю белых голубей. Один успел жирно нагадить на лобовое стекло.
У входа в администрацию нас ждали три девушки в народных костюмах с караваями на длинных белых рушниках. Полсотни таких же девушек и соответствующе одетых юношей танцевали на площади – впечатление было такое, будто мы попали на фестиваль народного творчества.
За неделю мы объездили полстраны, выпили море вина и ракии. Где бы мы ни были – повсюду нас немилосердно задаривали. В первый же день мне вручили роскошную керамическую бутыль с вином в виде вислоусого пастуха. Лицом пастух был похож на Лосяка. Часть подарков, не говоря уже о буклетах, альбомах и прочей полиграфической продукции приходилось оставлять в гостиницах – иначе было не увезти.
Великим испытанием были бесконечные конференции и семинары, посвященные российско-болгарской дружбе. Я с трудом сдерживал зевоту, дивясь профессиональной стойкости Лосяка и других парламентариев. На одно из таких протокольных мероприятий на огромном черном внедорожнике приехала стильная маленькая блондинка лет тридцати, оказавшаяся главой сельского совета. Наши депутаты понимающе переглянулись – сразу повеяло чем-то родным. Вечером за бутылкой ракии Лосяк рассуждал:
– Все-таки, болгары – в доску свои, даром что и в Первую, и во Вторую мировые воевали против России, а потом зачем-то поперли в Евросоюз. Ничего, скоро они поймут, что кроме России нет у них друзей в мире!
Между тем, без недопонимания не обошлось. Во время одного из бесконечных застолий родился дурацкий ритуал – вставать всем столом вместе с тостующим. Поднимались все – включая дам. Болгары, видимо, думали, что у русских так принято. Русские – что такова местная болгарская традиция. С чего это началось – уже и не вспомню.
На одном из таких застолий поддавший Лосяк поднялся и, собрав волю в кулак, пророкотал:
– Нет страны ближе и роднее для России, чем… Белоруссия!
К счастью, никто этой оговорки не заметил. То ли не подали вида, то ли не поняли, то ли правильно интерпретировали сказанное – говорим Белоруссия, подразумеваем Болгария.
Болгарские чиновники простодушно называли Лосяка «господин Альбертович», видимо, приняв отчество за фамилию. Старая номенклатура еще сносно говорила по-русски, а с молодежью приходилось переходить на английский.
На второй день нас отвезли в село Правец, где родился Тодор Живков, показали дом его детства. Изумили низенькие, как будто для гномов сделанные стулья и стол, за которым обедала семья будущего болгарского генсека. Не протрезвевший с ночи депутат Атасов тайком попробовал присесть на карликовый стульчик, но бдительный Лосяк одернул забывшегося товарища.
Вне рамок официальной программы народные избранники вели себя шумно. Депутат Атасов любил порисоваться и демонстрировал русскую удаль в одной из софийских рестораций. Троекратное раскатистое ура сотрясало стены заведения и сердца иностранцев, и без того запуганных российской угрозой.
Все приятели Лосяка путешествовали налегке, и только мой шеф взял с собой помощника. Его выбор пал на меня, потому что Света была в отпуске, а Владик подцепил гонорею и лечился. Моей главной задачей было фотографирование четырех друзей на фоне достопримечательностей и по итогам поездки подготовка репортажа о посещении посланцами российской демократии дружественной славянской страны. Репортаж предназначался для персонального сайта депутата Лосяка и муниципальных газет. Между тем, жизнь, как говорится, внесла свои коррективы, и по приезду в Болгарию основной моей задачей стало каждодневное сопровождение пьяного Лосяка в номер. Босс не был силен в питии – после пяти-шести рюмок крепкого алкоголя осыпался, как клен по осени. Свой номер он найти зачастую не мог, и без моей помощи подолгу шатался по этажам гостиниц, пугая горничных. Не удивительно, что в армейской среде авторитетом мой шеф не пользовался.
Наш отъезд был обставлен с не меньшей пышностью. С хозяевами прощались по-родственному. В дорогу гостеприимные болгары дали несколько больших, изукрашенных сдобным узорочьем хлебов. На обратном пути накаченные водкой из дьюти-фри парламентарии закусывали караваями, хищно разрывая их руками. Весь пол в самолете был усеян крошками и ошметками хлебного роскошества, по полу катались пустые бутылки. Мы возвращались домой…
После поездки в Болгарию, во время которой поддавший Лосяк бывал на удивление благодушен и даже называл меня Лёвой, снова пошла чехарда трудовых будней, и снова мой подобревший было шеф обрел прежний лютый нрав. И свою великую милость припоминал при всяком удобном случае: «Какого хрена я тебя в Болгарию возил? Думал, хоть мозги там проветришь, а ты…».
Думаю, что заболел я тогда (летом, в жару!) не только потому, что получил слоновью дозу вирусов в троллейбусе. Обкашливали и обчихивали меня в общественном транспорте и раньше, но мой организм, слава Богу, почти всегда справлялся с инфекциями. Просто на этот раз болезнетворные корпускулы оказались в самых что ни на есть благоприятных условиях для жизни и роста. Видимо, мой иммунитет был крайне ослаблен в результате постоянной нервотрепки. И я загрипповал по-крупному, наслаждаясь законной возможностью посидеть дома. Впрочем, Лосяк доставал меня и на больничном, то и дело подкидывая нудную механическую работу и постоянно полоща мозги за прошлые «косяки».
В моей голове рождались и гибли коварные планы мести. Я всерьез намеревался собирать компромат на своего благодетеля. Но совесть, чертова кукла, мешала мне ненавидеть Лосяка в полную силу. Все-таки, он сделал то, что обещал моему отцу – взял меня на работу, кое-чему научил. С его помощью я нарастил кое-какую мускулатуру, приобрел «ребра жесткости». После Лосяка мне многое было бы уже не страшно – благодаря его школе я мог переварить любого работодателя.
Но уйти от Лосяка было нельзя. В глазах моего отца я расписался бы в полной неспособности заниматься хоть сколько-нибудь серьезным делом. Я запорол бы его проект – «идти по линии госслужбы». Но главное – нельзя было спасовать перед самим Лосяком. С моей стороны просто преступно было бы дать ему возможность почувствовать себя победителем. Ведь он нарочно доводил меня до белого каления своими придирками, невыполнимыми поручениями и постоянным подтруниванием. Он проверял меня на прочность – конечно, не в видах дальнейшего использования, а просто так, в силу своего дрянного характера, и может быть – чтобы за что-то отомстить моему отцу. Наверное, плюгавый Лосяк не мог простить своему однокашнику внушительной наружности и женитьбы на красивой девушке, даром что бросившей впоследствии своего непутевого мужа.
Оставалось дожидаться окончания его депутатского срока и надеяться, что в следующий раз Лосяка уже не переизберут. Таким образом, ждать нужно было два года – до новых выборов в Законодательное Собрание. При мысли об этом мне становилось так тоскливо, что хотелось попасть под поезд или принять на голову случайный кирпич. В эти суицидальные помыслы вплетались другие – еще более греховные. По нескольку раз в день я страстно желал гибели самому Лосяку – желание это держалось в моем сознании не более секунды – дальше его выметала из моей головы подоспевшая совесть.
Однажды я услышал, как в разговоре со своим лепшим корешем Атасовым Лосяк выказал желание поехать в Донбасс – «поддержать антифашистов». Учитывая тот факт, что каждый день на востоке Украины гибли десятки человек, это была отличная мысль. Я представил себе, как моего благодетеля прошивает шальная пуля или накрывает из миномета. Воображение мгновенно изобразило фотографию развороченного автомобиля и газетный заголовок: «Петербургский депутат убит под Славянском».
Но увы – это были только слова. Никуда Лосяк ехать не собирался. Будучи записным патриотом, он вряд ли бы променял кабинет в Мариинском дворце на горящий блокпост.
Но смерть настигла его именно в кабинете. Вот как бывает…
Тайны следствия
После того как Лосяка отпели, я снова увидел перед собой несуразную физиономию следователя Болтина. Он появился в дверях кабинета, когда мы с толстым Владиком и соблазнительно-траурной Светой (черные кружевные чулки, черная короткая юбка, черная рубашка и черный лифчик под ней) как раз поминали босса коллекционным вином и заоблачно дорогим коньяком, обнаруженными в личном шкафу покойника. Мои коллеги скорбели по-настоящему, оплакивая не столько мертвого босса, сколько свою работу, которой они, в отличие от меня, все-таки дорожили. Мне же было чертовски весело, но я старательно это скрывал, рюмка за рюмкой накачиваясь Лосяковским коньяком.
– Ба! И снова – вы? – воскликнул я, увидев на пороге нескладную фигуру следователя.
Болтин вошел в кабинет и уставился на поминальный стол.
– И снова я. Что вас так удивляет?
– Ничего. Просто рад вас видеть. Присоединяйтесь!
– Я на работе.
– И мы тоже, – заржал я, почему-то найдя это очень смешным.
– Нам нужно поговорить, – сказал Болтин, покосившись на печальных Владика и Свету.
– Извольте, – сказал я и икнул.
Мы шли по огромному пустому зданию – я впереди, он – за мной. Я нарочно удлинил и запутал наш путь, поведя незваного гостя по лабиринту Мариинского дворца – мы долго брели по широким гулким коридорам, поднимались по лестницам, попадали в узкие ущелья, сворачивали в укромные закуты. Под нашими ногами скрипел рассохшийся паркет, мимо проплывали белые двери с именными табличками депутатов. Последний отрезок пути лежал через полутемный Помпейский зал, где когда-то, еще при царях заседал Государственный совет, пышно запечатленный Репиным. Мы уселись в сумраке за один из старинных круглых столов, я вальяжно развалился на стуле и приготовился слушать.
– Я, собственно, по делу о смерти депутата Родиона Лосяка.
– Ах, значит, по делу Лосяка…
– Вас что-то удивляет?
Признаться, я действительно был удивлен.
– Да, пожалуй… Все-таки, такие разные дела – смерть девушки от рук маньяка, и вот такое нелепое убийство известного политического деятеля… Да еще в разных концах города…
– Мне придется задать вам несколько вопросов, – перебил он.
Болтин старался выглядеть невозмутимым. Он медленно раскрыл коричневую папку, медленно извлек из нее лист бумаги, медленно вынул ручку и приготовился писать.
– Конечно, спрашивайте. Пожалуйста. Всегда готов помочь органам.
– Спасибо, – рот Болтина скривился в ухмылке. – Органы в большом долгу.
Чувство юмора у него было. Но настоящей легкости недоставало. Будь он легким, подвижным человеком, даже его неказистая внешность не мешала бы ему радоваться жизни. Но он держался так, как будто был плохо сшит, и старался не делать лишних движений, чтобы не расползтись по швам.
– Итак. Я знаю о вашем алиби, но…
– Вы бы хотели спросить, кому это могло быть выгодно?
Болтин внимательно посмотрел мне в глаза и ядовито улыбнулся.
– Признайтесь, что вы испытывали личную неприязнь к погибшему, – продолжая улыбаться, выдавил он.
Формулировка вопроса, напомнившая мне известный эпизод из фильма «Мимино», вызвала у меня сдавленный приступ смеха.
– Ага… Такую личную неприязнь испытывал к погибшему, что кушать не мог… Извините.
Болтин не был настроен шутить. Он перестал улыбаться, в нетерпении отвинчивая и привинчивая обратно колпачок от ручки.
– Я вижу, вы не очень-то расстроены смертью начальника.
– Честно говоря, да. Органам врать не могу.
– По имеющейся информации погибший обращался с вами грубо и пренебрежительно, часто делал вам выговоры, наказывал вас.
Болтин произнес это с явным удовольствием. Черт возьми, ему было приятно это говорить. «Имеющаяся информация» могла быть получена только от Владика и Светы. Значит, с ними Болтин уже встречался? Могли бы сказать, сволочи…
– У него был плохой характер. Но за это не убивают, – сказал я.
– Убивают и не за это, – мрачно выдавил Болтин, что-то выводя на листе бумаги.
– Вам виднее, – снова икнул я.
Болтин захлопнул свою папку и вскочил, облокотившись о стол.
– Слушай сюда, шутник. Я знаю: ты причастен к этому убийству. И я это докажу.
Я тоже поднялся со стула.
– Видите вон ту дверь? Спуститесь по лестнице – выход там.
Я понял, что приобрел в его лице врага. Но в тот момент я не мог знать, что моим врагом он стал гораздо раньше – еще до того, как впервые пришел ко мне после убийства Ядвиги. Я понял это спустя несколько дней после того разговора в Мариинском – просто так, от скуки заглянув на страницу своей погибшей любовницы (каково звучит!). Бродя по ее альбомам, перескакивая на страницы ее подруг – тех дешевых гедонисток, которых я возил на своей развалюхе на залив, я вдруг увидел эту смазанную фотографию. Закат над морем, красноглазая компания подвыпившей молодежи позирует с пивными бутылками на фоне античной колонны. Ядвига рассказывала, что на первом курсе они ездили в Крым. Еще она рассказывала, что в то время у нее был страстный поклонник – некий молодой юрист, которого она, по ее словам, держала на коротком поводке – подпускала к себе, позволяла ухаживать за собой, кормила туманными обещаниями, даже два раза целовалась с ним, но не «давала».
Лопоухий юрист с черной от загара физиономией и зловеще красными (от вспышки) глазами стоит рядом с Ядвигой и нежно обнимает ее за талию (уже истлевшую, о ужас!). Так вот оно что! И сразу видно, что тут – не просто ухаживания, не просто влечение, тут – любовь. А может, это не он? Да нет, конечно, он. И его интерес к моей персоне вызван не только служебным долгом. Я вспомнил, как странно он себя вел перед уходом – долго топтался на месте, натянуто улыбался. Его решительность улетучилась. Он снова перешел на «вы».
– Кстати, дело о гибели Я… Ядвиги Брониславовны Петкун… еще не закрыто. Убийца не найден. И вы – пока еще в числе подозреваемых.
Произнося ее имя, он запнулся и поднес руку к горлу.
– А я думал, мы уже на «ты». Вам плохо? – продолжал веселиться я, еще не понимая, насколько опасен для меня может быть этот человек.
– Всего хорошего.
Очень скоро убийцу Лосяка нашли. Оказалось, его задушил гастарбайтер – то ли узбек, то ли туркмен. Задушил просто так – не взял ни денег, ни золотых часов. По телевизору показывали растерянные черные глаза, под одним из которых синела припудренная слива. Кого может убить такой человек? Тонкая шея, изрытое оспой лицо. Он плакал и клялся Аллахом, что Лосяка убивать не собирался – иблис попутал. Никакого другого внятного объяснения от него не получили. Камера видеонаблюдения поймала его фигуру в рабочей блузе – шел себе человек по коридору, нес охапку плинтусов. Потом вдруг остановился у двери Лосяка, положил свою ношу на пол и тихонько вошел в кабинет. Через несколько минут вышел, поднял плинтусы и продолжил путь, как ни в чем ни бывало.
Мир сошел с ума.
А следователь Болтин никак не хотел уходить из моей жизни. Вскоре мы встретились опять. И опять я был весьма удивлен целью его визита. Он по-прежнему предпочитал не вызывать меня, а являться ко мне собственной персоной. Видимо, рассчитывал застать меня врасплох – думал я. Но причина была иная.
– Вам повезло, застали меня. Вообще-то, я здесь больше не работаю. Так, зашел за вещичками, – стараясь иметь непринужденный вид, болтал я, запихивая кружку и френч-пресс в портфель.
Мне вдруг вспомнилось, как падал этот френч-пресс, когда я раскладывал Ядвигу на своем рабочем столе. Я подумал: что если рассказать ему о том вечере во всех подробностях? Неторопливо рассказывать и смотреть ему в глаза. Всё это самообладание, вся эта напускная строгость мгновенно схлынут и останется суть этого человека – ненависть и боль.
– Кстати, сколько ему дадут? – спросил я, имея в виду убийцу-азиата.
– Это решит суд, – проговорил Болтин, усаживаясь в кресло покойника.
– Вам идет сидеть в этом кресле. Я вас слушаю.
Он помолчал, по своей дурацкой привычке оттягивать начало главного разговора.
– Вы знаете Михаила Лямкина? – наконец, спросил он.
– Не знаю. Кто это?
– Бросьте. Это ваш сосед по дому.
– Я никого из своих соседей не знаю. Предпочитаю не общаться.
– Имеется информация, что у вас с ним был конфликт.
Меня словно током ударило. Он говорил о владельце «бумера».
– У меня действительно был…
– Он избил вас. Так или нет?
– Ударил один раз.
– Не важно. Вам было достаточно.
Болтин говорил это не без удовольствия. Я вспомнил тот нокаут и разозлился.
– Короче, – продолжил он, выдержав паузу. – Отрабатываются разные версии.
– Версии чего?
– Вы хотите сказать, что ничего не знаете? – незваный гость ехидно прищурился.
Оказалось, избивший меня владелец злополучного «бумера» исчез. Уехал проведать мать в Тихвин и пропал. Подруга жлоба, наблюдавшая экзекуцию, учиненную ее бой-френдом надо мной и моим фотоаппаратом из окна, решила, что я причастен к его исчезновению. Мне было приятно, что о моей персоне думают как о потенциальном мстителе. Я перешел в наступление.
– Кстати, а почему именно вы занимаетесь этим делом? Извините, но это странно. Дела разные, а приходите ко мне всякий раз вы.
Этого вопроса Болтин боялся.
– Давайте я буду задавать вопросы. А вы на них отвечать.
– А давайте я просто пошлю вас к лешему. Вызывайте повесткой. У меня времени теперь много.
Уходя, Болтин киношно обернулся на пороге и произнес:
– Я знаю, что ты связан со всеми этими смертями. Пока не знаю, как доказать, но знаю точно.
Да, Болтин занялся моей персоной основательно. Я вызывал у него болезненный интерес. Я попытался посмотреть на себя его глазами и мне стало неприятно. Девушка, которую ты любишь, спит не с тобой – хорошим, положительным и главное – любящим ее человеком, имеющим самые серьезные намерения, а с другим – смазливым депутатским холуем, для которого она – лишь довесок к жене, лишь забава. Это крайне неприятно. Это просто больно, что и говорить. И вдруг твою любимую, твою единственную находят изнасилованной и растерзанной в лесопарке. Семнадцать ножевых ран. Выпотрошен живот. Рот разрезан, как у Гуинплена. А этот мерзавец живет себе, как будто ничего не случилось – жрет коньяк и смеется над тобой. Что и говорить, с такими мыслями можно всерьез увлечься ненавистью, сделать ее смыслом своей жизни.
Внезапно я вспомнил. Вернее – догадался. Он ведь был тогда на кладбище. Точно. Был. Вот чьи глаза я чувствовал на своей спине. Не глаза – дула пистолетов, заряженных разрывными пулями.
После смерти Лосяка я надолго остался без работы. Мне стало легко. Мой мозг подернулся дымкой безразличия. А вот отец мой пребывал в крайнем замешательстве. Таким я его видел один раз – когда его жена и моя мать объявила ему, что уезжает жить в Германию, к какому-то старому бюргеру, державшему собственную булочную. Причем с собой она брала только мою маленькую сестру Дашу и левретку Клару. Отцу и мне предписывалось оставаться и ждать вызова. Мы же – мужчины, мы же не пропадем. Никакого вызова не последовало ни через год, ни через десять лет, ни тем более через двадцать. Писем – и то было всего пять или шесть. Мать писала, что живут они хорошо, но пока пригласить нас к себе не могут.
Помню, как отец смотрел на улетающий самолет. В его взгляде было недоумение и начало той собачьей тоски, с которой он будет жить все последующие годы. Мама никогда его не любила. Да и меня, наверное, тоже. Может быть, потому что я похож на отца, а на нее не похож совсем. Сестра – другое дело. У нее мамины белые локоны. Она – как кукла, как левретка Клара. Ее можно возить с собой и показывать. А я – троечник с пубертатными прыщами на отцовской физиономии – физиономии неудачника.
Отец провожал взглядом тот самолет, навсегда уносивший его любимую женщину и маленькую дочь в мутное небо над Пулково, и как будто надеялся, что вот-вот грянет гром, разыграется стихия, и диспетчеры объявят вынужденную посадку. Самолет сядет, и это будет для мамы знаком (мама всегда была болезненно суеверна). Словом, он надеялся на чудо, благодаря которому они вернутся, а с ними вернется и прежняя жизнь.
Теперь же папа смотрел на меня, как будто хотел спросить: «А что, Лосяк насовсем умер, да? Оживить его никак не получится?».
После отъезда жены и дочери я стал для него единственным смыслом. А быть чьим-то единственным смыслом – тяжелый крест.
Папа возлагал на меня большие надежды. Я еще учился в школе, когда он всерьез занялся моей профориентацией. Впрочем, в неразберихе девяностых он сам не имел четкого представления о том, по какой стезе следует двинуться его отпрыску. Воображению моего родителя рисовался подтянутый клерк с портфелем и белоснежной улыбкой, приезжающий на работу в сияющий офис, где сделан «евроремонт», на собственной подержанной «иномарке». Что и говорить – тогда всем хотелось работать «в офисе», тогда профессия «менеджер» была овеяна сладким романтическим дымом и само это слово звучало для русского уха совсем иначе, нежели теперь, в эпоху расплодившихся офисных грызунов.
В дивный новый мир – «в офис» тогда можно было попасть только по знакомству. И не важно, что счастливчик с грехом пополам закончил школу. Во всяком случае, так считал мой отец. При этом он традиционно высоко ставил вузовский диплом – и это не смотря на то, что в высшем образовании тогда горько разочаровались очень многие свежевыпущенные спецы, в подавляющем большинстве работавшие не по специальности, а по прихоти рыночной конъюнктуры. Торговать на Апрашке китайской посудой, имея диплом инженера или учителя, было нормой.
Между тем главный отцовский аргумент в пользу поступления не имел ничего общего с моим профессиональным самоопределением. Бесславно закончившаяся первая чеченская убедила: кровь из носу надо поступать, причем не важно куда – главное обзавестись студенческим билетом, то есть охранной грамотой, которую можно сунуть в зубы военкоматовским охотникам за головами. Я был не против – я и сам не стремился в армию, где благополучно калечили и убивали даже в мирное время.
В идеале надо было учиться на юриста или экономиста. Этого добра тогда производили в огромном количестве, стремясь насытить ценным кадром экономику развивающегося капитализма. Высшую школу лихорадило. Все институты, даже самые занюханные, сменили вывески и превратились в университеты и академии. В сугубо технических вузах появились разнообразные гуманитарные факультеты. В стране вылупилось непомерное количество новых университетов с пышными и многообещающими вывесками. Тем временем в подземных переходах открыто торговали вузовскими дипломами. Но для «юношей, обдумывающих житье» вроде меня липовый университетский диплом никакой ценностью не обладал – интересовала лишь отсрочка от армии.
Сравнительно просто можно было поступить в Институт (то есть тогда уже Университет) культуры на библиотечный факультет. Идею подсказал Базилио, счастливый обладатель плоскостопия, который мог позволить себе роскошь несколько лет сдавать экзамены на истфак «педуна» имени Герцена. Можно было попробовать сунуться туда же, но я располагал только одной попыткой. Один единственный недобранный балл грозил отправкой туда, где могли запросто подстрелить или отрезать голову. Я махнул рукой и пошел учиться в «кулек» на библиотекаря.
Можно сказать, что учиться было легко, если не принимать во внимание то обстоятельство, что на курсе, не считая еще двух скрывающихся от армии неудачников вроде меня и одного ботаника-книголюба, были одни барышни. «Ты там как лис в курятнике!», – смеялся отец, который поначалу был заметно расстроен мои выбором alma mater, но в дальнейшем смирился, и не упускал случая похвастаться тем, что его сын – студент. Тем более, что ему – бывшему курсанту, проведшему пять лучших лет жизни в казарме, такое гендерное соотношение на факультете казалось райской роскошью. Для меня же это был тяжкий труд – постоянно находиться в центре внимания и посильно восполнять пробелы в личной жизни своих сокурсниц. В их нежных и трепетных руках я был как переходящее красное знамя – благо остальная часть мужского народонаселения факультета к женскому полу оставалась равнодушна: один посвящал свои досуги книгам, другой – наркотикам, третий – любовнику.
Я был как животное, занесенное в Красную книгу. Меня холили и оберегали, щедро кормили вареньем и сладостями иного рода. За пять лет учения мне были явлены разнообразные прелести едва ли не половины будущих библиотекарш. Не скажу, что среди них преобладали красавицы, но в среднем контингент был приличный. И все бы ничего, если бы не стремление большинства временных хозяек моего тела превратить наши взаимоотношения в нечто большее, нежели простой обмен сексуальной энергией. Каждая хотела закрепить меня за собой, за мою бренную плоть и отзывчивую душу шла нешуточная борьба, в которой я оставался пассивен и отстраненно ждал смены власти.
По выпуску из института я поначалу оказался на безбабье, чему мог только порадоваться. Тем более что жизнь начала ставить передо мной новые задачи. Требовалось найти работу. Трудиться по специальности не было никакого смысла, разумнее было сидеть на пособии по безработице.
Отец продолжал возлагать на меня большие надежды, но прежде всего, нужно было срочно решить вернувшийся на первый план вопрос с военкоматом. Как на зло, мой родитель в то время опять оказался без работы – жили мы на его военную пенсию. Денег и умения «решать вопросы» хватило лишь на то, чтобы определить меня на флот.
– Вряд ли державе нашей предстоят морские сражения. Как ни крути, а на суше служить опаснее, – успокаивал себя и нас мой незадачливый отец.
Впрочем, служить на боевых кораблях российского флота было отнюдь не безопасно. Свежа была память об утонувшем «Курске» и об атомном крейсере «Петр Великий», в железном нутре которого были заживо сварены несколько молодых матросов. Но родитель позаботился о том, чтобы служил я именно на суше, да еще недалеко от дома, а конкретно – под Ораниенбаумом. Хотя, выходить в море на учебных судах несколько раз все-таки случалось.
Еще одним аргументом в пользу определения меня в моряки служило довольно распространенное в массах обывателей заблуждение об отсутствии дедовщины на флоте. Сам я в это не верил, хотя и надеялся, что среди носителей гюйсов и бескозырок этот древний обычай соблюдается не столь прилежно, как среди сухопутных «зеленых человечков». Не знаю как у «сапог», а у нас дедовщины – вернее, «годковщины» хватало. Русские били и унижали русских. Ситуация осложнялась большим процентом «дагов», которые своих никогда не трогали, предпочитая самоутверждаться на представителях титульной нации. По одиночке они были вполне покладисты и даже дружелюбны, но стоило им оказаться среди земляков, как они менялись до неузнаваемости. В том подразделении, где появлялось хотя бы два выходца с Северного Кавказа, появлялись и проблемы – воины наотрез отказывались мыть полы, заступать в наряды по кухне и выполнять прочую «женскую работу», а главное – начинали планомерно давить сослуживцев, имевших несчастье родиться не на Кавказе. Одним из первых впечатлений службы была экзекуция над парнем из Пскова, учиненная дагами в туалете. Бедолаге не посчастливилось сказать что-то нелицеприятное по адресу сослуживца из Майкопа. Следующим вечером в часть неведомым образом проникло десятка два парней в спортивной одежде и соответствующей физической форме, которые устроили нетолерантному псковитянину Варфоломеевскую ночь. Начали с запугиваний и унижений – макали головой в «очко», заставляли на коленях признаваться в любви к горским народам, потом велели снять штаны и без вазелина сесть на горлышко пивной бутылки. Финалом действа стало дружное избиение несчастного ногами и милицейскими дубинками с последующим запихиванием швабры в задний проход полумертвой жертвы. Всё это было снято на видео и неоднократно демонстрировалось нам в целях устрашения. Куда смотрели наши офицеры, отдельный вопрос. Важнее другое – почему ничего не предприняли мы, видевшие, как дюжие черноголовые молодцы, одетые «по гражданке», волокут нашего товарища в сортир. Никто даже не попытался сообщить об этом начальству. После происшествия все чувствовали себя дерьмом – таковым и являлись. Впрочем, несколькими месяцами позже коллективный комплекс вины, равно как и комплекс неполноценности был преодолен в ходе знаменитого побоища, в котором нападающими были применены металлические дужки от кроватей, оказавшиеся страшным оружием. Правда, я в этом сражении не участвовал, будучи на излечении в госпитале, где мне вырезали аппендикс. О событии в родной части я узнал по большому количеству обмотанных кровавыми бинтами черных голов, заполнивших больничные палаты. Избитые даги подали ворох жалоб в военную прокуратуру, и несколько зачинщиков беспорядков отправились в дисбат на пять лет. Все-таки права пословица про долгое запрягание и быструю езду. Какой же русский ее не любит…









































