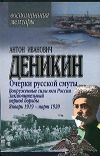Текст книги "Русские беседы: соперник «Большой русской нации»"
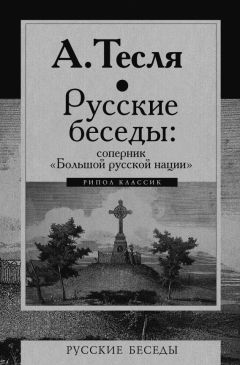
Автор книги: Андрей Тесля
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Часть 2
Украинофильство
8. Соперник «Большой русской нации»: Украинское национальное движение 2-й пол. XIX – нач. XX в.
Согласно известной схеме развития центрально-и восточноевропейских национализмов, разработанной М. Грохом, данные движения проходят три фазы: (а) академическую – период этнографических, филологических и исторических исследований, выделение и описание того субъекта/объекта, который мыслится как «нация» (уже в модерном смысле – именно за счет этого прежний объект описания наделяется характеристиками субъектности, ему, в данных границах, начинает приписываться роль действующего лица, он выступает, например, в качестве того, кому принадлежит данная история), (b) культурную (или культурническую) – период национальной агитации, когда формируются и возрастают патриотически настроенные группы, объединяемые вокруг журналов, газет, культурных и просветительских обществ и товариществ, национальных школ, когда распространяется национальное самосознание в массах (а его носителем становится новая, национальная интеллигенция) и фаза (с), политическая – период массовых национальных движений, формирования национальных политических партий, начало «массовой мобилизации» (Hroch 1985:1990).
Но если эта схема в целом хорошо описывает многие национальные движения в данном регионе (в первую очередь чешское, с ориентацией на которое она и разрабатывалась), то применительно к украинскому материалу сразу же очевидны элементы, в нее не укладывающиеся: так, фактически первое проявление модерного украинского национализма – Кирилло-Мефодиевское товарищество (1844–1847) сразу же включает в себя политическую составляющую, демонстрируя попытку действовать одновременно в рамках всех трех выделенных Грохом фаз, а деятельность киевской «Старой громады» в 1860—1870-х гг. включает в себя две первые фазы – с попытками выхода в третью (примером чего станет деятельность М. Драгоманова и близких к нему деятелей Киевской Громады).
Причина данной специфики, на наш взгляд, в том, что украинское национальное движение формируется с первых шагов как ответ на более развитые соседние национализмы и посему реагирует на повестку, определяемую ими. Интеллектуально оно одновременно более развито и более слабо – развито постольку, поскольку работает уже с имеющимися теоретическими и практическими моделями, разработанными другими движениями, более слабо потому, что вынуждено отвечать на вопросы, которые видятся вытекающими из развития ситуации, а не из текущего локального положения вещей.
Радикализм теоретический, совмещение/наложение выделенных Грохом «фаз развития» (так, например, «политическая фаза» приходится на период, когда одновременно предстоит решать большую часть задач, определяемых «второй фазой», культурнической, – «распространение национального самосознания в массах» осуществляется «рывком», сначала после первой русской революции, в период 1906–1909 гг., а затем после Февральской революции – задачи культурнические, такие как введение украинского языка в школах, организация начального обучения на этом языке, ставятся на повестку дня практически одновременно с провозглашением национального государства IV универсалом Центральной рады), может быть понят на основе концепции, разработанной М. Малиа применительно к развитию социальных утопий в Восточной Европе (см.: Малиа, 2002, 2010). Согласно Малиа, группы, восприимчивые к такого рода идеям, находились в двойственном положении:
– во-первых, они были достаточно образованны, привилегированны в рамках существующей системы, ориентируясь на наиболее новые образцы западной мысли, они имели доступ к редким социальным и культурным благам, но,
– во-вторых, они были отчуждены от существующего режима – будучи привилегированными, они в то же время не видели для себя возможности осуществить свои представления, реализовать свои цели и задачи в рамках наличного порядка или достигнуть с ним относительного консенсуса в отношении направления и характера его модификации.
В силу последнего для них не было ограничения в виде «реальности» относительно характера принимаемых ими идей и пропагандируемых целей и ценностей. Отсюда вытекает преимущественное внимание к наиболее радикальным, теоретически революционным подходам – и не только восприимчивость к подобным теоретическим новациям извне, но и склонность их радикализировать уже в рамках собственной ситуации. В отсутствие шансов на действие в рамках существующей системы отсутствовали и мотивы, побуждающие к компромиссным вариантам, не было достаточных стимулов, дабы считаться с возможными последствиями реализации своих представлений, чтобы последние соображения стали значимыми, надлежало сначала ликвидировать существующий порядок вещей, а следовательно, данная задача становилась первостепенной, выдвигая на передний план все то, что способствовало радикализации противостояния (поскольку более умеренные позиции ничего не выигрывали по отношению к более радикальным – они в любом случае оставались по отношению к наличной власти безоговорочными врагами и тем самым попадали под двойной удар – и со стороны властей, и со стороны более радикальных групп, расценивавших их позицию как попытку сотрудничать с властью, понимаемой как «абсолютный враг»).
Аналогичный процесс радикализации можно наблюдать и в украинском национальном движении, когда, например, в ситуации 1-й пол. 1880-х годов большинство киевской «Старой громады» выступило против позиции М. Драгоманова (отстаивавшего «федералистскую» программу реформирования Российской империи), оценивая последнюю как соглашательскую, пророссийскую, и выступая с принципиально антироссийскими требованиями, исключая всякий компромисс (в том числе в языковом вопросе, на тот момент ставшем центральным, позиции по которому служили выражением общих политических установок, прямо не называемых по условиям места и времени). Поскольку для надднепрянских деятелей «Старой громады» реальные возможности деятельности были предельно ограниченны (сводясь по преимуществу к поддержанию самого факта существования «Громады»[18]18
См. характерные разговоры в одесской и киевской громадах 1880-х годов, передаваемые в воспоминаниях Е. Чикаленко: «некоторые участники прямо отстаивали самоценность существования „Громады“ вне зависимости от того, осуществляет она какую-либо деятельность или нет – т. е. она выступала в данном случае как „спящий институт“» (Чикаленко, 1955: 78, 289–299 и др.).
[Закрыть] и к работе над словарем), то для них – в отличие от Драгоманова, включенного, с одной стороны, в российский общеимперский политический процесс, тесно связанного с земским либеральным движением 1870—80-х годов, а с другой – с галицийской политикой и потому ориентированного на возможность конкретного политического действия, в последнем не было нужды. Текущее политическое бессилие и отсутствие реальных перспектив стимулировало радикализм политических желаний, не сдерживаемых вопросами практического осуществления, одновременно порождая надежду на некую «иную» силу, способную выступить тем, кто реализует желания данной группы (отсюда известные надежды на Бисмарка или на новый курс венского правительства и т. п., попытки достигнуть соглашения с польскими политическими группами в конце 1880-х – начале 1890-х).
В истории украинского национализма XIX – начала XX в. мы постоянно наблюдаем контраст между весьма ограниченными конкретными действиями, текущей программой – и постулируемыми общими целями и задачами. Если на практическом уровне, например, для 1880-х годов существенным достижением будет организация концерта с украинскими народными песнями, то стремлением здесь будет радикальное изменение всей политической карты Восточной и Центральной Европы. Если численность самых крупных групп едва достигает пары-тройки сотен человек (включая сочувствующих), то идеологической перспективой являются массовые движения (в ситуации, когда в надднепрянской Украине отсутствуют даже легальные анализы чешских, сербских и т. п. «матиц»).
Подобный контраст, в числе прочего, порождал и двойственность реакции имперских властей: для одних украинские националистические группы оценивались как угроза реальная и ближайшая, требующая последовательных и жестких репрессивных мер как ответа на радикальные цели, которые эти группы ставили, и неприемлемости их «чаяний» для существующей власти, для иных эти группы выступали как малочисленные кружки и объединения, радикализм которых связан с их положением в данный момент – и каковые могут быть использованы в рамках имперской политики, с ними возможен компромисс, причем не только тактический, но и стратегический (условия для которого создадут возможности для культурной работы, например побуждая к отказу от нереализуемых целей), при этом компромисс выстраиваем на основе наличия общего противника:
– для российской ситуации таковым будет выступать в глазах центральных властей польское национальное движение, угроза которого оставалась постоянным фактором (несмотря на существенное ослабление этого движения в период 1865—1880-х годов),
– для австрийской ситуации, соответственно, общим противником оказывается Российская империя (и политика «русификации»), против которой возможно долгосрочное объединение либо трех сторон (центральной власти, польских политических групп и украинских), либо двух (центральной власти и украинских политических групп), при этом в любом случае центральная власть выступает в качестве арбитра и защитника, ограничивая польские притязания в Галиции (или же, в ситуации 1867–1890 годов, когда Вена рассматривает поляков в качестве «третьего», «младшего» партнера в системе имперского управления, центральное правительство – тот участник существующей комбинации, позиция которого может быть переопределена благоприятным для украинских групп образом).
Выход за пределы оптики противостояния демонстрирует, например, что для галицийской ситуации с конца 1840-х до 1890-х годов характерно наличие широкого спектра украинских националистических движений, от «москвофильства» до «народничества» и оформляющихся к концу этого периода в самостоятельное политическое направление «радикалов», где для первых ориентация на Российскую империю отнюдь не означает принятия идеи «общерусской» нации (по крайней мере в том смысле, который подразумевается сторонниками взглядов М.Н. Каткова или приверженцев позиции поздних славянофилов, представленной аксаковскими изданиями). Для «москвофилов» определяющим фактором их позиции будет позиция в рамках восточно-галицийской политики, где отсылка к «общерусской» идентичности – способ «укрупнения» себя в противостоянии польскому политическому преобладанию (и приобретение веса в глазах местного населения – примечательно, что авторитет одновременно утверждался и через апелляцию к «Руси», выступающей довольно неопределенным понятием, конкретизация которого не входила в планы апеллирующих, и к чему их, напротив, стремились принудить оппоненты, дабы использовать это как аргумент в политической борьбе, в «сепаратистских планах», стремлении к отделению от Австрийской империи, и через апелляцию к «Вене», австрийскому императору – как политическому защитнику от польского преобладания, когда обвинение в «сепаратизме» адресовалось именно галицийским полякам). Аналогично для «народовцев» противостояние «москвофильству» будет выступать способом добиться содействия имперского центра – в идеале осуществить разделение Галиции на две коронные земли, Восточную и Западную, демонстрируя свою лояльность и принципиальный характер противоречий с «общерусским национальным проектом» в условиях ухудшающихся отношений двух империй с конца 1870-х. Но вплоть до 1890-х годов национализм «народовцев» будет ориентирован преимущественно против польского преобладания в Галиции, практически не имея выходов за пределы австрийского политикума.
Галицийская идентичность в 1840—1890-е находится на распутье между несколькими вариантами, получающими эпизодическое преобладание, но до последних лет XIX в. не исключающих остальные: это «общерусская», «украинская/руськая» и «русинская» (которую центральные австрийские власти предпримут попытку трансформировать в территориальную, «галицийскую») идентичностные модели. Последняя из них, впрочем, довольно быстро уходит на второй план (чтобы получить относительное возрождение уже на рубеже XX–XXI вв.: яркий представитель этого направления в настоящее время – П. Магочий), поскольку галицийская ситуация определяется противостоянием (и поиском компромисса) с польскими течениями, а символический капитал «русинства» недостаточен в этом противостоянии. Апелляция к некой большей общности, стоящей за местными группами («украинской» или «русской»), позволяет придать этим группам вес, превосходящий их ситуативное влияние: они выступают уже репрезентантами некоего иного целого, обладающего ресурсами, намного превосходящими те, которые имеются в распоряжении галицийских русинов, и тем самым не давая возможности замкнуть «решение вопроса» в пределы границ провинции (делая любое локальное решение – не окончательным).
Исходная – и сохраняющаяся вплоть до середины XX в. – ситуация, в которой находятся украинские национальные группы и движения, – это ситуация между Польшей и Москвой, между двумя общностями, имеющими и гораздо больший, в сравнении с украинским, политический (а также социальный, экономический, культурный) ресурс – и гораздо более сформированные национальные движения. Украинский национализм изначально оказывается в ситуации ответа на «двойной вызов» и испытывает двойное влияние, поскольку соседствующие национализмы естественным образом конкурируют и «зеркалят» друг друга, так как соперничают в борьбе за одни и те же территории, одни те же этнические общности, где «этническое» положение надлежит переопределить как то или иное национальное.
При этом, в отличие от сложившейся существенно позднее модели описания, основным антагонистом для возникающего украинского национального движения оказывается польское. Собственно, толчком для формирования модерного украинского национализма стало польское восстание 1830–1831 гг.[19]19
Детальное описание событий этих лет с точки зрения польского исторического гранд-нарратива см.: Sokolnicki, 2014 [1919].
[Закрыть], которое в свою очередь продемонстрировало переход от прежних, раннемодерных категорий («нация» в смысле представительства, где «нация» и «шляхта» тяготеют к совпадению) к отождествлению «нации» и «народа», ставя задачу претворить «народ» в «нацию»[20]20
См. классическую работу 1960 г.: Кедури, 2010.
[Закрыть]. Для малороссийских интеллектуалов (используем это анахронистичное понятие за неимением лучшего для обозначения той общности, которая включает образованных священников, преподавателей училищ и гимназий, студентов университетов и коллегиумов, слушателей семинарий и духовных академий и т. п.) это стало вызовом^ первоначально стимулирующим имперскую лояльность (описываемую недифференцированно как «российскую» и «русскую»)[21]21
Показательны, напр., письма отцу этого времени Осипа Боядянского, учившегося в Харьковской семинарии: Василенко, 1904.
[Закрыть] – при одновременном внимании к локальной идентичности, к «малороссийству», что не входило в противоречие с существующим имперским каноном. Показательно, что именно в этот период (уже с начала 1820-х годов, по мере того как «польская угроза» начинала восприниматься в качестве все более реальной) под покровительством (или даже по инициативе) как местных, так и центральных властей предпринимаются значительные работы по изучению истории Малороссии (альтернативные версии будут представлены в работах Д.Н. Бантыш-Каменского, инициированных генерал-губернатором Репниным (см.: Дорошенко, 1929), и появившейся в ответ в 1842–1843 гг. «Истории Малороссии» Н.А. Маркевича).
Центрами формирования протонациональной повестки стали земли бывшего Гетманата и Слободской Украины – при существенном отличии в ориентации, поскольку кружкщ существовавшие в Гетманате, были обращены преимущественно на традиции казацкой старшины (существенным ударом для которых стала ликвидация казачества после Наполеоновских войн и отказ от планов восстановления казачества в Гетманате, заявленных после начала Польского восстания 1830 г.). Так, из этих кругов вышел текст «Истории русов», оказавшийся одним из главных текстов украинского национализма, однако сама «История» была порождена взглядами, качественно от него отличными: ее автором/авторами были представители мнений и убеждений стародубской казацкой старшины (см.: Plokhyj 2012) – той группы, которая тяжело переживала утрату прежних привилегий, отмену Гетманата и постепенную ликвидацию казацких полков. Они были лояльны империи – и стремились к сохранению (а на тот момент уже скорее к восстановлению) своего прежнего, особого положения: привилегий и одновременного включения в имперскую элиту. Отсюда специфическая двойственность текста: представление Богдана Хмельницкого идеальным героем и создание «гдячского» мифа, когда договор, подписанный в 1658 г. преемником Хмельницкого с Польшей (фактически аннулировавший соглашение, достигнутое после Переяславской), оценивается как достижение «идеального» состояния (в том числе за счет прямого искажения условий соглашения, достигнутого в Гдяче), или другой пример – осуждаемый авторскими ремарками в тексте, Мазепа через вкладываемую в его уста речь обрисовывается явно положительно – именно в случае с Мазепой текст как бы «двоится», достигая вновь единства в образе гетмана Полуботки. Последний сюжет лучше всего выражает позицию создателя/создателей «Истории»: Полуботок, защитник прав Гетманата, везущий петицию с протестом против ликвидации поста гетмана и заведенной Малороссийской коллегии, куда были посажены одни «москали», героически защищает права своей «нации» против деспотизма, оказываясь правым перед судом истории в своем столкновении с Петром, которого текст вынуждает незадолго до смерти Полуботка признать его моральное торжество – здесь автор говорит уже языком романтического национализма, только «нация», о которой идет речь, – это двоящийся феномен: «нация» в смысле политического представительства («козацкая нация», куда не входят те же крестьяне) – и «нация», расширившаяся до всего «народа». Текст, отстаивающий старшинские привилегии и права Гетманата, апеллирующий именно к правам в качестве «русских» и входящих в общее имперское целое, обладающих привилегиями именно в качестве таковых (и отстаивающих их от того, что оценивают как нарушение, используя язык нарушения прав, порушенной справедливости), одновременно использует систему новых понятий и символов, уже связанных с модерным национализмом. Эта особенность и обеспечит тексту уникально долгую идеологическую жизнь, позволяя прочитывать его как пафосное изложение истории «украинского народа/ нации», отождествляя «украинскую нацию» с «козаками», от лица которых как политико-правовой общности повествует «История».
В Слободской Украине центром формирования протонационального движения станет Харьковский университет, где начнут складываться первые группы, переносящие на местную почву мотивы романтического национализма (как через непосредственное воздействие немецких интеллектуальных течений, так и через связи с московскими и петербургскими кружками – важной фигурой здесь будет Срезневский, с его увлечением фольклором и стремлением – даже путем фальсификаций – выработать достаточный ресурс «местных преданий», сопоставимый с иностранными).
Кирилло-Мефодиевское товарищество, первое собственно националистическое объединение, замечательным образом демонстрирует соединение отмеченных и ряда других тенденций. С одной стороны, в его состав входят лица, связанные с предшествующими группами: так, Шевченко очень близок кругу кн. Репнина, дочь князя будет его покровительницей, защитницей и платонической возлюбленной, Костомаров – выпускник Харьковского университета, где испытал воздействие Срезневского и др. фольклористов (это влияние отразит тема его диссертационного сочинения: «Об историческом значении русской народной поэзии»), важнейшим идеологическим текстом, чье влияние испытали все участники товарищества, выступит «История русов», а написанный Костомаровым руководящий текст самого товарищества («Закон Божий (Книга бытия украинского народа)») будет включать в себя не только многочисленные отсылки к А. Мицкевичу, но и прямые текстуальные заимствования. Идеалом здесь оказывается «славянская федерация», раскрытие содержания которой непосредственно отсылает к польской мысли 1830—1840-х годов – с одновременным противостоянием «новой Речи Посполитой», поскольку чаемое разрушение Австрийской и Российской империй, как препятствия федерации славянских народов, не мыслится достаточным условием – образ «II Речи Посполитой» здесь предстает уже не как мечта, а как угроза.
Аналогичную позицию будет воспроизводить Костомаров и в начале 1860-х годов, например в известном письме к А. Герцену 1860 г. (опубликованном последним в «Колоколе», текст получит принципиальное значение и в дальнейшем будет переиздан М. Драгомановым, сопроводившим его своим предисловием: [Костомаров]: 1885 [1860]) или в обращении к И. Аксакову (1860–1861 гг., первое письмо Костомарова не сохранилось, но логика его реконструируема по последующему обмену посланиями[22]22
Впервые опубликовано: [Аксаков], 1896, 1906: 537– 548
[Закрыть]) – «Украина», «украинцы» – это «третий», игнорируемый в русско-польском конфликте (равно как и в русско-польских попытках взаимодействия). Задача, стоящая здесь перед Костомаровым и его единомышленниками, – утвердить наличие самого субъекта/объекта, усложнить существующую схему демонстрируя наличие иного «народа». При этом Костомаров фиксирует и центральную проблему которая станет базовым пунктом обсуждения и осмысления вплоть до первых десятилетий XX в., – данный народ является, как это будет сформулировано позднее, уже в начале 1870-х, «неполным» (в смысле социального состава), у него отсутствуют свои высшие социальные слои. Из этого будет вырастать и два ключевых варианта украинского национального движения:
(1) использование существующей социальной базы, принятие ее как данности, в условиях «неполноты» социального состава – подобного рода варианты украинского национализма ориентируются на славянофильскую и/или народническую идеологию, осмысляя украинскую нацию как специфически «крестьянскую» и полагая это в основание национального своеобразия и в локальные варианты историософских построений, где крестьянская организация («громада», противопоставляемая (велико)русской «общине» в качестве свободной, артельной организации, с превалированием индивидуального начала, способного к самоограничению ради общего дела) мыслится как основание будущего совершенного социального социалистического устройства,
(2) или же стремление «восполнить» недостающие элементы социальной организации – через формирование украинской идентичности у групп, которые на данный момент уже обладают иной, отличной от украинской, идентичностью (в отличие от сельской массы, не обладающей на данный момент никакой национальной идентичностью, которую еще надлежит у нее сформировать – на смену локальной и религиозной идентичности).
Первый вариант окажется исторически наиболее влиятельным, позволив совершить объединение в рамках «большой Украины» надднепрянских, галицийских и др. движений и обусловив важнейшие аспекты идеологии, из которых выделим два:
– во-первых, это преобладание «левых» настроений в украинском национализме,
– во-вторых, тяготение к этнонационализму.
При внешнем парадоксализме (как правило, «левые движения» мыслятся как противостоящие этно-национальным, которые на привычной шкале политических направлений определяются преимущественно в качестве «правых») ситуация украинского национального движения делала эту комбинацию наиболее распространенной (и вызывала в кризисные моменты тяготение к этнонациональному и у тех групп, что в стабильной ситуации дистанцировались от данных форм национализма или, по крайней мере, не акцентировали их), поскольку позволяла (а) отграничить через этнографическое (путем отождествления этнического и национального) «украинскую» общность от польского национального проекта (в особенности в варианте, отстаиваемом ППС[23]23
Polska partia socjalistyczna.
[Закрыть], где «польскость» мыслилась не как этническое, а как гражданское, политическое, т. е. включение в политическую общность «Речи Посполитой», с введением таких конструкций, как «поляк украинской культуры», «поляк украинского происхождения») и одновременно (б) мобилизовать массы, на тот момент малочувствительные к национальным лозунгам, но весьма восприимчивые к социальным (Чорновол, 1999). В данном случае из достаточно ранних проявлений показательна позиция Вл. Антоновича, который (в известной «Исповеди», опубликованной в журнале «Основа» в 1861 г.) объясняет свой выбор украинской идентичности, принадлежа и по происхождению, и по культуре к полякам: для него данное решение будет реализацией своего долга перед народом, который там, где его родина (Надднепрянская Украина), украинский, следовательно, дабы служить народу, ему надлежит стать украинцем (отбросив прежнее «хлопоманство» и став «украйнофилом»), однако уже на следующей стадии (например, в его университетских лекциях по антропологии, читанных в 1880-е годы) украинство этнизируется и биологизируется, данная общность становится «реальной» и осуществляется последовательное биологическое разграничение ее с «(велико)русским» и «польским» племенем. Здесь перед нами своеобразный частный случай модели Домбровского (исключавшего из числа славян «московитов», относя их к финно-угорским племенам с соответствующим ценностным осмыслением этой классификации), но если для Домбровского биологическое отграничение «московитов» от «славянского племени» позволяло «этнизировать» Речь Посполитую, представляя входящие в нее группы как части одного «племени», то Антонович осуществляет соответствующее двойное отграничение – и от «великорусов», и от «поляков», в связи с чем для него исчезает необходимость исключать из состава «славянского племени» «великоруссов», но актуализируется необходимость дистанцировать «украинцев» равным образом от двух соседствующих этнических групп.
Второй вариант получит значимое (выходящее за пределы частных мнений) выражение с начала XX в., по мере того как прежние репрессивные меры против украинского национального движения будут ослабевать, группы, входящие в последнее, будут добиваться относительной представленности в публичном пространстве Российской и Австро-Венгерской империй (Чорновол, 2000, Lazuga, 2013). В связи с этим все большее значение будут приобретать и вопросы политического действия, и одновременно – проблемы этнической неоднородности населения территорий, которые входили в разные варианты украинского национального проекта. До тех пор, пока национальные притязания оставались уделом небольших групп и существовали на уровне скорее поэтических чаяний и/или проявлений ресентимента, наличие «чужаков», групп, исключаемых из воображаемого сообщества украинской нации, играло скорее мобилизующую роль, по мере возрастания же украинского национального движения наличие большого числа исключенных групп начинало представлять существенное политическое затруднение (в особенности в тех случаях, когда данные группы обладали значительным влиянием, как в случае с польскими или русскими, например, землевладельцами). Аналогичным образом и для тех, кто был членами «исключенных» групп, вставал вопрос о своем статусе в возникающей новой реальности и о возможности поместить себя в новый, все более «национализирующийся» контекст. Зеркальным отображением польского варианта становится позиция, формулируемая в 1910-х – начале 1920-х годов Вяч. Липинским, определяющим себя как «украинца польской культуры»: вопреки модели Антоновича, предполагающей отречение от собственной культуры, «слияние с народом», Липинский и следующее за ним движение отказывается от отождествления будущей «нации» с существующим «народом» (т. е. некой этнически дифференцируемой от окружающих массой) и переводит украинский национальный проект в политическую плоскость, т. е. формирования «украинства» как «политической общности», а не этнической (Лисяк-Рудницький, 1994: 134–136). «Нация» для Липинского представала как создаваемое политическое сообщество, производное от государственного проекта, способного объединить разные слои общества и выработать форму совместного существования достаточно привлекательную (и ценную и ценимую – чтобы ее охранять) для всех них, «нация» в логике национальных проектов XIX в. представала как способ нахождения «общего языка», возможности «общего действия» разных слоев общества, «украинизация» элит была инструментом создания этой общности, иными словами, политическое целое, включающее в качестве своих участников ранее отстраненные от власти слои (крестьянство), вырабатывало общую культуру, основной для которой становилась культура этнического большинства, однако нациеобразующей выступала не «этничность», а (со)участие в одном политическом целом: «Только тогда, когда государственники украинские всех местных классов и всех местных наций победят агентов, которых метрополии имеют на Украине тоже во всех местных классах и всех местных наций (также и „нации украинской"!)? – сможет возродиться украинское государство. И только в украинском государстве – только в процессе совместного существования жителей Украины на отмежёванной государственной территории – сможет сотвориться из них Украинская Нация. Так, например, как возникает на наших глазах Американская Нация из процесса сожительства разных наций и разных классов на территории Соединенных Штатов (Держав). От своей метрополии отделились эти Государства не под лозунгом националистичным („бей Англичан“) и не под лозунгом социалистическим („бей господ и буржуев“), а под лозунгом политическим: создаем все жители Америки – каких бы мы ни были наций и классов – свое собственное Американское государство» (Липинський, 1926: XVI).
Колониальное положение объясняет, в числе прочих, на взгляд Липинского, и положение украинской интеллигенции: «Как всякая демократия в колониальном крае, где общественное устройство и порядок опираются на чужой метропольный государственный аппарат, так и демократия украинская, собственно благодаря своему украинству и благодаря российскому государственному аппарату, была совсем избавлена от необходимости думать о том, какими силами в реальной жизни нации строится и поддерживается этот порядок и устройство» (Липинський, 1926: 473) – она могла позволить себе быть «безгосударственной», поскольку издержки государственности несли на себе другие, она оказывалась избавлена от необходимости принимать в расчет потребности государственного существования, имея возможность действовать не против данного государственного устройства или данного порядка вещей, но порядка как такового. «Украинство» здесь оказывалось выбором индивидуальным и потому оказывалось позицией, по умолчанию относящей издержки государственности на «чужой счет»: парадоксальным образом, отмечает Липинский, именно те, кто говорили о «национальном сознании», менее всего стремились к созданию самостоятельного государства.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?