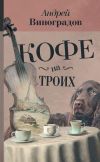Текст книги "Наследник"

Автор книги: Андрей Виноградов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Жду не дождусь, когда можно будет проложить тропу по свежей зелени. Бабки будут ворчать вслед: «Ну ты глянь, чего удумал-то! Мало ему, бесу, асфальта – газон ему подавай». Прикрикнут, осмелев на расстоянии: «Вот щас участкового кликнем!»
У полицейского на нашем участке дюжина магазинов, пиццерия, две пирожковые и пять борделей в квартирах. Оттуда кликнут вспомоществование отработать, а ему наплевать. Не пойдет он. Даже на звонок отвечать не станет. Не до коммерсантов участковому. Он мною занят и моим хождением по дикой, неухоженной траве. Потому что бабки приплачивают ему от щедрот на безбедную жизнь со своих немереных пенсий. Он ценит. С борделей столько не срубишь. Некуда старухам девать деньжищи после индексаций, вот и транжирят почем зря. Цирк.
В общем, буду бродить по газону возле дома совершенно бесстрашно. Думы мои при этом будут обращены исключительно к матушке-земле. Надеюсь, что пользу ей принесу: там, где хоть что-то растет, всегда чешется, по себе знаю. Вот и почешу землю. Ведь по асфальту бродить – как расческой по лысине.
И на бабок обижаться не стану. Но если придется в переговоры вступить, то займу позицию вдалеке, близко не подойду. Злокозненная старость мне неприятна и кажется заразной. Старостью с определенных лет вообще легко заразиться. Я знаю такие случаи. Я наблюдателен. А вот вируса молодости не существует, молодость можно только сохранять. Выходит, старость – это не что иное, как заболевание. Возможно, хроническое и точно неизлечимое. Молодость же – продукт. Скоропортящийся продукт. Потому что вечная молодость – такая же хроника.
«Это у нас такой позитив».
«Типа… А если по-взрослому, то старость – это когда ты наконец понимаешь, куда надо идти, но знаешь, что уже не дойдешь».
«Да-а… Кстати, пока не вылетело из головы… Никогда не надо бороться с возрастом. Борьба означает, что так или иначе, но кто-то кого-то должен одолеть. И мы прекрасно сознаем – кто кого. Надо научиться жить с возрастом в мире, тогда он расслабится и перестанет так сильно напирать. И тебе не придется тратить лишние силы. Это на будущее, на вырост».
«Обожаю это твое “на вырост”. Ничего конкретного не напоминает, но настроение…»
«Память, Ванечка, лучше тренировать, чем регулярно подвергать спиртовым экзекуциям».
«Как тебе это удается?»
«Что ты имеешь в виду, не спрашиваю. Просто смирись, удается – и всё».
«Может, поучишь?»
«Для этого тебе надо стать матерью».
«Тогда точно проехали».
«Вот и я о том же».
Наконец-то я там, куда шел. Ради этого похода и в надежде на то, что план мой осуществится, я взял отпуск за свой счет. Правда, таким же образом – за свой счет – мне пришлось отслужить три последние месяца. То есть без вознаграждения и, сдается, без особой надежды на таковое. Контора, похоже, накрывается медным тазом. Не исключено, что все худшее уже состоялось и «таз» отыграл короткое шумное соло в момент падения. Теперь он, перевернутый, зеркально поблескивает донышком, отражая хитроумные выдумки просвещенных банкротов и ослепляя алчных и склочных кредиторов. С другой стороны, «шефиня» вроде бы на месте, кадровичка с бухгалтершей тоже. А значит, в заявлении должно быть указано все чин по чину: «за свой счет». Я так и написал. Меня, признаться, не покидало чувство, будто все вышепоименованные ждут от меня незначительного, в соответствии с должностью, скандала. И, как итог, заключение мира путем подписания заявления «по собственному». Созидательности от меня ждали. Но я прикинулся нечувствительным к чужим трудностям и надеждам. Ждал, что напрямую, «в лоб» подскажут. Я бы прислушался. Легко. Тоже мне, «звездная» карьера – стажёр занюханного издательства, радующего мир дюжиной отраслевых газет и журналов. Сумасшедшая перспектива – пересесть на табуретку младшего корреспондента, если случится чудо и большое начальство откроет дополнительную ставку. Или в случае, если нынешний «младший» досрочно состарится. И все эти годы терпеть, терпеть, терпеть несносную редактрису.
– Иван, вам, как всегда, самое вкусненькое. Цените отношение. Китаёзы у нас лес тащат. Написать надо аккуратно, страничку, не больше. И без наезда. Премьер в Китай с визитом собирается.
– Тащите – молодцы, но зарываться не надо. Так сойдет?
– Знаете что, Иван, скажу вам как профессионал профессионалу…
– Хочу вас спросить…
– Спрашивайте.
– Киса, я хочу вас спросить как художник художника…
– Знаете, Иван, зазнайство и заумность вам не идут. Идите трудиться. И я вам не киса. Не знаю, как и назвать такое.
– Назовите вольностью.
Как профессионал профессионалу… Это она мне. Не так. Это она мне! Завод стеклотары, прилавок продуктового… Даже поздние роды эта женщина называет просроченными. Как оказалась в бизнесе? Говорят, муж помог. Кто у нас муж? Хрен его знает, но раз способен помочь – важный хрен. Или знаком с важными… хренами. Смешно. И грустно. Потому что смешно и грустно получать задания от бессмысленной расфуфыренной бабы. И смешную зарплату получать тоже грустно. А вовсе лишиться ее – гнусно.
Глава 2. Пал Палыч и прочие разные
Я уже на месте. Всё как задумано – тик в тик, если верить часам в больничном коридоре. Часы в больницах особенные: для одних слишком медленные, кому-то – вскачь. Они всё про себя знают. И про всех тоже. Тем, кто им симпатичен, – подыгрывают, а некоторым намеренно портят жизнь. Особенно если «некоторые» жизнь не ценят.
Меня ждут. Это вне всяких сомнений – дверь к заведующему отделением приоткрыта. Или ждут не меня? Но ведь дверь приоткрыта навстречу именно мне. Никто не торопится просочиться в щель первым. Никто не возмущается в спину: «Гражданин, здесь живая очередь». Очередь и не может быть другой. А изгородь может. Что это я менжуюсь? Образ разносился? Великоват? Нет, не похоже, впору образ. Соберись. Сейчас время главного действия.
– Могу? – замираю на пороге кабинета, который может принадлежать хозяину небольшой фирмы. Мог бы, кабы не пугающие яркими красками картинки, демонстрирующие устройство человеческого тела и всевозможные поломки в этом устройстве.
– Заходите. Именно вас и жду.
Признал. Помнит. Главное действие должно начаться с самых важных слов. Я знаю, что они у доктора наготове.
– Нусс…
«Мусс, пусс, эпл джус… Эскулап, бросьте растрачиваться на звуки. Говорите прямо. Всё как есть».
– Говорите, доктор, говорите сразу всё как есть. Не томите. Молю.
И всё. Он говорит, как я прошу. Страшные слова сказаны. Вот так они их говорят – коротко, ясно, чётко. Никаких сюсюканий. Теперь всё в моей жизни станет иным, всё будет иначе. Вопрос – как надолго?
«Или – как набыстро?»
«Или как набыстро».
«И эпитафия: “Не очень смешно вышло. Скорее дураковато…”»
«Забавно».
«Дарю».
«Спасибо, мама».
Первое, что я ощущаю, выслушав грозный диагноз? Болезненное обострение слуха. Такого не ожидал. Я об обострении. А к чему-то был готов? Ну не знаю… К тому, что вспотею, что пульс вприпрыжку…
Какая-то неугомонная бестия бьётся в оконное стекло. Изнутри стремится наружу. Наверное, она полагает наивно, что снаружи, при минусе, ей станет лучше. И горячится. А там раз – и остынет. Еще звуки. Утяжеленные подклеенными газетами и давным-давно пересохшим клеем от стен отстают обои. Они потрескивают, как мошки в фонарях-ловушках. В геноциде мелкого летучего мира такие фонари настоящее торжество человеческой мысли. Человека – карателя. А что, если фамилия изобретателя – Мухин? И все его творчество лишь завуалированная склонность к суициду? Я вижу, как он, раздевшийся догола, отчаявшийся вспомнить, какая нога толчковая? – бросается на манящую ярко-голубым стену в надежде, что сейчас и его… Но это экран в караоке, а раздавшийся треск – нестройные аплодисменты. Нестройные и жиденькие. Такого в баре еще не видели, вот и растерялись. Вот теперь – настоящий «аплаус», взрослый. Пришли в себя, оценили. По достоинству оценили. Достоинство распаленного Мухина в самом деле заслуживает любых похвал. Ха-ха…
Да пошел ты, Мухин-не-мухин! Не до тебя сейчас! Тебе еще порушенную технику заведению возмещать, бармену платить за пережитый приступ неполноценности, полиции за все остальное всем что осталось… Тут обои, черт бы их побрал, трещат как оглашенные! Словно щепу в ушах ломают. Главное, чтобы не костер затевался.
Всё же обои в больнице – роскошь. Я бы отнес ее к непозволительной. Даже в кабинете заведующего отделением. Кого вдруг такая блажь посетила? Скорее всего, директор обойной фабрики лечился, вот и облагодетельствовал. Жив ли? Или отвалился, как его дары, от мира живых с тихим потрескиванием домочадцам про то, где что лежит, кому позвонить и кого не звать на поминки? Настоящий мужчина завсегда найдет способ жене наперед подгадить. Наверняка, в отказники попал самый обаятельный сослуживец. Возможно, разведенный или вдовец. Если, конечно, вступающая во вдовство мадам собой недурна. А если нет в ней привлекательности, то в доме откажут толстому весельчаку. Чтобы не балагурил, не тот повод. Кстати, правильно: так людям труднее скрывать радость от того, что свалил, наконец, этот жадный зануда. Ну надо же, его тут спасли, а он такую дешевку на стены!
Однажды обои опадут окончательно, как груди кормилицы, и выкрасит нетрезвый маляр здешнее обиталище докторов жирной, масляной, непременно плохо сохнущей жижей. Неважно, какого цвета. Вру, цвет важен. Цвет будет голубым. Потому что салатный – для пищеблоков, зеленый колер – для нужников, а охра… Охра – это по большому блату. Другими красками настоящие, завзятые маляры не работают. От белой их еще больше пьянит. Красная? С ней ничего мешать никак нельзя – вырвет. Хоть какого начальника по краскам заполучит лечебное заведение, все одно – выбирать придется из салатного, зеленого, голубого и, если повезет, охры.
Все же странно, это в старые времена с краской были проблемы, как и со всем прочим, бесконечен список былых дефицитов. Нынче, я уверен, в этой больнице пяток палат оккупирована публикой, для кого ремонт в отдельно взятом кабинете – сущий пустяк, безделица. За мифический шанс что хочешь устроят, да хоть англицкий клуб. А стены – вот они. Трещат. Но однажды… Однажды выкрасят тут все в голубое и я непременно прислонюсь к сырой, непросохшей стене. Спиной. Перед этим дюжину раз пробубню под нос с лету заученное предупреждение, наклеенное на дверь: «Осторожно, стены окрашены!». Потом отчего-то подумаю, что все давно высохло, просто забыли бумажку снять, потому что везде бардак. И запах краски меня не смутит, запах краски годами выветривается. Я однажды гаишникам то же самое про армянский коньяк говорил, но они не поверили. А я верю. И прислонюсь. Карма такая. Голубое пятно на джинсовой ткани худо-бедно можно перетерпеть – приветствую тебя, мотив цветовых предпочтений! – а салатного, тем более зеленого, у меня ничего нет. Разве что представления о мироздании. В смысле, не созревшие. Вот только что упало не вызревшее… из мозга. Из мозга на ум… А он занят. Чем? Тем, что вроде бы и есть я, а уже почти что и нет. Так доктор сказал. Прямо. Без обиняков. Как я просил. Выходит, что кому-то другому предстоит вывозиться в голубой масляной. Нет, не бывать этому!
Вот дрянь, обои… Держаться, я сказал!
Не думаю, что произнес хотя бы одно слово вслух, даже непреднамеренно, однако услышал в ответ:
«Поразительная глупость. Вот балда-то!»
Кто мог такое обо мне сказать? А то я не знаю. Хотя, в принципе, кто угодно мог, вокруг много умников. Обижаться смешно, глупо даже. Зачем подчеркивать нелепой обидой верность нелестной оценки? Следует по-сыновьи покорно принять пилюлю и согласиться: балда, балда и есть. Столько времени тянуть с походом в больницу! При том, что сердце-вещун ни на день не умолкало, хотя могло бы на денек и умолкнуть… Вот потеха… А я трусил, как последнее труслó. От страха, между прочим, мы все и мрем. А думаем, что от удали и бесшабашности. С другой стороны, про удаль и бесшабашность думать приятнее. «Балда, об удали…» Про бесшабашность у меня так не выходит, потому что большое слово. Большое, длинное, шире удали. Зато трусостью себя устыдил. По-моему, все очень натурально, что и следует отразить на лице – настоящие переживания: желваки, в глазах потерянность… И весь я потерянный, собой за неоправданную робость избичеванный… «А про “сердце-вещун” смешно вышло».
«Не надоело?»
«Нет пока. И вообще, мы же договаривались».
«Ну-ну, дерзай. На себя пеняй, если что».
«Если что?»
«Звонок другу? Помощь зала? Отказано».
«Значит, ничего страшного не предвидится».
«Поражаюсь твоему легкомыслию».
«Нет, чтобы оценить аналитический склад ума».
«Нет».
Доктор неторопливо выводит в моей характерно растрепанной и расхристанной «Истории болезни» скрипучие каракули. В моей – свои… В моей – свои…
«Сынок, тебя переклинило?»
«Ну, послушай…»
«Ладно, веселись, если это тебя веселит. Меня, например, расстраивает. И даже пугает. Твой выбор пугает».
«Мы же договорились».
«Ничего подобного. Мы не договаривались. Ты попросил».
«Пусть так. И ты пообещала».
«Кивнула».
«Пообещала кивком. У некоторых древних племен кивок был сродни клятве на крови».
«Господи… Всё, молчу, я поняла. Кивок».
«Что?»
«Ну ты же не видишь, что я киваю, вот я и ставлю тебя в известность: кивок».
«Я растроган. Моргнул. Или ты меня видишь?»
«Хм…»
* * *
В моей – свои… В моей ли? В самом деле, моя ли это «История»? Откуда в ней набралось такое количество свидетельств моих несуществующих недомоганий? Я тут второй раз. Первый визит нанес всего лишь две недели тому назад. Сдал анализы, забрал пальто в гардеробе, пожалев, что свое – выбор был богатым, – и отправился восвояси. А тут… Прямо не «История болезни», а какая-то медицинская сага о пяти поколениях хроников, изданная под одной обложкой. Сага о больных Форсайтах.
Московская сага о больных Форсайтах.
Разве что в этой больнице поселились рационализаторы и они взяли пример с кладбищенской практики. Там, насколько я осведомлен, по истечении каких-то определенных лет можно хоронить свежеотбывших с этого света в чужие могилы, пристанища староумерших. Вылежала чья-то история болезни пару десятилетий и – на тебе: наклейка на обложке с новым именем, парочка новых страниц – вклейка, – и новый владелец. Был я захудалым, никчемным пациентишкой, невзрачным, с сомнительными тремя страничками жалоб и предписаний, а тут – раз, и уже пациентище! С «Историей»! Солидно. В регистратуре поглядывают уважительно. У самого, опять же, голову не сносит от мнимого удовольствия жить здоровеньким.
«Господи, какой же ты редкий болван. Шут просто!»
«Я сейчас обижусь. Третий раз про шута за день. Или четвертый? Явный перебор».
«Ну, прости. Однако же в самом деле…»
«Прощаю, но имей в виду, что это в последний раз».
«Не зарекайся, Ванечка».
«Мамой клянусь!»
«Здоровьем?»
«Нет, всей мамой. Комплексная такая клятва. И вообще, родня без здоровья – такая обуза!»
«Красавец!»
«Есть такое».
Доктор – я проглядел на двери в кабинет фамилию, но точно не Голсуорси – явно мельчит, заполняя страничку моей саги. Историк болезни. По всему видать, обязательство принял: уложиться со всеми моими бедами на остатке последнего листа. В самом деле, не вклеивать же еще один ради жалких двух, при снисходительности небес – трех месяцев. Пусть и разнятся в корне наши данные о «снисходительности». По моим идеалистическим представлениям, минимум лет на пятьдесят.
Что навеяло это число? Не исключено, что подспудные мысли о полтиннике в баксах, который бы мне сейчас ой как не повредил. И тоскливое предвидение, что из знакомых никто в долг не даст. Нет у меня больше состоятельных и в то же время доверчивых знакомых. Эти два мира оказались успешно разделены и теперь ни при каких обстоятельствах не перемешиваются. Единственное место, где они еще худо-бедно сосуществуют, это моя потрепанная записная книжка. Чувствую, такое положение дел не только у меня, но говорить об этом не хочется. И со мной никому не хочется. Чего зря ныть-то? Иными словами, с приличными людьми вожусь. Неожиданный вывод. Однако приятный.
Короче, знакомые из списка благодетелей выпадают. Незнакомые тем более денег не дадут, с чего бы? Но у незнакомых можно попытаться вытребовать пожертвование силой. По крайней мере никто не выкрикнет в истерике узнавания: «Ванечка, ты совсем сдурел?!» Правда, полиция может крикнуть: «Стой, стрелять буду!» Хорошо, если до выстрела предупредят. А какая разница? Пусть себе стреляют. Мне по барабану. Я вообще не понимаю, зачем так долго жить – еще пятьдесят.
«Мама? Странно. Совсем на тебя не похоже. Я поражен твоей сдержанностью».
«Вот так, Ванечка. Вот так. Не только тебе предначертано удивлять».
«Какое слово классное – предначертано. Вот и лекарь что-то еще мрачнее прежнего мне сейчас предна… чертывает… Так можно сказать?»
«Так даже подумать глупо».
«Ну, он-то этого не знает».
«Конечно. Не он этот балаган затеял».
«Однако же с какой готовностью подхватил затею! И смотри, не просто подхватил, а как далеко занёс! У меня не то что зрения – фантазии оценить расстояние не хватает».
«Потерпи самую малость. Скоро он тебя просветит».
«А ты, выходит, уже всё наперед знаешь?»
«Ну не всё, Ванечка. Так заноситься мне не по чину. Знать все наперед мне не положено».
«Вот и слава богу».
«Очень точно сказал. В кои-то веки».
«Началось…»
«Нет-нет, не волнуйся, никаких нотаций. И вообще, не я первой заговорила. Сам окликнул».
Видимо, доктор сократил что-то важное, без чего доверенная бумаге мысль перестала смотреться такой же мудрой, какой виделась на выходе из головы. Однако насильственная кастрация текста сэкономила как минимум одну строчку.
«Вопреки твоему сарказму, друг мой, он бы и рад вклеить еще одну страничку, но кто-то спёр клей. А степлер – предвосхищаю твою находчивость – на прошлой неделе позаимствовали в “Общую хирургию”. Оттуда вещи, как пленных, не выдают. Надо покупать новый. Можно выкупить старый, но выйдет дороже».
«Это многое объясняет. Благодарствуем за справку. Выходит, не жлоб?»
«Не до такой степени».
Доктор глубоко вздыхает, и я отчетливо понимаю, что вздох этот адресован не мне, по его мнению – обреченному. На таких, как я, глубокие вздохи уже не тратят.
Рубеж наконец взят, доктор – «браво!» – уложился в отведенный объем. Я подумал, что его тайной фамилией, назовем ее «мальчуковой», может оказаться Убористов или Мельчилов. Блендер тоже подойдет, если не русский… Но сказать ему хочется о другом. О том, что трехдневная щетина отнюдь не роднит его с рекламными мачо. Выглядит доктор скорее неопрятно, грязновато как-то. Не весь, только лицо. О руках такого не скажу. Самое время свои руки стыдливо подсунуть под задницу.
«С чего бы? Чернозем под ногти закрался?»
«Скажешь тоже… Образ такой. Иначе расползется образ, как горстка опарышей. Или там была кучка?»
«Не понимаю».
«Вот и чудненько».
«Ага, отлуп с подмостков, попойка под Беловежскую Пущу, пьяные сны…»
«Прекрасно сказано про отлуп».
«Я без умысла».
«Надеюсь».
«Хочешь поучаствую?»
«Ты об авторе рецензии? Пожалуй… Пальцы ему на руках склей на сутки. Пусть попробует накропать что-нибудь этими ластами. Шучу».
«Понимаю, что шутишь. Пары часов ужаса ему вполне хватит».
«Мама!»
«Я знаю, что ты против всего этого. Правда, не понимаю причины упрямства, но…»
«Ну?»
«… отношусь со всем уважением. Ты это хотел услышать?»
«Тебе ведь не нужен ответ».
Вот так. Отлично. Руки под попой. Теперь следует качнуться взад-вперед, вроде как в трансе. Еще раз. Для хирурга руки важнее, чем щеки, вообще лицо. Настроение для него тоже важно, без настроения в такой профессии никак. А пол? Пол хирурга не важен, так как все одно под наркозом валяешься. Но мужчины всё равно больше внушают доверия. Женщинам, кстати, тоже. Возможно, женщинам в первую очередь. С другой стороны, приставят к тебе какого-нибудь дрища с отпечатком аудиторной скамьи на портках. Мой, что напротив, не такой, мой внушает. Правильно сделал, что промолчал про небритость.
– Доктор…
– Минуточку…
Это моя минуточка. Ну да ладно, пользуйся. Только потом без обид.
Со своего места я зачарованно смотрю на завершенную во всех смыслах «Историю болезни» и вижу филигрань нечитаемых слов. Они напоминают след раненого муравья голубых кровей. Мне всегда почему-то казалось, что исполненные трагизма медицинские строки должны заполняться фиолетовыми чернилами. Голубые, на мой вкус, излишне легковесны для таких случаев. Голубые – для ОРЗ. Скорее всего, в фильме каком обратил внимание на пустяк – пустяки это мое, – вот и врезалось в память, насколько весомее всех других фиолетовые письмена. Даже черные выглядят слишком примитивно. Черные – для босяков: если такими чернилами от неумения вымазать руки, то следы затеряются среди грязи.
Врезалась в память эта ерунда про чернила, теперь торчит. Тем, что не поместилось. Наверняка отечественным был фильм, раз такие важные детали запали.
Впрочем, времена меняются, с ними изменяется мода на цвет чернил. Вот у судейских, наверное, тоже имеются свои, особенные предпочтения. В этом случае «модный приговор» – это о них. С другой стороны, двадцать первый век за окном. Правда, в районе, где я сейчас, нумерация века – всего лишь порядковый номер, цифра, к окну лучше не подходить, шатнет в прошлое. Так или иначе, сейчас эпоха компьютеров, и доктор, царапающий пером, сверяясь, прежде чем поставить дату, с новомодным айфоном, – странен, даже смешон. Только мне не смешно. Мне ни при каких обстоятельствах не должно быть сейчас смешно. Даже если он начнет рисовать карикатуру на мой диагноз. Даже если аккурат на пресловутых обоях.
«Как ты себе представляешь карикатуру на диагноз?»
«Никак. Я же не себе предлагаю заняться художеством. Вообще никому не предлагаю. Просто фигура мысли. Хотя если бы речь шла об ампутации…»
«Фу! Ванечка, остановись!»
«А что? Очень наглядно бы получилось. Слушай, тут обои трещат, сволочи, спасу нет. Так раздражает!»
«Ты приглашаешь обои послушать? Я бы предпочла Рахманинова».
«Эстетствуете, гражданка».
«На худой конец, дрова в камине».
«Будить в людях зависть – дурной тон».
«А ты не завидуй, терпи. Обои угомонить?»
«Терплю. Потерплю».
Наконец на меня наведен профессионально-сочувственный взгляд. Мне нельзя его пропустить. Я и не пропускаю. Принимаю. Как было задумано – глаза в глаза. Я во всеоружии: неподвластный воле случайно вырвавшийся порывистый вздох. Он на три такта. Двухтактный слишком мелодраматичен, однотактный свидетельствует об успокоении, а мне… – какое там успокоение?! Палец у виска. Не пистолетом и не средний тоже. Мизинец. Просто разминает кожу. Одну руку пришлось из-под себя выпростать. Словно втираю мысль, а она никак не втирается, но и от пальца не отлипает. Помните собачье говно на подошве и коврик под чужой дверью? Одно и то же.
Надо бы спросить что-либо умное, а не спрашивается.
– Голубчик…
Как точно определил! Умница! Молодцá! Столовский голубчик. Размокший капустный лист, нафаршированный чем-то непотребным, весьма вероятно недоброкачественным. В моем случае даже сомневаться не приходится, как выяснилось. И при этом в масштабе тарелки прискорбно мелок. Не голубец – голубчик! Телом и духом мелок. А уж в масштабе Вселенной… В масштабе Вселенной я вообще незаметен. Классно все разложил по полочкам, и ни одна не перекосилась. «Черта лысого я тебя из банки выпушу, Домовошка. Сиди там и считай своих косоглазых баб! Решительно никаких послаблений шельмецу! Мебель он, видите ли, крушить вздумал…»
– Да, доктор?
– Я вас понимаю.
– Я верю.
– Мне не следовало бы вам этого говорить, но… Все же один шанс есть.
Злосчастная муха чертовски мешает сосредоточиться. По моим представлениям, в стекле уже должна появиться вмятина. Я оглядываюсь на окно и только тут до меня вроде как доходит смысл последней фразы врача. Все, что летало, потрескивало, умолкает как по команде. Если изнутри я обклеен обоями, то они обваливаются все разом. Но внутри я неровный, поэтому красить будет трудно. И цвет… С выбором цвета – полная сумятица в голове. Красный? А если больная кровь меняет цвет? Может, об этом спросить? Ге-ни-ально тупо.
– Шанс? Доктор, вы это серьезно?
В этот миг дверь ординаторской распахивается и на пороге возникает странная бесформенная фигура в пижаме. Собственно, это пижама бесформенная, потому что фигура под ней даже не угадывается. Странность же объясняется небольничным происхождением одеяния. Никак не вписывается пижама в унылый и неприхотливый здешний антураж. Явно домашняя. В отделении пациенты довольствуются байковыми халатами. Халаты истерзаны больными телами, такими же душами и частыми стирками. Ничего ободряющего – таков смысл отечественного здравоохранения. Зато если повезет, и где-то в пределах неведомого ляжет фишка в пользу страдальца, то восторг от преодоления хвори с лихвой перекроет и без того быстро забывающиеся издержки. Поскольку на лопатки удалось положить не только болезнь, но и всю систему! Страну!
Каждое выздоровление от недуга – это маленькая, очень личная революция. Незаметная, непубличная. Потому что мы суеверные, а гордыня – грех.
Можно для развлечения однополых близких присочинить короб вранья, как хорошенькая и добросердечная медсестра проявила достаточно сострадания… Вы не гордый, не сильно принципиальный, она тоже… Пусть друзья завидуют, ведь недавно совсем не завидовали. Хоть какое-то людям разнообразие. Тем более что зависть же в перечне грехов пасется где-то в хвосте.
Поди ж ты, даже у грехов есть табель о рангах. А у лжи нет. Или есть? Ложь во благо? При том, что прелюбодеяние в удовольствие – все одно грех. Несправедливо.
Пришелец стоит в дверном проеме настоящим нездешним грандом. Даже несовершенство пижамных форм не может подавить впечатление отстраненной от обстановки и обстоятельств ухоженности. Он в клетчатом кашемире, сохранившем и темно-коричневый цвет широких полос, и бежеватый оттенок поля. Элегантно и мило. Подойдет любому, кому за шестьдесят по возрасту и лет двести по взглядам на жизнь. Чудом спасшиеся посевы моральной инквизиции. Для такой публики яркие цвета – рябь в глазах, улыбнувшаяся сыну соседка – шлюха, дочь, целующаяся с подругами, – лесбиянка, а внук, из любопытства попробовавший кальян, – законченный наркоман и нуждается в принудительном лечении, для начала – ремнем.
На мой беглый, однако придирчивый взгляд, человек в дверном проеме как раз из таких, меня не проведешь. По крайней мере, возрастному цензу он наверняка соответствует. Представления о физическом масштабе его личности, предъявляемые пижамой, на пару размеров опережают физическую реальность. Вряд ли гражданин до болезни был толстяком, не тот тип. Видно, что сухощав… привычно. Думается, что такими вещами «убедительных» размеров – под масштаб личности – свекров одаривают заискивающие перед ними невестки. Хотя почему только они? Кто угодно может: жена, теща, дети… Если в стране дефицит, а вещь явно из тех самых времен… Или магазин получил только один размер, за границей о русских весьма унифицированное представление…
Вот было бы любопытно взять да пожить по заграничному пониманию русского человека. Пожить, подумать, как они думают, что мы думаем… Собственно ничего любопытного, разве что сама идея. Мы и на свои, отечественные пропагандистские поделки не очень походим. Выстругивают из нас буратин, из них – пиноккио… Было бы чем, поднял бы тост за разнообразие. За кисть жизни, что пристыдит любого художника.
Похоже, что родня обнаружившего себя в кабинете доктора индивидуума подгадывала расцветку пижамы под цвет глаз. Глаз и волос, хотя на висках они кажутся мне чересчур яркими. Полированный орех, а не волосы. С трудом верится, что за столько лет ни один волосок не поддался соблазну поседеть. Это так, навскидку: не такой уж я зоркий сокол, чтобы каждый волос по отдельности разглядеть. Однако готов об заклад биться, что старый перец волосы красит. Я обещаю себе: если выживу, то первым же делом тоже подкрашу седины. В моем случае они необыкновенно ранние. Как озимые. Если озимые могут быть необыкновенно ранними. Почем мне знать? Я не агроном.
«Уже можешь записываться».
«В агрономы?»
«В парикмахерскую. Может, все-таки хватит ломать комедию?»
«Неужели именно сегодня, любимая моя мамулечка, тебе больше нечем заняться?»
«А я специально день высвободила».
«Ты хоть понимаешь, что иногда – а сегодня именно такой день – от твоего постоянного вмешательства я чувствую себя «андроидом»? «Ар ту…». Или как там его? Это в “Звездных войнах”».
«Ванечка, не хочу тебя обижать…»
«Ну да, они умнее. Я в курсе».
«Не о том речь. Торопишься. Их, друг мой, бессердечных, можно перепрограммировать. На худой конец, их, бессердечных и надоедливых, можно выключить. Ты же неиссякаем. Не одно, так другое».
«Не понос, так золотуха. Я понял».
«Ничего ты не понял».
«Ты тоже думаешь, что он покрасил волосы?»
«Удачно перевел тему, мои поздравления. Как тонко!»
* * *
Мне не до обсуждения филиграни мысленных диалогов. Я раздумываю, не потеребить мне прямо с налету нервы хмыря в пижаме вопросом: где он берет краску и почему так небрежен с подбором колера? Вместо одного получится два вопроса. Потом настанет время предложить пришельцу:
«Меняйте бренд, нагоняющий тоску незнакомец».
И заключительным аккордом:
«Не сочтите за труд сообщить, чем пользовались до нашей встречи, чтобы мне самому не вляпаться».
Вот такой исполненный вежливости словесный этюд желаю я предложить незваному посетителю. Ведь это лучше, чем «ты, мужик, кто?» и «вали отсюда, мешаешь!» При всех непременных достоинствах упрощенного – назовем его так – похода: лаконичности, прямоты и ясности. Кто сказал, что обходительность лучше? Вопрос сложен, поэтому мой выбор нейтрален: промолчать. Удивительная благовоспитанность, но вполне объяснимая. Не хочу рисковать, доктор может не оценить изысканность моего юмора, как и породистость хамства. Или оценит, но побрезгует подыграть. У него свои представления о моем будущем. Совсем не такие, как у меня. При этом я на свой счет совершенно не заблуждаюсь, а вот он, зараза, шельмует. Но по задумке мне предстоит принять и сжиться именно с его точкой зрения. Это начало забавы, которую никак не желает принять моя мама.
«Категорически».
«Столь категорически не принимает моя мама. Так лучше?»
«Сойдет с ботиками».
«Так говорили про штопанные на пальцах и пятке колготки. Я прав?»
«Сам просил не отвлекать».
«Ну, извини, тебе не угодить».
«Угодишь, если в беду… не угодишь».
«Удачно сказано. Заметано».
Как-то уж слишком серьезен мой поставщик недобрых вестей, сомнительный праведник Иов в белом халате. Не ровен час, я и в самом деле всерьез, без театральщины уверую, что «ласты» мои уже густо намазаны клеем. Остается сложить их вместе в подсказанный час и откланяться этому миру. Нет, перед этим их кому-то придется лизнуть. Как тыльную сторону марки или полоску на уголке конверта. Сейчас так доктору и объявлю. Правда, он может испугаться, что за моей язвительностью последует нешуточная истерика. Повод, как-никак, очень уважительный. Сильно заслуживает, чтобы психануть. Кликнет эскулап санитаров с ведерными шприцами релаксантов, с проверенными на прочность простынями. В итоге валяться мне спелёнутому – рожа от натуги багровая, глаза лососевого цвета, прическа веником, живот выпирает, потому как простыня молодецкую грудь в него выдавила. И вот тут, в тот самый миг, когда я беспомощен и безобразен, в палату, где без продыху пыль и годы ужаса, вплывает волшебная Милена… Нет! Никогда!