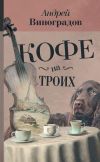Текст книги "Наследник"

Автор книги: Андрей Виноградов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Вскоре выяснилось, что все одно лучше уж поднимать стаканы за безнадежное, чем за будущее, лишая его надежд. Накликали мужики неудачу. Или «припили». Приманили то, что разумные люди отваживают. Все это как-то было связано с «доподлинным» белорусом. Он только что прописался в нашей компании, планов имел громадье, все с прибылью. Ну да… Этим будущим благополучием он и делился, восхищая народ щедростью. За это пили. Точно. Вряд ли в голове белоруса уже тогда поселилась мыслишка «перекинуться» однажды в узбека. Тоже «доподлинного». Повода не было. Что и говорить, сумел удивить, чудак.
– По матери я кто? – будет он позже тыкать в меня, недоверчивого, пальцем. – Доподлинный узбек!
– По матери ты…
Я продолжу мысль, как подсказали, «по матушке», без купюр, но он не обидится.
– Забудь про Егора. Был Егор да сплыл весь, – попросит. – Ер нынче мое имя.
– Я буду звать тебя Жо.
– Это с какого такого перепугу?
– Егор, Георгий, Жора, Ер, Жо… Понятно? Правда, рожа у тебя всё равно как у Егора.
– Это до поры до времени, – напустит он туману, и я заткнусь озадаченный: никак на «пластику» белорус решился ради места дворника? А что, если я совсем не так жизнь живу? Но тут мама вмешается:
«Конечно, не так».
И мне станет не до Егора, или Ера. Лишь скажу ему со смешком, что резервов на дальнейшее сокращение имени у него с гулькин нос.
Пока же пытался мужик в «доузбекском» своем, «доподлинно белорусском» состоянии устроиться в наше «жил-убого-товарищество». На службу. Рекомендовался всем без исключения белорусом с московской регистрацией и метил то ли на инженерную должность, то ли на бухгалтерскую. Больше, наверное, бухгалтером хотел быть. Мне так казалось. Счёты с костяшками, нарукавники, дебет, кредит… Ему бы подошло. Не суть. Важно, что обещал он нам, падким на халяву и доверчивым жителям, кучу благ. Причем совершенно даром. Потому что, говорил, «люди задолжали народу». То есть не с той стороны человек в трубу дул. Наперекор стремнине выгребал, если смотреть на жизнь глазами его вероятных нанимателей, вообще любого начальства. Похоже было, что кто-то злодейски провел бедолагу, наплел ему, будто вожделенные должности – выборные. Вот и принялся чудак-человек завоевывать симпатии «избирателей», губил свою печень почем зря. Мама без особых раздумий образно определила мужчину в вольер для городских сумасшедших, мне же его идеи пришлись по вкусу. Содержание пропагандистской кампании тоже. К тому же сам я и половины слов «Беловежской Пущи» не помнил, хотя слушал песню миллион раз. При этом считаю себя абсолютно нормальным.
«Зубры! – пробивает меня окликом с этажа памяти, давно оставшегося позади. – Никакие они не бизоны и уж тем более не яки. Зубры! Откуда ей взяться – “Яковке” или “Бизоновке”?! Только “Зубровка”!» Сто к одному, что именно она, горькая настойка белорусского розлива с московской акцизной отметиной, припасенная соискателем теплого места в нашей вечной зиме, выручила белоруса в глазах коммунального начальства. Или… жалостливо про пущу спел?
Короче, совсем в утиль его не списали. Поместили невдалеке от соответствующего «приемного окна», но все же на людях – дали ставку дворника. Ерепениться мужчина не стал, ставку принял. Тем более что пообещали ему через пару месяцев место бухгалтера присмотреть. Наверняка, куражились, а по дороге домой гоготали как гуси.
И конуру, она же «мастерская», мужик тоже принял по описи. Полгода – год мел двор новоиспеченный дворник в задумчивости, отрешенно, затем объявил, что белорус и дворник – понятия несовместимые. Не созвучно, сказал, времени. Примерно, разъяснил, как чеченец-носильщик. Через штакетник неуверенного понимания перешагнул, до предела упростив пример:
– Политура с «Хванчкарой». Сапожник…
– Армянин, – встрял я, чтобы не молчать. Полагал, что вовремя и удачно.
– Откуда в Израиле армяне? – озадачился дворник.
– Армяне есть везде, – проявил я глубокое знание мира. Правда, тут же немного убавил вескости, спасовал: – Должны быть.
– Что ты мне мозг кипятишь? Среди узбеков их точно нет. Мне ли не знать, если я сам доподлинный узбек?
– Может, лучше таджик? – облек я товарищеский совет в форму вопроса. Мне казалось, что во всех соседних дворах дворники из Таджикистана.
– Зачем людям врать? – отсек дворник подсказку в той же форме.
И завел шарманку про «По матери я кто?», о которой я сегодня уже вспоминал, забегая вперед. Таков уж характер утреннего валяния в постели: хочется так далеко забежать вперед, чтобы уже вечер и совсем не надо вставать.
Что характерно, «переродившись» в узбека, дворник напрочь перестал материться.
– Мы, узбеки, этого не любим, потому что все чувства забирают Аллах, президент и семья. А бесчувственная ругань – это стыдно, безыскусно и не по-мужски.
Как манифест по памяти зачитал. Правда, о каком президенте речь – не уточнил. Что ж, находчиво. О семье дворник упомянул впервые. Я задумался: не оттого ли так, что бог в его душе по-прежнему любил Троицу и Аллаха с президентом счел компанией недостаточной? Но это мои домыслы.
Добровольная смена герба, гимна и флага, вкупе с исчезновением перспектив роста престижа профессии, странным образом навлекла на свежеиспеченного узбека перебои с подругами. Раньше их, перебоев, в помине не было. Врать не буду, не скажу, что неиссякаем был ручеек женского внимания и ласки, привлеченный певческими страданиями про пущу. Однако и не мелел он досуха. Этот факт любой подтвердит, кто поздними вечерами проходил мимо «мастерской». Не стена отгораживает мастерскую от тамбура в подъезде, а перегородка. Ну да, надо ухом к ней припасть… Так не из любопытства же, просто качнуло.
Неясные причуды азиатской души – славянином был мне дворник понятнее – подтолкнули его разделить со мной грусть об утрате былой привлекательности для дам. Поводы, ранее сводившие нас, не обещали такой интимности, но отказывать в дружелюбии я не стал: любопытно же!
Дворник долго мял в руках замызганную тюбетейку. Словно тесто на лепешки готовил, или что там у них вместо хлеба. Кстати, в происхождении головного убора я не сомневался. «Доподлинная» узбекская. Еще бы! Ее у «Зямы-хлопковода» с третьего этажа выпросили. А тот по чистому совпадению и, надо полагать, оболганным завистниками и конкурентами пять лет отсидел в Самарканде, так что прекрасно разбирался в национальных костюмах и вообще в этнографии. Ограниченно, конечно. Вряд ли способен был различать черкески по цвету и газырям.
* * *
– Недопонимаю, старик… – наконец сложились слова у дворника. – Ну чем для баб узбек хуже белоруса? Я ведь по-прежнему про пущу могу затянуть, правда, с акцентом. Пересилю себя, спою про чужое. Еще говорят, что карьера кислая, никакой карьеры. И пеняют, лахудры, что в бухгалтеры обещал выбиться. Зачем им, спрашивается, бухгалтер? Бабская ведь профессия. К тому же чужие деньги считать никаких нервов не хватит. А ломик… – первейший инструмент для дворника, ну да – зимой… – так он со времен Античности как есть символ мужественности! Взять хотя бы этого… Давида, который Голиафа уделал.
– Ломик – это символ того, что лед вместе с асфальтом долбят, – откликнулся я не очень литературно, но был понят.
– Я тебе про статую толкую, а ты – лед… Что за люди в вашей Москве?! С виду вроде столица, а приглядишься – кишлак. Давид! Античность, неуч…
Дворник оценил меня взглядом – в курсе ли я вообще, о чем речь? – и дал время пробежаться по закромам скудной памяти. Вежливый человек.
Я мысленно представил себе Флоренцию, площадь Синьории, статую Давида великих трудов Микеланджело. Точнее, ее мраморного двойника, моложе оригинала лет на четыреста. Оригинал сильно пострадал от людских войн и баталий небесных – гроз, но всего обиднее – от косоруких реставраторов. Сразу признаюсь, что в попытках органично пристроить к фигуре ломик мое воображение спасовало. Не сдюжило нахамить пошлостью гениальности. Придавил величайший творец неподъемным авторитетом мой фантазийный задор. Впрочем, мужественность библейского юноши-героя и без сторонней изобретательности была очевидна.
От бесплодных дискуссий с дворником я отказался. Вместо этого блеснул эрудицией, а-ля «против вашего ломика – наш ломик». Рассказал чудаку про двойника статуи, про людское варварство. Вскользь замысловато для неразвитого ума посетовал, что к месту, выбранному для мраморного Давида самим Микеланджело, статую перемещал величайший кудесник Леонардо да Винчи. А вот копию – неведомо кто. Потому что даже гении не живут так долго. Четыреста лет, кручинился я, понадобилось оттрубить человечеству, чтобы непостижимое величие изобретательской мысли стало доступно… – да кому хочешь!
– Это, черт возьми, что такое: комплимент или упрек? – нацелил я непраздный вопрос в приоткрытый от обалдения рот дворника. Хотя надо было бы в уши. Сам себе и ответил:
– Ни то, ни другое. Это – разочарование. Чудеса, вызывавшие замирание духа, стали обыкновенным ремеслом. Ну еще темой вечернего трепа под дешевое красное и непременное почесывание пуза:
«Ты хоть знаешь, мать, что я сегодня перевозил? Ну этого… Статую… Там еще фотографировали из всех газет… Завтра увидишь».
– Неведомый преемник Леонардо. Фарс! – вынес я строгий вердикт.
На последнее театрально вознесенное слово болезненно среагировал случайный прохожий. Мужчина резко обернулся, вскинул щитом портфель и принялся дико озираться. Я не сразу сообразил, что он ищет глазами натравленную на него собаку.
Еще я доверился дворнику с мыслью, что статуи, подобно как и люди, наделены несчастной способностью наследовать неудачи. Все тому же Давиду, уже скопированному, так же сильно не везло на людей, как и оригиналу. Один чокнутый итальянец молотком отбил у Давида средний палец на левой ноге. Пришлось делать новый. И, наверное, еще парочку про запас. Ведь известно, что у неуравновешенных людей чужие средние пальцы, даже на ногах – больные же люди! – вызывают приступ агрессии. Судя по сошедшимся на переносице бровям, мой молчаливый слушатель ухом почувствовал «притянутость» только что отзвучавшего суждения к теме вандализма, вообще к мраморному пальцу такой же ноги.
«Ничего страшного, бывает, что плохо срастается, но это не перелом – трещина, пустяк…» – мысленно отмахнулся я от случайного недочета. Зато мне пришло в голову, что будь у Давида ломик, приложил бы он психа по дурной башке… и остался бы с пальцем. Под впечатлением от подуманного я немного рассеянно кивнул дворнику:
– Вот так. И не Античность, а Возрождение.
Последнее уточнение было ни к чему. В конце концов, образ Давида с ржавым ломом наперевес стоил любых исторических неточностей.
– Тюбетейку надень, плешь застудишь, – посоветовал я напоследок.
Приятно чувствовать себя человеком внимательным к окружающим, заботливым. Одним словом – достойным. Опять же, подарок дворнику в сумке лежал, надувная баба. Надо было вручить, раз надумал. Три дня с собой таскал, никак не мог собраться. Казалось бы, чего собираться – не похоронка же. Хорошо, что в метро моя сумка ни у кого подозрений не вызывала. Мы с сумкой. Вот если бы я вырядился как-нибудь по-восточному, по-«игиловски»… Тут память и нагадила мне в патоку. Зяма, тюбетейка, халат… Да, есть темы, на которые даже в мыслях не стоит шутить. Аукнется.
* * *
«Зяма-хлопковод», отписавший дворнику тюбетейку, широкой души человек, также владел двумя знатными узбекскими халатами. Настоящая роскошь. Один он носил сам и походил на матерого колдуна, по неведомой причине неспособного наворожить себе передние зубы. На второй халат претендовал я. Уповал на доброе сердце, соседское благорасположение и добытую для Зямы контрамарку в партер театра «Современник». На Хабенского и Башмета по Сент-Экзюпери. Сумасшедшая постановка. Я смотрел, показалось мало, поэтому контрамарку добыл для себя, но и халат, если вдуматься, тоже искусство. Прикладное. Так бы к себе и приложил. Но как назло, урод путаного происхождения – то ли белорус, то ли узбек – пристал к человеку: дай да дай ему почти уже мой халат! Пришлось нашептать заслуженному самаркандскому сидельцу, что тюбетейки выдумал сам Всевышний, чтобы веселее смотрелось ему на людей сверху вниз, а халат – тема грустная, в халате дворник непременно будет ввергать Всевышнего в печаль, и тогда, с тоски, Он учудит что-нибудь неприятное. Воду горячую зимой отключит, лифт на прикол поставит, дверь на балкон перекосит, мусоропровод засорит. Да мало ли бед на свою голову можно накликать. А виной всему – сущий пустяк. И вообще: я Зяме – сосед, а дворник ему кто? Брат, что ли, или все-таки мусульманин иудею?
– И за других жильцов подъезда мы ответственны, – воззвал я напоследок к спорному чувству.
Зяма, к слову сказать, весьма мудро заметил, что тот Всевышний, который баловства ради одарил часть людей тюбетейками, русскому с евреем не указ. Это вовсе не означает – прогнулся он на всякий случай, – что мы ему совсем никаким боком неподвластны, потому что всего не знает никто. А значит, и «гадость какая» вполне может «прилететь». Заодно Зяма привычно посетовал, что сам оказался в местах не столь отдаленных без всякой вины, случайно. По халатности прокуроров и с неоправданного Божьего попустительства попал «под раздачу». «Чисто недоразумение».
Я проявил достаточно такта и осмотрительности, чтобы избежать углубленной богословской дискуссии. Еще меньше меня прельщало притворно сопереживать истории Зяминой ходки, каковая – история – всплыла в качестве «смежной», как пример неосмотрительности небес. Я хорошо знал ее таранные свойства. Вернуться к основной теме получилось бы, в случае удачи, часа через полтора. Или примерно через семь с половиной километров, если мерить беседу обычным шагом. Я выразительно оглядел циферблат Зяминой золотой «Ракеты» и спросил прямо:
– Богу богово… А что там с моим халатом?
Тут-то и выяснилось, что повод явить чудеса терпения давеча сплыл. Халат был отправлен безнадежно далеко – в Хайфу. Брату.
– Вот и ладно, – солгал я и сыграл облегчение.
Дворник, как узнал новость, так чуть не расплакался.
Я нехотя вспомнил о подленьком оговоре заплутавшего на национальных тропах дворника. Правда, тут же с легкой руки оправдал его меркантильной мечтой, которая не сбылась. В довершение рассудил, что последнее обстоятельство саму подлость наверняка «обнулило». Или хотя бы понизило ее статус до «житейской хитрости». Все равно обида на дворника сквозанула: как пить дать, не отослал бы Зяма халат за тридевять земель, если бы этот «белорусский чурка» не принялся выклянчивать одежонку. Я бы на месте Зямы и сам поступил так же – сплавил бы вещицу раздора: на нет и суда нет.
«Зяма, жлоб…»
– Ты чего набычился? – проявил дворник завидную наблюдательность.
Пока меня разъедала недавняя история с халатом – скорость воспоминания и их изложения несравнимы, комета и мяч, – проверял карманы спецовки, перекладывал мусор из одного в другой. Странная церемония.
– Да так… Проехали. Подарочек у меня для тебя.
– Так давай, чего тянешь?
В самом деле, чего тяну? Ну и дал.
Знай я, что мой этноизменчивый собеседник, он же эксперт по Давиду, так обрадуется моему резиновому подношению – ну чисто дитя! – давно бы сбагрил надувное чудовище. И обусловил бы действие проставлением со стороны одаренного. Ну да ладно, – рассудил. – Сойдет и так. К тому же об алкогольных предпочтениях узбеков я не знал ровным счетом ничегошеньки. Но и в просветление не спешил.
– Не бэушная? – вдруг откликнулся дворник подозрением на мое благодушие.
Чудак-человек, кто ж тебе правду скажет. Тем более черта с два проверишь. Я представил себя в очереди к гинекологу с надувной барышней на коленях и развеселился.
– С ума сошел? Ну, рассмешил…
– Не врешь?
Правда – это обычно то, во что вы готовы поверить, будучи почти уверенным, что вас водят за нос. На основе этого наблюдения я и решил не врать.
– Будешь первым, – твердо пообещал, не моргнув глазом. И побожился. Так принято у христиан. Особенно когда они лгут.
Вспомнил как умащивал одноклассницу: «Один раз не считается, ну точно тебе говорю…» Не поверила, не убедил, сам трусил до тахикардии. Однако с тех пор много чего куда утекло, нынче я в иной лиге. В лиге убедительных жуликов. Сейчас бы одноклассница точно не устояла.
– А спасибо?
– Благодарю.
Слово сопроводил поклон. Весьма недурно, отметил я про себя, с достоинством.
– Где стиль подцепил?
– Манеры – это тебе не чесотка.
– Согласились.
Меня больно кольнула догадка, которую дворник тут же и подтвердил. По собственной воле. Без понуканий типа «колись»:
– Зяма контрамарку в театр дал. Я ему с перестановкой в спальне помог.
«Зяма! Да ты, как я посмотрю, не только жлоб, но и сволочь!»
– Повезло… Это тебе подарок вышел к ватан химоячилари куни. Или на него. Прости уж, не знаю, как правильно.
– Чего сказал-то? Сам понял?
– К Дню защитника Отечества, сказал. По-узбекски. У вас, узбеков, День защитника Отечества, я так понимаю, в январе. Не парься, я проверил.
– Ну ты даешь… Я бы скорее на День химика подумал.
– Химоя, деревня, а не химия. Язык учи, узбек хренов.
– А ты откуда узбекский знаешь?
– Так из нас двоих я единственный узбек и есть. Только в отличие от тебя, чучела, маскируюсь лучше. Чернов, если ты не в курсе, исконно узбекская фамилия. Хотя и склоняет к Африке. Но это ложное склонение.
Я мог бы продолжить, не ведая наперед, куда заведет меня очередной экспромт. Почему-то вдохновение посещает меня исключительно спонтанно. К тому же по таким вот идиотским поводам. А жду я его совершенно в иное время. Но вмешалась мама с настоятельной просьбой перестать выпендриваться. Как послушный сын (кому-то из нас двоих хочется считать именно так, и мне кажется, что она не права), – я внял.
– Шутка насчет Чернова. Бери презент и наслаждайся, Давид… с ломиком.
– А скажи, про Давида я это… удачно?
– Уже сказал.
Мне было приятно почувствовать себя авторитетом, у которого сверяются, не было ли где допущено ошибки? Отсюда и лаконичный ответ. Лучше в такой ситуации не ответишь.
Дворник суетливо спрятал под форменную тужурку полученный от меня пакет. Его лицо при этом стало несколько вороватым. Или я неумело истолковал смену выражений.
Так или иначе, эта зорко подмеченная перемена в лице навела меня на мысль, что под личиной узбека у мужика есть будущее. Пару лет назад в Ташкенте местные меня напрочь обчистили. Даже ключ от гостиничного номера сперли, ублюдки. Там их милиция и повязала. Я неделю светился от гордости: нашелся кто-то, допустивший, что мое имущество больше пространства моих же карманов. Ну да, зубная щетка, паста…
Напоследок «недоузбек», но уже и не белорус, попросил о проблемах его никому не рассказывать. Особенно рьяно просил молчать про подарок. Я с легким сердцем пообещал. Вот и молчу до сих пор.
Здорово получилось с этой надувной бабой, целая история сложилась. Сейчас встану и запишу, не то забуду. Сюжетец может и нет, но детали…
«Иван…»
«Уже встал, мама, встал».
«Ну-ну».
«Томас Манн писал, что время есть не что иное, как среда повествования».
«Ты до следующей пятницы наповествовал, друг мой».
«Мог бы и до субботы, если бы…»
«Если бы не Дядя Гоша».
«Как-то так. То есть набросать повестушку времени нет».
«Не истязай ни себя, ни бумагу».
«Спасибо тебе, мамочка, за веру…»
«Вера – это кто? Позавчерашняя?»
«Поза вчерашняя… Позавчера – это вчерашний день в позе…Свидетельство уныния и однообразия. Если бы не ты, я бы вырос невыносимым болтуном. Как все, кто вынужден разговаривать сам с собой, чтобы не спятить от одиночества».
«Поторопись, болтун».
– Дядя Гоша, пора… – шепчу будто со сцены. Чтобы зал слышал. Он слышит. И откликается.
Крадущейся к сыру мышью, аж так тихо – «только попробуй проснись, старая задница!» – я продвигаюсь к двери и открываю ее перед Дядей Гошей. «Старая задница» – мое мысленное обращение к квартирной хозяйке. Это самый вежливый из возможных эпитетов, он для нее слишком нежен и сильно скрашивает «аромат» наших взаимоотношений. Однако на большую грубость я не отчаиваюсь. Воспитание не позволяет.
«Отчаянный врун!»
«Вруша, с твоего позволения. Вруша, вруша, врун из плюша… Плюшевый вруша? Кстати, это твое воспитание. К себе претензии».
«Не отвлекайся, иди уже».
Первая дверь ведет в коридор. Там – что ни делай, сколько ни проветривай, можно все углы опрыскать дезодорантами, – все одно витает и будет витать дух прокисших надежд. Или разочарований. Тоже, к слову, несвежих. Воздух пропитан чем-то навязчиво больничным. Остается гадать – не инфекция ли это разгуливает? Да нет, зараза не должна пахнуть, слишком просто для распознавания, а быть узнанной для заразы – смерть.
У тех, кто заходит в нашу квартиру, должно складываться впечатление, что я делю крышу над головой с санитаркой, которая подворовывает на рабочем месте. И берет при этом далеко не лучшее. Мои гости, однако, если что и чувствуют, о предположениях умалчивают. Не из щепетильности или чувства такта. Такое курьезно предполагать. Опасаются быть вычеркнутыми из коллектива. За зломыслие, заносчивость и чистоплюйство.
«И фотографию на пропуске Андреевским крестом перечеркнуть!»
Шучу… Какие тут, к черту, пропуска…
Еще в воздухе легко уловимы винтажный букет рассохшейся бочки из-под огуречного рассола и купаж пыли с затхлостью. Все это вопреки моим рьяным усилиям: вчера я собственноручно отскреб и вымыл полы, моя неделя. Будь я парфюмером, вдохновился бы сей момент идеей духов «Непруха – унисекс. Запах на все времена».
Странный дух неприбранного жилья витает в нашей квартире. Он неизбывен, как дух гуталина и мастики в казармах. Может, это от тряпки, которой я вчера марафет наводил? Гм… Надо будет понюхать.
Вторая дверь – главная, на лестничную клетку. Там также не пахнет удачей. В нос шибает чем-то радикально от нее отличным, но амбре далеко не так утонченно, как в жилых стенах. И не унисекс. Гендерное неравенство ощутимо. Возможно, все дело в крепком аромате бычков, скуренных и размоченных в банке на подоконнике. И в помоечных миазмах. Если по справедливости, то «помойку», накопленную по нерадивости грязь, не должно по умолчанию приписывать исключительно мужчинам. Но кому, право, нынче дело до справедливости. У Фемидушки нашей отечественной весы перегружены, рукой ей приходится то одну, то другую снизу поддерживать, чтобы правильно перекосило. А меч тогда где? Ага… Меч нынче в других руках.
* * *
Кажется, что помойкой тянет непосредственно из-под соседских дверей. Знаю, что наговариваю на весьма почтенных и конечно же чистоплотных жильцов. А что дружелюбием соседи не блещут, так это не повод для оговора, вообще для подозрительности. Симпатии напрягают больше, чем небрежение. «Засранцы, ишь морды они воротят!»
Запашок скорее всего исходит от часто страдающего несварением мусоропровода. Так что в наибольшей мере вдыхаемой вонью жильцы обязаны, конечно же, дворнику. Тот не далее чем третьего дня низко поступил с двумя народами кряду, с узбекским и белорусским. Оба предал. На этот раз объявил себя доподлинным крымским татарином. Спешно, в тот же день, взял расчет и отправился в «родные края» бороться с «беспредельщиками – инородцами».
– Ты, Иван, пока туда не езжай, – предупредил по-честному. – Не ровен час схлестнемся.
Новость, притворяться не буду, меня ошарашила, хотя, казалось бы, мне-то что за дело? Про Беловежскую Пущу душевно послушал? Послушал. Девку надувную удачно сплавил… Узбекский мужику так и так было не выучить, это ясно как божий день. Я про День защитника Отечества на узбекском два дня зубрил и то уверен, что наворотил несусветного. И все же лихость, с какой мой знакомец чередовал народы, буквально присовокуплял себя к ним, – впечатляла не хуже живой курицы о двух головах, я увидел такую на сайте шуток природы и назвал «дракурицей», хотя лучше бы головы было три.
Так быстро, как дворник сменял одну национальность другой, я способен менять разве что точку зрения, следуя в фарватере начальственных рассуждений. Впрочем, сомневаюсь, что мое начальство способно выказывать такую прыть. «Прыг-скок, Крым-прыг…» – родилось в озадаченном мозгу.
Я оглядел дворника с ног до головы, именно в таком направлении, снизу вверх, я на полторы головы выше. Тот стоял весь из себя независимый, гордый, в партикулярном, спецовку сдал уже. Совершенно рядом со мной, тщедушный. «Что женщины в таких различают? Резиновыми-то глазищами…»
– Понима-аю, – протянул я задумчиво, будто с ценой определялся, сколько скинуть.
На самом деле память копнул, просеял полученное и извлек на поверхность кое-что из далекого прошлого, давно не востребованное. В институте мне довелось водить тесную дружбу с однокурсником из Казани, ну и, было дело, поднабрался я тамошних фольклорных премудростей. Щеголял, случалось, перед татарочками.
– Авыртмаган башка тимер тарак, – выдал без запинки. Почти что скороговоркой озвучил.
– Чего ты там про башку? Все нормально у меня с башкой. Не бои́сь.
– Это по-татарски, чудак. Не было печали, так черти накачали. Усёк перевод?
– Врёшь. Набормотал какой-то ахинеи. Думаешь подловить? Обломаешься.
– Скоро сам проверишь.
– Ох, Иван, как же сейчас не до твоих хохмачек. И заметь, мил человек, малость мелкую: у меня крымский татарский. Это как куст с сосной ровнять, хотя там и там корни. Мне предстоит утраченную связь с народом восстанавливать. Ну чего ты лыбишься? Какую такую связь? Разорванную проклятым, ненавистным сталинизмом. Вот какую.
Я невольно подобрался ввиду пафоса. «И преподнес-то как – обыкновенно, без надрыва, впрямь как ношу. Ну дает, татарин-новодел».
– Вали уже. Лучше незваного гостя он, – расщедрился я на слова, что были ни к чему, но так и лезли наружу. – Метлу, смотри, не прихвати в задумчивости. Не то коммунальщики, такие же ненавистные, как сталинизм, тебя в международный розыск объявят. А татары? Татары враз сдадут. Ты ведь необрезанный… Или? Вот видишь. Это раз. Как узбеку тебе, кстати, тоже следовало бы… В одно верите, но теперь уже все равно, «узбекство» у нас в прошлом. Коран не настаивает? Ну, ты даешь. А я с тобой как с неучем. А ты, оказывается, круто «подковался»… Но принимать тебя будут не по Корану, а по роже и, как следствие, прочим признакам. Одной твоей рожи, поверь мне, для растворения в крымско-татарской ущемлённости недостанет. Не тот случай. Или рожа не та. Так вернее. Но главное – в языке ты ни бельмеса не смыслишь. И это – два. Мой тебе добрый совет, старина: прикинься немым. И… – тут уж я не сдержался, хихикнул. – И обрезанным.
Это мимолетное воспоминание о прощании с дворником тотчас же придает моим несобранным мыслям хоть какую-то направленность.
– Вали уже. В пампасы вали. Сегодня не до тебя, – напутствую шепотом Дядю Гошу и легко направляю его тапкой в филейную часть. Головой тот уже миновал границу дверного проема. По моему представлению, пампасы где-то там. В смысле, в той стороне.
– Ах, ты…
Дядя Гоша хочет ответить чем-то столь же малоприятным, но мне неинтересно. Я с утра, пусть и повалялся вволю, все равно не расположен ни к чему живому. В том числе к живому обмену мнениями о любви и дружбе. Нарочито невежливо затворяю дверь, до последнего придерживая язычок замка – «кла…».
– Тсс! – одергиваю его, глупо поднося палец к губам.
Призывающий затаиться жест – не более чем смешная привычка. Умом понимаю, что глупо обращаться к двери, но палец и рот ума не слушают, хоть и находятся к нему близко. Проще говоря, ничего не могу с собой поделать: основал ритуал – следуй ему.
В конце концов, вся жизнь так или иначе соткана из нитей увиденного, придуманного, подмеченного, подсказанного, заученного. Твои собственные нити, если окружен не отпетыми дураками, обычно тоньше других. Должны быть такими. На них не только ты сам, но и прочие люди оттачивают мастерство жить. Поэтому их удел – часто рваться и становиться тем самым чужим опытом: увиденным, подсказанным, подмеченным, заученным… Или придуманным, если ты умудрился всех надурить. «Повторюшки наши хрюшки…» – крутится-вертится в голове явно неверно услышанное, возможно переиначенное. «Повторюшки» чужих и своих ошибок, нежно именуемых заблуждениями.
Все-таки мы произошли от обезьяны. Даже хрюшки. От какой-нибудь свинообразной обезьяны.
«Эк, куда тебя занесло, сын мой!»
«Мамочка, ты хотела, чтобы я встал? Я встал, если ты не заметила».
«Заметила».
«И то, что я ходячее доказательство правоты старика Дарвина, тоже заметила?»
«Уж в этом не сомневайся».
Все же уместнее вместо «доказательства правоты» определить себя «наглядным пособием». «Пособие» мне нравится больше, в нем уловим флер нужности, полезности. В обычной жизни это мое потребительское свойство ускользает от меня случайно подхваченным шлейфом волнующих женских духов. Иногда успокоительным под язык подпадает сомнение: а так ли уж я отличаюсь от остальных? «Что, если люди вокруг в общем и целом такие же, как и я, неприкаянные, невостребованные? Ну, может, чуть больше уверенности у них в себе, оттого они успешнее… Значит, совсем не такие».
«Вот и пофилософствовал от души. Привет тебе от Алкемона Кротонского».
«Подозреваю поименованного в наличии греческих корней. Прав?»
«Древнегреческих. Но в целом подозрения приняты. Он убеждал, что непостижимое опытом доступно только богам».
«Ох, не из их я числа, мама…»
«Это факт. Но значительно ближе к ним, чем обычные люди. Такова формальная сторона…»
«Мам, ну не начинай, ладно?»
«Как скажешь. Уже умолкаю, мой господин».
* * *
Итак, «пособие»… Приятно хотя бы в мыслях соседствовать с кем-либо бесспорно великим. В моем случае с Дарвином. Даже если он заблуждался. Ибо великое его заблуждение. И немало народца через это самое заблуждение было сплавлено из мира науки в ненаучный мир. А по ходу и в нежизненный мир. Из жизни. От переживаний. Возможно, мы с ним даже состоим в дальнем-дальнем родстве… Какое там «возможно»?! Мы «стопудово» родственники, если в самом начале пути совокупились обезьяна Адам с обезьяной Евой. Последняя при этом – только представьте себе! – была выращена, ни много ни мало, из ребра мужской особи. В антисанитарных условиях зарождения человечества. А Змей-искуситель – что ему еще оставалось? – засвидетельствовал первый на Земле инцест. Да еще такой нетипичный.
Я снова что-то напутал? «Прости, Господи, дурака, я ведь верю!» Хотя бы потому, что у веры есть непреложное преимущество: чтобы прийти к Богу, не надо ни от кого уходить. Правда, могут попросить выйти, если в неподобающем месте афишировать веру.
Замóк послушен и подобострастно проглатывает завершающее «цоканье». Начальные звуки – «Кла…» – никого не будят. Подлый звук – он, как правило, самый последний. Он как необдуманное последнее слово в ссоре выдает до поры бережно скрытый умысел. Случайный «петух» посреди арии мало кого возбудит, разве что настоящего знатока, но их на страну – щепоть, по паре-тройке на каждый театр, не больше, если по всей России «размазать». Простой слушатель подумает, что так и было задумано: постановщик, мол, модничает, новатор. А вот окончание фальшью, да еще если глотка, как в случае с замком, стальная, – никак в логику слухового восприятия не вписывается. Заключительный срыв всегда уязвим. Явный прокол. И еще… Неспроста храпящих урезонивают, заставляют выныривать из глубин храпа «цоканьем». Или «цеканьем»? Или все же «циканьем»?