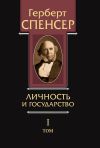Читать книгу "Философия права русского либерализма"

Автор книги: Анджей Валицкий
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Окончательный результат такого хода событий был предвосхищен Леонтьевым в другом отрывке, часто цитируемом в качестве свидетельства его пророческой интуиции: “Воспитывать наш народ в легальности очень долгая песня; великие события не ждут окончания этого векового курса! А пока народ наш понимает и любит власть больше, чем закон. Хороший генерал’ ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава. Конституция, ослабивши русскую власть, не успела бы в то же время внушить народу английскую любовь к законности. И народ наш прав! Только одна могучая монархическая власть, ничем, кроме собственной совести, не стесняемая, освященная свыше религией, облагословенная Церковью, только такая власть может найти практический выход из неразрешимой, по-видимому, современной задачи примирения капитала и труда! Рабочий вопрос – вот тот путь, на котором мы должны опередить Европу и показать ей пример. Пусть то, что на Западе значит разрушение, – у славян будет творческим созиданием… Народу нашему – утверждение в вере и вещественное обеспечение нужнее прав и реальной науки… Только удовлетворение в одно и то же время и вещественным, и высшим (религиозным) потребностям русского народа может вырвать грядущее поколение простолюдинов из когтей нигилистической гидры. Иначе крамолу мы не уничтожим и социализм рано или поздно возьмет верх”[112]112
Там же. С. 258–259.
[Закрыть].
Порой Леонтьев очень пессимистично оценивал возможность избегнуть такого исхода, но утешался тем, что либералов, которых он смертельно ненавидел и которых он считал ответственными за общий упадок, будущая социалистическая революция также не пощадит. Победители-революционеры, писал он, будут презирать либералов – и за дело.
“И как бы ни враждовали эти люди против настоящих охранителей или против форм и приемов охранения, им неблагоприятного, но все существенные стороны охранительных учений им самим понадобятся. Им нужен будет страх, нужна будет дисциплина; им понадобятся предания покорности, привычка к повиновению; народы, удачно (положим) экономическую жизнь свою пересоздавшие, но ничем на земле все-таки неудовлетворимые, воспылают тогда новым жаром к мистическим учениям”[113]113
Леонтьев К. Собр. соч. СПб., 1912–1914. Т. 7. С. 217.
[Закрыть].
Как и славянофилы, Леонтьев нашел свой общественный идеал в романтизированном прошлом, и в этом смысле он представляет вариант консервативного утопизма. Но он сознательно отмежевался от славянофилов, которых считал наполовину либералами, склонными к одностороннему морализаторству, неспособными понять необходимость сильного и жесткого правительства или эстетической стороны великих жестокостей истории[114]114
Ср.: Walicki. The Slavophile Controversy. P. 523–530.
[Закрыть]. Он желал возвращения к византийскому наследию России и не испытывал никакого уважения к чисто славянским ценностям. Наоборот, он едко высмеивал такие традиционные ценности, как “мягкость” и “миролюбивая натура”, и превозносил вместо этого то, что считал русской склонностью к насилию и завоеваниям. Без византизма русские, да и все славяне вообще, были для него сырым “этнографическим материалом”, не имевшим никакой выраженной культурной определенности. С чисто племенной точки зрения он ценил в русских не их славянские черты, но, скорее, сплав азиатских (туранских) элементов с “православным intus-susceptio властной и твердой немецкой крови”[115]115
Леонтьев К. Собр. соч. Т. 7. С. 323. Теория туранского происхождения русских была выдвинута и разработана польским этнографом Ф. Г. Духиньским (1816–1893), который писал на французском языке и имел большое влияние во Франции (ср., например: Martin Н. “La Russie et l’Europe”). Он хотел доказать, что по причине своего туранского происхождения русские были склонны к деспотизму и агрессии, тогда как для истинных славян, включая украинцев и белорусов, характерны миролюбие и свободолюбие. Таким образом, его идея о туранском влиянии на характер русских была сходна со взглядами Леонтьева, хотя его оценки и намерения были диаметрально противоположны. Его “туранская теория” была использована во Франции и Англии для предостережения Запада против русской опасности.
[Закрыть].
Взгляды Леонтьева были слишком радикальными для официального признания в России. Роль главной идеологической опоры самодержавия во время реакционного правления Александра III выпала на долю влиятельного журналиста Михаила Каткова (1818–1887). В его идеологической эволюции можно выделить по крайней мере три стадии. В начале своей карьеры он был либеральным западником в англоманском духе; польское восстание сделало его рупором шовинистического национализма; в дальнейшем развитие революционного движения в России превратило его в консервативного ортодокса, сторонника и апологета реакционных контрреформ Александра III. В данном контексте именно это последнее и интересует нас.
В противоположность славянофилам или Леонтьеву, Катков, человек скромного социального происхождения, не занимался построением консервативно-романтических утопий. Он поддерживал русское самодержавие в его современной форме, уделяя особое внимание не архаичным общественным связям (как это делали славянофилы) и даже не харизматическому авторитету царя, а централизации политической власти и необходимости ее осуществления через бюрократическую машину государства. Он рассматривал централизацию и концентрацию власти как наиболее важный критерий политического прогресса и поэтому заявлял, что неограниченное самодержавие было более развитой и более прогрессивной формой правительства, чем конституционная монархия, не говоря уже о парламентской республике[116]116
См.: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978. С. 202.
[Закрыть]. Его отрицательное отношение к закону не связано с обычным консервативным пиететом по отношению к “органическому росту” и критикой произвольного законодательства; напротив, он восхвалял самодержавную власть как средство сознательного управления ходом истории и критиковал право и юристов как помеху в насильственном принуждении людей ради высших политических целей[117]117
Там же. C. 269.
[Закрыть]. Другими словами, он подчеркивал несовместимость права и суверенной политической воли, осуждая первое во имя второго.
Иван Аксаков, младший брат Константина Аксакова, который считал целью своей жизни распространение славянофильской идеологии после смерти ее основателей, отрицательно относился к идеям Леонтьева, назвав их “сладострастным культом палки”[118]118
См.: Чадов М. Д. Славянофилы и народное представительство. Харьков, 1906. С. 45.
[Закрыть]. Его отношение к Каткову было более сложным; хотя Аксаков и считал его слишком раболепным в отношениях с царским двором и слишком любящим бездушную бюрократию, он разделял его навязчивый страх перед революцией в России, из-за чего очень критично оценивал либеральные реформы 1860-х годов. Александр Кошелев, другой и более либерально настроенный приверженец славянофильства, писал: “Мне особенно неприятны были выходки Аксакова против либералов, против правового порядка, земских учреждений, новых судов и пр. Этим он становился явно против нас, сторонников предпринятых реформ, и как бы под знамя Каткова”[119]119
Кошелев А. И. Записки (1812–1883). Берлин, 1884. С. 249–250.
[Закрыть].
Как видно из этой цитаты, находились люди, считавшие себя славянофилами, но которые все же всем сердцем поддерживали современные реформы. Многие из них принимали активное участие в недавно созданных местных самоуправлениях (земствах), рассматривая создание земств (1864) как возврат к допетровской модели самоуправления Земли. Кошелев даже требовал созыва Думы, представив и это как возврат к древнерусским традициям. Он настаивал на том, что учреждение Думы, помогая царю выявить подлинные нужды его народа, в то же время не имело бы ничего общего с западным конституционализмом или парламентской системой. Однако некоторые славянофилы отказывались принимать эти доводы. Юрий Самарин организовал кампанию с целью восстановить дворянство против ребяческих идей[120]120
См.: Wortman R. Koshelev, Samarin and Cherkassky, and the Fate of Liberal Slavophilism // Slavic Review. Vol. 21. (1962.) P. 261.
[Закрыть] Кошелева в убеждении, что только социальная “народная монархия”, полностью использующая свою абсолютную власть, может обеспечить мирное решение проблем России.
На рубеже веков славянофильские настроения в земском движении усилились и стали более откровенными. Во главе их стоял Дмитрий Шипов (1851–1920), председатель земского собрания Московской губернии. В начале двадцатого века он был широко известен как моральный вождь правого крыла реформаторского движения. Как и другие земские лидеры, он старался повысить роль независимых общественных организаций, объединить силы местных земств и обеспечить им возможность реально влиять на внутреннюю политику. Он отличался от большинства, возглавляемого Иваном Петрункевичем, тем, что не одобрял их конституционные требования. Он хотел народного представительства исключительно на совещательном уровне более по образцу Земских соборов в допетровской России, чем западных парламентов. По этой причине он не мог ни вступить в кадетскую партию, ни поддерживать репрессивное правительство Столыпина. Подобно своим наставникам-славянофилам, он верил в моральное единство общества и стремился к нравственному возрождению России. Неудивительно поэтому, что он яростно выступал против всех форм насилия – и революционного и контрреволюционного, глубоко сожалел обо всех формах разъединяющей вражды и писал о всеобщем примирении. Его политические взгляды были полны наивным идеализмом, но содержали также значительное и очень реалистическое понимание разрушительной логики политического конфликта в ситуации, когда обе стороны не могут или не желают достичь искренне приемлемого компромиссного решения[121]121
Сочувственный обзор взглядов Шипова см.: Schapiro L. Rationalism amd Nationalism in Russian Nineteenth-Century Political Thought. L., 1967. P. 143–167.
[Закрыть].
Важным элементом взглядов Шипова было его традиционно славянофильское недоверие к праву; и он отмежевался от конституционалистов, поскольку считал, что они поклонялись праву как идолу и недооценивали значение нравственных устоев общины. Он не хотел никакого правового ограничения самодержавия, поскольку не верил во внешнее обуздание власти. Ему нравился сам термин “самодержавие”, который обозначал для него не государственный абсолютизм, а просто истинно независимую власть;[122]122
Ср.: Шипов Д. И. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С. 147. Согласно Шипову, русское самодержавие было очень сходно с британской монархией, поскольку оба они были ограничены не законом, а сознанием морального долга (Там же. С. 271).
[Закрыть] самодержавие, доказывал он, – это христианская идея, совместимая с представлением о том, что ничего не может быть абсолютным на земле, тогда как государственный абсолютизм во всех своих формах является опасным типом идолопоклонства. Шипов считал, что каждое государство основывалось на двух принципах – принципе закона и принципе власти[123]123
Там же. С. 142–143.
[Закрыть]. Оба этих принципа были необходимым злом, вытекающим из несовершенства человека, и значение обоих было весьма относительным. Абсолютизация закона представлялась ему не менее опасной, чем государственный абсолютизм, поскольку в обоих случаях необходимое зло подавляло высшие религиозные и нравственные принципы социального сплочения. Особенно опасно было соединение легалистского сознания с борьбой за народовластие: это приводило к преувеличению прав каждого и забвению нравственных обязанностей, к обострению существующих конфликтов вместо поиска путей их мирного решения[124]124
Там же. С. 144.
[Закрыть]. Он был убежден, что легалистское сознание делает людей эгоистичными, бескомпромиссными, неспособными пожертвовать индивидуальными и групповыми интересами ради общего блага, полностью лишенными христианского духа любви и смирения. Очень слабое развитие правосознания у русского народа было для Шипова преимуществом, способствующим сохранению христианских добродетелей[125]125
Там же. С. 272.
[Закрыть].
Неудивительно, что Шипов постоянно осуждал партию кадетов за безграничную веру в значение правовых форм и амбициозную приверженность политической борьбе[126]126
Там же. С. 393.
[Закрыть]. Он даже критиковал конституционные (или полуконституционные) принципы царского манифеста в октябре 1905 г., согласно которым отношения между царем и его народом определялись в терминах юридических прав, а не нравственных обязательств: другими словами, он критиковал их как попытку решить проблемы России с помощью закона, а не через моральное возрождение[127]127
Там же. С. 329–333.
[Закрыть]. Он принял Октябрьский манифест (и даже стал одним из основателей и первым председателем партии октябристов) только потому, что считал его меньшим злом, и он глубоко сожалел о том, что русские не могут достичь подлинного компромисса, базирующегося на твердых нравственных основаниях. Согласно его другу, Н. А. Хомякову, он стал конституционалистом против своей воли, подчиняясь царскому приказу[128]128
Там же. С. 447.
[Закрыть]. Поскольку он воспринял вновь обретенную свободу очень серьезно и защищал ее от правительства Столыпина, он вскоре вышел из проправительственной октябристской партии и вступил в партию мирного обновления, которая старалась занять промежуточное положение между правительством и кадетами. Но он никогда не был искренним, убежденным сторонником конституционализма, считая, что основные государственные законы 1906 г. создали правовые основания для углубления политического конфликта, который, как предсказывал он, принесет катастрофу его любимой России.
Таким образом, можно отметить, что отрицательное отношение к праву было представлено в России очень разными типами консервативных мыслителей, от ультрареакционеров – как Леонтьев – до либеральных консерваторов – как Шипов. Оно имело глубокие корни в русской истории, но формировалось или усиливалось также и под воздействием Запада, особенно под мощным влиянием немецких консервативных мыслителей. В отличие от критики права левыми, оно не дошло до “правового нигилизма” в буквальном смысле этого термина. Даже Константин Аксаков, наиболее утопичный мыслитель-консерватор, проповедовал род “правового нигилизма” только лишь с точки зрения своего представления об общественном идеале; когда же он писал о социальной действительности, он признавал порочность человеческой натуры и соглашался, хоть и неохотно, с тем, что некий минимум правовой регламентации должен быть установлен. Мыслители левого крыла, отрицавшие христианский догмат о первородном грехе и горячо веровавшие в спасение на земле, шли, как правило, гораздо дальше в своей критике права. Некоторые из них развили по-настоящему нигилистическое отношение к праву и довели его до логического конца.
4. Критика права левыми
Первым выдающимся представителем левого антилегализма в России был Александр Герцен – мыслитель, который образовал естественную связь между так называемыми “лишними людьми” 1840-х годов и радикалами 1860–1870-х[129]129
Подробную характеристику русских “лишних людей” см.: Walicki. Slavophile Controversy. P. 337–363.
[Закрыть]. Он считал себя продолжателем традиции радикализма декабристов, хотя его взгляды на право не имели ничего общего с их “юридическим мировоззрением”. С этой точки зрения он скорее напоминает своего близкого друга Михаила Бакунина, отца русского анархизма. Оба они были зачинателями революционной традиции, которая на самом деле полностью отличалась от декабристской, – традиции глубокого недоверия к “духу законов”, программного отрицания борьбы за конституционализм, отказа от “чисто политической” демократии как буржуазного обмана или, в лучшем случае, буржуазной иллюзии.
Отречение Герцена от веры в закон было частью его общего разочарования в Западе и разрыва с русским западничеством. Отличительной чертой его духовного развития было то, что с самого начала он считал свое время эпохой кризиса, из которого – по законам социального “палингенеза” – родится новый, перерожденный мир. В оппозиционном студенческом кружке, который он организовал вместе со своим другом Николаем Огаревым, и во время своей ссылки в Перми, Вятке и Владимире (1834–1840) он изучал – наряду с немецкой философией – работы французских социальных романтиков (сен-симонистов, Леру, Балланша) и под их влиянием сравнивал современную европейскую цивилизацию с умирающей цивилизацией Древнего Рима, а европейских социалистов – с древними христианами. Такой образ мысли заставил его поставить вопрос: может, русским и славянам вообще суждено сыграть роль новых варваров? А в начале 1840-х годов он уже был склонен считать, что, возможно, некоторые идеи и взгляды славянофилов, сходные с парижскими лекциями Адама Мицкевича, достаточно обоснованны[130]130
Ibid. P. 580–582.
[Закрыть].
Тем не менее в своих философских работах 1843–1845 гг., принадлежащих к числу лучших достижений русского левогегельянства, Герцен оставался западником. Его окончательный разрыв с западничеством произошел позже, в результате прямого сопоставления созданного им образа Запада с социальной реальностью западных стран, в особенности Франции.
В начале 1847 г. Герцену наконец разрешили осуществить его давнее намерение поехать на Запад. Он никогда не был слепым поклонником буржуазного Запада, но Франция времен Луи-Филиппа показалась ему еще более отвратительной, чем он ожидал. В своих “Письмах из Франции и Италии” (1847–1852) он выразил свои чувства в эстетической, даже в чем-то аристократической критике западной буржуазной цивилизации, которую он представил как уродливое царство серой посредственности. Победа буржуазии в революции 1848 г. стала для него страшным ударом, в результате чего он потерял веру в неизбежный целенаправленный прогресс. В книге “С того берега” (1850) он окончательно порвал с гегельянством: у истории, утверждал он, нет “разума”, это всего лишь слепая игра случая, вечная импровизация, никогда не повторяющая себя. Таким образом, его разрыв с идеей “Разума Истории” был результатом разочарования в Европе. Вместо нее он принял теорию упадка Запада, восклицая: “Прощай, отходящий мир, прощай Европа!”[131]131
Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. М., 1954–1965. Т. VI. С. 14.
[Закрыть] Эти взгляды, однако, не мешали ему высоко ценить индивидуальную свободу, которую он увидел на Западе. В предисловии к книге “С того берега” он защищал свое моральное право на эмиграцию следующими обращенными к его друзьям в России словами:
“…я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтобы страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу – идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение – ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.
Свобода лица – величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь – мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что вы еще не совершенно свободны[132]132
Там же.
[Закрыть].
В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.
У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность – за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое, помещичье управление Русью – европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло”[133]133
Там же. С. 15.
[Закрыть].
Несмотря на такое трогательное признание западной свободы, в той же книге Герцен доказывал, что различие Европы и России не слишком важно с точки зрения народных масс, поскольку свободы слова недостаточно для их социального, политического и нравственного освобождения. Политические революции во Франции и интеллектуальная революция в Германии не оправдали ожиданий. Герцен писал:
“Германская наука – спекулятивная религия; республика Конвента – пентархический абсолютизм и вместе с тем церковь. Вместо символа веры явились гражданские догматы. Собрание и правительство священнодействовало мистерию народного освобождения. Законодатель сделался жрецом, прорицателем и возвещал добродушно и без иронии неизменные, непогрешимые приговоры во имя самодержавия народного.
Народ, как разумеется, оставался по-прежнему “мирянином”, управляемым; для него ничего не изменилось, и он присутствовал при политических литургиях, так же ничего не понимая, как при религиозных”[134]134
Там же. С. 111.
[Закрыть].
Стоит отметить близкое сходство этого высказывания Герцена и характеристику “юридического мировоззрения” Энгельса, приведенную ранее[135]135
См. выше, прим. 1 на с. 37.
[Закрыть]. Оба мыслителя рассматривали буржуазную веру в право как обмирщение теологии, и оба подчеркивали, что эта смена имела мало общего с подлинным человеческим освобождением. Но поразительно то, что Герцен не видел связи индивидуальной свободы, которой он так восхищался на Западе, с ее политическими и правовыми гарантиями. Его высокая оценка нравственного обуздания власти, инстинктивного признания прав лица было лицевой стороной его же умаления значения политических и правовых условий индивидуальной свободы, включая, конечно, и свободу слова; его хвала тому уважению человеческого достоинства, которое глубоко коренилось во всей европейской истории, сопровождалась равнодушием к плодам недавнего “буржуазного” прогресса, достигнутого благодаря изменениям посредством закона.
Для Герцена поражение революций 1848 г. решило судьбу Европы: страны Запада, думал он, пришли в равновесие в пределах буржуазной структуры, и даже западные социалисты приобрели буржуазные черты, – именно по этой причине они не сумели использовать свой великий шанс. Поэтому славянский мир – и прежде всего Россия – стал последней надеждой человечества. В качества обоснования этой надежды он выдвигал свою теорию русского социализма. В этой теории мы находим некоторые характерные идеи Петра Чаадаева, автора “Философических писем” о России[136]136
См.: Walicki. Slavophile Controversy. Ch. 3; Idem. A History of Russian Thought. Ch. 5.
[Закрыть], славянофилов и либерально-демократических западников 1840-х годов. Как и Чаадаев, Герцен утверждал, что Россия – это страна без истории, страна, в которой никакой “груз прошлого” не стал бы мешать установлению нового и лучшего социального устройства. Как и славянофилы, он считал, что громадное превосходство России над Западом состоит в крестьянской общине, но думал, что община должна проникнуться “идеей личности”, которая пришла в Россию с Запада и была представлена русской интеллигенцией, прежде всего – образованным русским дворянством. Личная свобода, рассуждал он, наиболее полное развитие получила в Англии, но это развитие было достигнуто ценой полной потери общинного принципа; русский крестьянин, наоборот, сохранил общину, но был поглощен ею. Поэтому задача русского социализма состояла в примирении ценностей ориентированной на Запад русской интеллигенции с коммунизмом русского крестьянства: “Сохранить общину и освободить индивида”[137]137
Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. Т. 12. С. 189.
[Закрыть].
В открытом письме Ж. Мишле, названном “Русский народ и социализм” (1851), Герцен развил не только идею того, что отсутствие прочной юридической традиции в России было положительным благом, но также идею преимущества беззакония. Русский крестьянин, писал он, “находится, в буквальном смысле слова, вне закона. Суд ему не заступник…”[138]138
Там же. Т. 7. С. 320.
[Закрыть] По этой причине уважение к закону и судам совершено неизвестно большинству русских; то же самое справедливо и для морального приговора осужденным преступникам. Русский крестьянин, “оправданный судом, плетется домой такой же печальный, как после приговора. В обоих случаях решение кажется ему делом произвола или случайности… Приговор суда не марает человека в глазах русского народа. Ссыльные, каторжные слывут у него несчастными”. Это потому, что “жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиною; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии”[139]139
Там же. С. 321.
[Закрыть].
Это объясняет, почему русские крестьяне не испытывали никаких стеснений, когда лгали судьям. Но внутри общины “крестьяне редко обманывают друг друга; между ними господствует почти неограниченное доверие, они не знают контрактов и письменных условий”[140]140
Там же.
[Закрыть].
Таким образом, общее беззаконие способствовало сохранению того, что было лучше закона, – нравственности, “вытекающей инстинктивно, естественно” из общинной жизни[141]141
Там же. С. 322.
[Закрыть]. Согласно Герцену, это было то ценное наследие, благодаря которому Россия будет лучше подготовлена к социализму, чем любая другая страна мира. “Общинная организация, – писал он, – хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти: она благополучно дожила до развития социализма в Европе”[142]142
Там же. С. 323.
[Закрыть].
Другое преимущество русского пренебрежения правом, по Герцену, заключалось в настроениях, преобладающих среди образованных, ориентированных на Запад кругов русского общества. “Мыслящий русский, – утверждал он, – это самый независимый человек в свете”, он не скован и не порабощен почитанием закона[143]143
Там же. С. 332.
[Закрыть]. Его неуважение к праву не ограничивается Россией, он почти так же относится и к западным законам: “Какое уважение может внушать нам ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее здание без света и воздуха, подновленное в Средние века, подбеленное вольноотпущенным мещанством?”[144]144
Там же. С. 333.
[Закрыть] Обращаясь к Мишле, Герцен подвел итог своим размышлениям о праве следующим образом:
“Различие между вашими законами, и нашими указами заключается только в заглавной формуле. Указы начинаются подавляющей истиною: Царь соизволил повелеть’; ваши законы начинаются возмутительною ложью – ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами свобода, братство и равенство’. Николаевский свод рассчитан против подданных и в пользу самодержавия. Наполеоновский свод имеет решительно тот же характер. На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно надели на себя еще новые. В этом отношении мы стоим совершенно наряду с нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы, потому что не имеем возможности освободиться; но мы не принимаем ничего от наших врагов.
Россия никогда не будет протестантскою.
Россия никогда не будет juste-milieu.
Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими”[145]145
Там же. С. 333–334.
[Закрыть].
Поражение России в Крымской войне и неожиданная и загадочная смерть Николая I создали ситуацию, в которой значительные политические и социальные изменения были неизбежны. Новый царь Александр II понимал, что некоторые реформы, и прежде всего освобождение крестьян, нельзя более откладывать, что необходимо некоторое послабление в самодержавной системе Николая I. Его либерализм, хотя и непоследовательный, разбудил надежды, породил “оттепель” и привел к возникновению достаточно влиятельного и политически поляризованного общественного мнения. В этой атмосфере Герцен стал более склонным к компромиссу: он призывал нового императора воспользоваться возможностью “бескровного прогресса”, заявляя, со своей стороны, готовность примириться с сохранением монархии, если будут реализованы наиболее насущные реформы. Благодаря этой перемене позиции его влияние распространилось на гораздо более широкие круги общества. Его эмигрантский журнал “Колокол” с интересом читали не только радикалы, но и умеренные либералы, включая людей, близких к русскому двору.
Однако наиболее важным событием в сфере социально-политической мысли было возникновение нового радикализма. Он выражал идеи и настроения непримиримо настроенных элементов из разночинцев, интеллигенции неблагородного происхождения, образованных людей из народа, которые стали играть значительную роль в духовной и общественной жизни России. Главным органом нового течения был журнал Некрасова “Современник”, а оба его идеологических вождя были сыновьями провинциальных священников: Николай Чернышевский, журналист академического, энциклопедического ума, и его ученик, литературный критик Николай Добролюбов. Ощущая свое глубокое отличие от “поколения сороковых”, они претендовали на то, чтобы представлять “новых людей”, во всех отношениях отличных от слабого и колеблющегося либерального дворянства, правдиво изображенного, по их мнению, в типе “лишнего человека”[146]146
Подробное описание этого конфликта двух поколений русской интеллигенции см.: Lampert E. Sons Against Fathers. Oxford, 1965.
[Закрыть]. С этой точки зрения особенно знаменательна статья Добролюбова “Что такое обломовщина?” (1859) – пространный отклик на роман Гончарова “Обломов”: в ней “люди сороковых” обвинялись в праздном мечтательстве и параличе воли, проистекающих из их неспособности порвать с образом мысли и паразитической жизнью привилегированного класса.
Ярость этой атаки вызвала много протестов. Знаменательно, что Герцен также поспешил на защиту “лишних людей”. В статье, названной по-английски “Very dangerous!” (“Очень опасно!”, 1859), он даже предположил, что, критикуя либеральную печать и либеральные традиции русской интеллигенции, “паяцы” из “Современника” содействовали царскому режиму и заслуживали награды за свои услуги абсолютизму. Издатели “Современника” были обескуражены, оказавшись мишенью такой атаки, – даже Добролюбов всегда считал Герцена и Белинского высшими существами, которых не могла коснуться его критика. Чернышевский посчитал необходимым съездить в Лондон, чтобы лично уладить недоразумение. Результаты поездки лишь в малой степени оправдали его усилия, и возвратился он с убеждением, что Герцен – человек прошлого. Недоразумение было улажено, но различие мнений осталось.
В действительности же, несмотря на это, взгляды Герцена и Чернышевского на “чисто политическую” демократию и на либеральное понимание права были удивительно схожи. Как я уже пытался показать, Герцен никогда не был либералом в смысле веры во власть закона, в парламентскую систему и экономическую свободу. Даже радикалы 1860-х годов не считали его таковым; когда они обвиняли его в либерализме, они использовали этот термин в его очень широком и специфически русском смысле, подразумевая только лишь недостаток радикализма, поиск срединного пути и веру в социальное изменение нереволюционным путем.
Очевидно, что если “либерализм” отождествляется с верой в социальное изменение нереволюционным путем или с желанием такового, то он не исключает поддержки неограниченного самодержавия. В такой стране, как Россия, было вполне естественно верить в то, что только сильная самодержавная власть может сломить сопротивление привилегированных классов и провести необходимые реформы. Русское самодержавие противопоставлялось конституционному строю как политическая власть, не связанная с интересами имущих классов и поэтому наиболее способная защищать интересы простого народа. (Мы должны помнить, что защитники русского самодержавия были склонны представлять конституционализм как маску, за которой прячется олигархическая власть привилегированного класса.) Людей, придерживавшихся таких взглядов, например влиятельного государственного деятеля Николая Милютина, называли либералами, и традиция такого наименования их была характерна для советских исторических трудов. Интересно, что классическую формулировку понимаемого таким образом либерализма можно найти в “Дневнике” молодого Чернышевского: “не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого”. И далее он заключает: “…лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа, чтоб, как скоро начнется правление народное, правление de jure и de facto перешло в руки самого низшего и многочисленного класса – земледельцы + поденщики + рабочие – так, чтоб через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей”[147]147
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1939–1953. Т. 1. C. 110, 355.
[Закрыть].