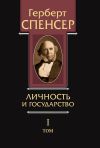Читать книгу "Философия права русского либерализма"

Автор книги: Анджей Валицкий
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Следует отметить, что сам Чернышевский использовал слово “либерализм” в западном смысле, связывая его прежде всего с личной и политической свободой. Специфически русским в его употреблении этого термина было противопоставление им либерализма и демократии, которое он сформулировал в статьях по политической истории Франции. Либерализм, пояснял он, имеет своей целью чисто политические реформы, в то время как единственной целью демократии является реальное благоденствие народа. Таким образом понятие демократии деполитизируется и становится годным для характеристики любой формы правления. Из этого Чернышевский вывел знаменитый парадокс о Сибири и Англии: “Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду”[148]148
Там же. Т. 5. С. 216.
[Закрыть].
Критика либерализма Чернышевским содержит некоторые интересные мысли и поэтому заслуживает более пристального рассмотрения. Вот что он писал о либеральной концепции свободы личности:
“Свобода – вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средства для удовлетворения этой изящной идеи; потому и откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы.
Эта критика “отрицательной свободы”, то есть свободы от внешнего ограничения или принуждения, была дополнена аналогичной критикой либерального взгляда на политическую свободу, свободу как формальное право участвовать в политической жизни: “Конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода”[149]149
Там же. С. 217, 273.
[Закрыть].
Многих людей такие рассуждения убеждают даже сегодня – особенно в тех странах, где народ привык к либеральной свободе, принимает ее, так сказать, за само собой разумеющееся и поэтому склонен недооценивать ее значение. Именно поэтому необходимо показать слабость воззрений Чернышевского на свободу и глубокую неправоту, лежащую в их основе.
Отсутствие свободы не следует смешивать с отсутствием возможности, отсутствием способности. Если я хочу бегать, но не могу, например, из-за сломанной ноги, то это дело случая, невезение, злая судьба, но не рабство; отсутствие свободы, рабство стали бы проблемой тогда, когда я мог бы бегать, но мне не разрешали бы делать это. Это видно даже по ироническим замечаниям Чернышевского о свободе есть с золотого сервиза. Совершенно нечаянно Чернышевский сказал больше, чем намеревался, и показал не только слабость, но и силу классической либеральной концепции свободы. Надо только перевернуть ситуацию, которую он описывает, и представить человека, который может позволить себе купить золотой сервиз, но ему запрещают сделать это, поскольку владение подобными вещами монополизировано правящей кастой. Такое положение в силу произвольного характера запрета нарушает чувство свободы и достоинства человека гораздо больше, чем ситуация, описанная Чернышевским.
Столь же критично следует рассматривать воззрения Чернышевского на политическую свободу. Возможно, мы не способны реально влиять на политические события, но тем не менее очень важно, разрешено нам это или нет. Столкнувшись с бюрократическими методами подготовки отмены крепостного права, Чернышевский сам пришел к выводу, что было бы гораздо лучше, если бы реформой занимались не бюрократы, а свободно избранные представители социальных сил – даже если бы они ограничивались помещиками. Придя к такому выводу, Чернышевский отказался от презрительного отношения к конституционализму; в “Письмах без адреса” (1862) он поддержал либеральных помещиков Твери, которые требовали конституции в России[150]150
На самом деле адресатом “Писем” был Александр II, которого Чернышевский хотел убедить в необходимости дальнейших реформ – и социальных, и политических. Тверское земство в дальнейшем стало оплотом конституционного движения в России, кульминацией которого стало создание конституционно-демократической партии (кадеты). С этой точки зрения поддержка Чернышевским либералов Твери приобретает символическое значение.
[Закрыть].
Царские цензоры, однако, запретили опубликование “Писем”, и сосланный в Сибирь Чернышевский не мог более влиять на идеологию русского революционного движения. Но в этот раз он не изменил свои взгляды. Его друзья по заключению, как утверждает один из них, автор цитируемых воспоминаний, были изумлены, когда услышали от него следующее:
“Вы, господа, говорите, что политическая свобода не может накормить голодного человека. Совершенная правда. Но разве, например, воздух может накормить человека? Конечно, нет. И однако же без еды человек проживает несколько дней, без воздуха же не проживет и десяти минут. Как воздух необходим для жизни отдельного человека, так политическая свобода необходима для правильной жизни человеческого общества”[151]151
Воспоминания С. Стахевича. Цит. по: Стеклов Ю. Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. М.—Л., 1928. Т. 1. С. 448–449.
[Закрыть].
Эволюция политических взглядов Чернышевского, можно сказать, предвосхитила эволюцию революционного народничества 1870-х годов.
В широком смысле слова Чернышевский поддерживал народнические теории, хотя в главном он народником не был. Вопреки своей пропаганде некапиталистического развития в России он считал себя западником и настаивал на том, что озападнивание России следует завершить искоренением “азиатской обстановки жизни, азиатского устройства общества, азиатского порядка дел”[152]152
Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения. Л., 1950–1951. Т. 2. С. 668.
[Закрыть].
Народничество в более узком смысле считало капитализм своей основной мишенью и подчеркивало опасность дальнейшего озападнивания России, отождествляя его, как правило, с тем самым капиталистическим развитием, ужасы которого так ярко описал Маркс[153]153
Обсуждение различных значений термина “народничество” и анализ влияния Маркса на народнические теории см.: Walicki. The Controversy over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists. Oxford, 1969. P. 1–28, 59–63, 132–153.
[Закрыть]. Поэтому можно утверждать, что народники в более узком смысле были учениками Чернышевского, которые, уяснив (с помощью Маркса) мучительные противоречия капиталистического развития, потеряли веру в европейский прогресс, сосредоточили внимание на отрицательных сторонах капитализма и соединили борьбу за демократию с обращенными в прошлое идеалами крестьянского социализма.
Революционное движение народничества возникло в начале 1870-х годов. Его наиболее характерной чертой было глубокое недоверие к конституционализму и либеральному парламентаризму, которые рассматривались лишь как средства установления господства буржуазии. В отличие от первой организации “Земля и воля” (1861), цели которой были скорее демократическими, чем социалистическими, революционеры 1870-х годов – участники исторического “хождения в народ” (1873–1874) и члены второй организации “Земля и воля” – считали необходимым отмежеваться от буржуазной демократии, чтобы подчеркнуть социалистический характер своего движения и не способствовать капиталистическому развитию. Эта цель становится ясна из их настойчивых утверждений о приоритете “социальной” революции над “чисто политической”, – теория эта стала отличительным признаком классического революционного народничества. “Политическая” революция, то есть революционное преобразование существующей политической структуры, рассматривалась как чисто буржуазная революция, с которой истинные социалисты не должны иметь ничего общего. Короче говоря, русские революционеры, поняв, что изменение формы правления не могло решить мучительных социальных проблем, поспешили уверить, что они – не “буржуазные революционеры”, что их революция, в отличие от западных политических революций, не будет служить интересам буржуазии. Их озабоченность антибуржуазным характером своего движения стала настоящей манией. Это объясняет тот любопытный факт, что революционеры в России, стране, которая много пострадала от своей автократической политической системы, стали так непреклонны и упрямы в своем презрении к конституционным гарантиям прав человека и “обманчивой” политической свободе Запада.
Несомненно, что такая точка зрения была возможна благодаря русскому национальному чувству, поскольку позволяла компенсировать русский комплекс неполноценности по отношению к Западу. Если действительное значение имели лишь социальные отношения, то тогда Россия с ее деревенскими общинами оказывалась лучше подготовленной к приходу социализма, чем западные страны с их капиталистической экономикой и правовой системой, санкционирующей атомарный индивидуализм и частную собственность. С этой точки зрения русское народничество можно рассматривать как левое крыло русского антизападничества. Его критика либеральной идеи верховенства закона, буржуазных конституций и парламентской системы повторяла взгляды консервативных русских мыслителей.
Отличительно народническим элементом такого отношения к законным правам и политической свободе была своеобразная мазохистская психология “кающихся дворян”, которые вместе с разночинцами играли важную роль в русском революционном движении. Отказ от политической борьбы означал для этих молодых людей акт самоотречения, совершаемый от имени крестьян, для которых политическая свобода и формальные права представляли собой абсолютно абстрактные и бессмысленные начала. Это напряженное нравственное чувство самопожертвования вместе с горячей верой в великую прогрессивную миссию интеллигенции в истории было выражено в “Исторических письмах” (1869) Петра Лаврова. Эта маленькая книга стала чрезвычайно популярна среди демократической молодежи благодаря главным образом одной своей главе – “Цена прогресса”. Возможность рассуждений о прогрессе, заявил Лавров, была куплена человечеством дорогой ценой. Личное развитие некоторых членов привилегированных классов было оплачено кровью и потом многих поколений нещадно эксплуатируемых простых людей. “Сознательное меньшинство” – интеллигенция – никогда не должна забывать своего долга и сделать все от себя зависящее, чтобы оплатить его.
Другой мыслитель народничества, Николай Михайловский, убедительно показал прямую связь призыва Лаврова оплатить социальный долг с той точкой зрения, что экономические и социальные цели должны иметь безусловное первенство по сравнению с политической и личной свободой. Он писал: “…свобода великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу… Я твердо знаю, что выразил одну из интимнейших и задушевнейших идей нашего времени… Европейская история и европейская наука с одинаковой ясностью убеждали нас, что свобода, как безусловный принцип, плохой руководитель… Мы убеждались, что так называемая полная экономическая свобода есть, в сущности, только разнузданность крупных экономических сил и фактическое рабство сил малых. Наконец, что касается политической свободы, то она оказывалась действительно солнцем, но только солнцем, а это хоть и очень беспредельно много в экономии земного шара, но вовсе уж не так много в своеобразной экономии человеческих идеалов. Политическая свобода бессильна изменить взаимные отношения наличных сил в среде самого общества”[154]154
Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1896. Т. 4. С. 949–950.
[Закрыть].
С точки зрения Михайловского, такой отказ от свободы означал победу совести (чувства морального долга) над честью (чувством собственных прав). Он взывал к чувству социальной вины интеллигенции и проповедовал самоунижение ради благоденствия народа. Он делал это во имя нравственных причин, прекрасно понимая, что поставлено на карту: “…для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова устного и печатного, свободы обмена мыслей (политических сходок) и проч. И мы желаем этого, конечно. Но если все связанные с этою свободой права должны только продлить для нас роль яркого и ароматного цветка, – мы не хотим этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их! <…> Отдавая социальной реформе предпочтение перед политической, мы отказываемся только от усиления наших прав и развития нашей свободы как орудий гнета народа и дальнейшего греха”[155]155
Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1911. C. 870–872.
[Закрыть].
Неверное представление о том, что расширение политических и гражданских прав интеллигенции может быть достигнуто только за счет народа, шло в основном от Маркса – от его описания ужасов первоначального накопления и от его теории тесной взаимосвязи политической эмансипации и капиталистического развития. “Капитал” Маркса (т. 1) был широко известен в народнических кругах еще до появления его русского издания (1872): почти все мыслители-народники – и революционеры, и реформаторы – ссылались на Маркса в своих выпадах против либеральной политической экономии и разоблачениях природы капиталистической эксплуатации. Правда, сам Маркс никогда не пренебрегал политической борьбой, но русские народники интерпретировали его слова особенным образом. Тезис Маркса о том, что политическая надстройка всегда служит интересам правящего класса, его гневные тирады против буржуазного лицемерия, его описание либеральной свободы как “свободы капитала беспрепятственно угнетать рабочих” – все это можно было истолковать как убедительное доказательство первенства социально-экономического развития над политическим.
Наиболее характерной чертой народнической “аполитичности” была их наивная вера в то, что их собственная политика безразличия по отношению к формам правления каким-то образом нейтрализует царское правительство и будет препятствовать его активной защите имущих классов. Это, конечно, оказалось иллюзией, и, когда это стало очевидно, революционные народники пришли к выводу о неотделимости дела социальной революции от политической борьбы. Но последняя, в свою очередь, может быть понята самым различным образом. Ее первой формой был революционный терроризм в том виде, в каком его осуществляли “новаторы” из второй “Земли и воли”, которые в дальнейшем основали новую организацию под названием “Народная воля”. Однако терроризм – это только один из возможных методов политической борьбы, и он оставлял открытым вопрос о собственных целях. Вначале он задумывался как защитная мера или как средство давления на правительство. У “Народной воли” была более амбициозная политическая цель – свержение царского правительства; но было неясно, что следует делать после ее достижения. Вообще говоря, было два возможных ответа на этот вопрос: либо захватить власть и установить долговременную революционную диктатуру, либо захватить власть лишь на короткий период, чтобы способствовать утверждению конституционной системы, основанной на суверенитете народа и гарантирующей полную политическую свободу. Внутри “Народной воли” первый взгляд представлял, хотя и непоследовательно, Лев Тихомиров, который находился под сильным влиянием бланкистского (якобинского) течения в русской революционной мысли; вторую точку зрения защищал Андрей Желябов, для которого переход движения к политической борьбе означал стремление к союзу со всеми социальными силами, добивавшимися свержения или ограничения русского абсолютизма, то есть прежде всего с либералами. Довольно парадоксально, что теоретическое оправдание этой позиции было дано Михайловским в “Политических письмах социалиста”, анонимно опубликованных в журнале “Народная воля” (1879). Он выступил против тех взглядов, которые сам исповедовал до недавних пор, утверждая, что в русских условиях политическая свобода может стать оружием антибуржуазных сил, поскольку, к счастью, русская буржуазия была слишком слаба, чтобы установить свое господство после свержения самодержавия в России.
Наиболее последовательным выразителем якобинского течения в русском революционном народничестве (понимаемом в широком смысле) был Петр Ткачев. Его революционный элитизм был несовместим с принципом действия через народ и внутри народа, что было характерно для классического народничества 1870-х годов. Он настаивал на том, чтобы революционное движение действовало через конспиративную организацию профессиональных революционеров, которые прежде всего стремились бы к захвату политической власти. Он считал “хождение в народ” страшной тратой сил, противопоставляя этому опыт революционных заговоров первой половины века и рекомендуя в первую очередь традиции Бабефа и Буонарроти. К тому же он был очень скептически настроен по отношению к возможностям революционной самодеятельности. Даже после свержения царского самодержавия, рассуждал он, народ не будет способен создать динамичное, прогрессивное общество самостоятельно; он даже не сможет сохранить верность своим старым общинным идеалам и защитить их от враждебных социальных сил. Поэтому задача революционного авангарда не может ограничиваться низвержением царского режима; он должен взять и укрепить абсолютную власть русского государства с целью превратить ее в мощное средство революционной диктатуры, способной коренным образом преобразовать всю общественную жизнь. Авторитет революционной партии, управляющей революционным государством, заменит для русского народа авторитет его “мифического царя”. Не приходится даже говорить, что эта диктаторская власть не будет ограничена никакими законами. Она будет следовать принципам справедливости, определяемой как содействие благоденствию народа, но учитывать волю людей не будет, поскольку люди могут не понимать своего блага. Она отвергнет само понятие неотчуждаемых прав человека как правовое выражение вредоносного принципа индивидуализма и будет руководствоваться вместо этого принципом антииндивидуализма так, как это было сформулировано Платоном в идеализированном образе древней Спарты[156]156
См.: Ткачев П. Н. Утопическое государство буржуазии (1869) // Ткачев П. Н. Избранные сочинения. Т. 2. М., 1932.
[Закрыть].
Ведущие мыслители народничества, глубоко преданные идеалу Герцена объединить крестьянскую общинность с “принципом индивидуальности”, были шокированы такими идеями. Но, несмотря на это, некоторые из них, а особенно – связанные с “Народной волей”, все более и более склонялись к тому, что обществу необходимо пройти стадию революционной диктатуры.
Петр Лавров, которого Ткачев сурово критиковал за отсутствие подлинного революционного духа, принадлежал к тем народникам, которые оставались в оппозиции к революционной тирании и пытались найти альтернативный путь. Но в типичном для традиционного народничества духе недоверия к праву он пытался любым способом избежать конституционных гарантий свободы. Вместо этого он предложил довериться моральной чистоте членов революционного правительства, с одной стороны, и на “прямое и скорое народное правосудие”, с другой, и даже предлагал, чтобы это “прямое скорое правосудие” было построено по образцу судов Линча американского дикого Запада. Суд Линча, убеждал он, который противоречит капиталистическому обществу, в условиях социализма будет выполнять другие функции, получая тем самым полное моральное оправдание[157]157
См.: Szamuely. The Russian Tradition. P. 310–312.
[Закрыть].
На таком фоне становится понятно, что конституционная тенденция в “Народной воле”, представленная Желябовым, была многообещающим новым явлением. Но совершенно глупо было полагать, что путь России к конституционному строю лежит через убийство царя. Убийство Александра II бомбой, брошенной членом “Народной воли”, привело к укреплению самодержавия и значительному усилению реакционных сил. Исполнительный комитет организации или, скорее, те его члены, которые смогли избежать ареста, послали новому царю письмо, в котором призывали его созвать представителей всего русского народа, чтобы перестроить существующую политическую систему и тем самым избежать кровавой революции в будущем. В этом письме они торжественно объявляли, что революционная партия безоговорочно подчинится решениям свободно избранного народного собрания. Но вряд ли можно было реально предполагать, что Александр III примет условия убийц своего отца.
Несмотря на многие препятствия, вдохновленное народничеством революционное движение постепенно преодолевало свои антиправовые предрассудки. Символично, что Виктор Чернов, главный теоретик неонароднического движения и один из лидеров партии социалистов-революционеров, начал свою революционную карьеру в партии “Народное право”, организованной в 1893 г. теми, кто хотел продолжать традицию “Народной воли” с упором на “революционный конституционализм”[158]158
См.: Егоров А. (Мартов). Зарождение политических партий и их деятельность // Общественное движение в России в начале XX века / Мартов Л., Маслов П., Потресов А. (ред.) СПб., 1909. Т. 1. C. 372–375; Дан Ф. Происхождение большевизма. Нью-Йорк, 1946. C. 298–300.
[Закрыть]. Столь же значителен и тот факт, что он стал председателем Учредительного собрания, заседавшего в Петрограде в январе 1918 г. и разогнанного большевиками за непреклонную защиту конституционных принципов.
Такое развитие было невозможным для другого течения социалистической мысли России в девятнадцатом веке – революционного анархизма. Для народников главным врагом был капитализм; они нападали на существующее государство за его поддержку русского капитализма, но понимали также, что государственная власть может быть использована для обеспечения некапиталистического пути развития. (Это можно было отнести не только к будущему революционному государству, но и к царскому правительству тоже[159]159
См. обзор взглядов так называемых легальных народников в: Walicki. Controversy Over Capitalism. P. 107–131.
[Закрыть].) Для анархистов главным врагом было государство; капитализм в их глазах был побочным продуктом государственности, а не наоборот. Их непримиримая враждебность по отношению к государству была связана с такой же сильной ненавистью к праву. Они противопоставляли “органическое”, общинное свойство народа организованному государству”[160]160
Lampert E. Studies in Rebelion. L., 1957. P. 142.
[Закрыть]; право, по их мнению, было феноменом, неотделимым от государства и служащим лишь инструментом государства. Многие народники разделяли эти взгляды, но при этом можно было быть народником без особой приверженности свободной общинности. В действительности все большее количество мыслителей-народников – и революционеров, и сторонников реформ – провозглашали значительное расширение государственного вмешательства в социально-экономическую сферу с полным осознанием того, что это приведет к заметному расширению правового регулирования человеческих отношений. Такое развитие было, конечно, совершенно неприемлемо для русских анархистов.
Следует подчеркнуть, что враждебность по отношению к праву не присуща самому понятию анархизма. Анархия – это отрицание власти человека над человеком, но необязательно отрицание права. “Не следует удивляться при обнаружении интересного мотива анархистской теории, лучше всего, вероятно, представленного Прудоном (и предшествовавшими ему утопистами-социалистами) и подтверждающего аристотелевскую модель политической ассоциации” – ассоциации, основанной на глубочайшем уважении к праву[161]161
Newton, Lisa. The Profoundest Respect for Law: Mazor’s Anarchy and the Political Association // Anarchism / J. Roland Pennock, John W. Chapman (ed.). N. Y.: Nomos 19, 1978. P. 164.
[Закрыть]. Действительно, у Прудона мы читаем, что анархия – это “отсутствие хозяина, господина”, но не отсутствие закона[162]162
Proudhon P. J. “Ou’est-ce que la Propriété? Цит. по: Woodcock G. The Anarchist Reader. Glasgow, 1980. P. 67. [См.: Прудон П.-Ж. Что такое собственность. М.: Республика, 2008.]
[Закрыть]. Напротив, Прудон прекрасно понимал ценность закона для человеческой свободы. “Закон, – писал он, – выведенный из знакомства с фактами и, следовательно, опирающийся на необходимость, никогда не вредит независимости… Свобода есть бесконечное разнообразие, ибо она, в пределах закона, уважает всякую волю”[163]163
Ibid. P. 68. Другим замечательным теоретиком анархизма, который придерживался таких же взглядов, был Рид. “Анархизм, – поясняет он, – буквально означает общество без архоса. То есть без правителя. Он не означает общества без закона, и поэтому он не означает общества без порядка. Анархист принимает общественный договор, но он интерпретирует этот договор особым образом, который, как он убежден, наиболее разумен” (Read H. A Coat of Many Colours. 1947. P. 59–60).
[Закрыть].
Такой взгляд на право вступал в противоречие с правовым позитивизмом, который выводил все законы из воли суверена. Различие между русскими анархистами и Прудоном может быть объяснено, хотя бы частично, тем, что в России девятнадцатого века правовой позитивизм был господствующей правовой теорией, в то время как во Франции понятие закона совсем не обязательно ассоциировалось с действующими законами, установленными государством. Это отражало различие между страной, свыкшейся с неограниченным самодержавием, и страной, в которой воля суверена могла быть оспорена от имени закона, в которой понятие закона было все еще тесно связано с традицией естественного права – и в ее католическом варианте, и в форме современной теории “естественных прав”.
Социальная теория величайшего мыслителя русского анархизма Михаила Бакунина вращается вокруг двух пар противоположностей: общества и государства, с одной стороны, и естественного права и права, сотворенного человеком – с другой. Он утверждал: “Общество – это естественный способ существования совокупности людей независимо от всякого договора. Оно управляется нравами и традиционными обычаями, но никогда не руководствуется законами… Существуют, правда, законы, управляющие обществом без его ведома, но это законы естественные, свойственные социальному телу, как физические законы присущи материальным телам… Отсюда следует, что их не надо смешивать с политическими и юридическими законами, провозглашенными какой-либо законодательной властью, которые в разбираемой нами системе считаются логическими выводами из первого договора, сознательно заключенного людьми”[164]164
Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 87.
[Закрыть].
Эта теория основывалась на философской концепции свободы – концепции, которая подчеркнуто отрицала понятие свободной воли, liberum arbitrium, акцентируя то, что свобода противоположна внешнему принуждению, а не внутренней необходимости. Человек, рассуждал Бакунин, – это продукт природы и общества, естественно-исторические законы, которым он должен подчиняться, – это, следовательно, законы его собственного существования, против которых абсурдно восставать. Свободу следует противопоставлять не детерминизму, а насилию и различным формам отчуждения – таким как религия и государство. Нет ничего унизительного в зависимости от законов природы (или от социальных законов как особой разновидности законов природы), это нельзя назвать рабством, поскольку “…рабство предполагает наличность некоторого господина над нами, законодателя, стоящего вне того, кем он управляет”[165]165
Бакунин М. Избр. соч. Пг.—М., 1919–1922. Т. 2. С. 164.
[Закрыть]. Но глубоко унизительно зависеть от власти – человеческой или Божественной. Поэтому церковь и государство – это величайшие враги свободы. Каждая религия, и особенно христианство, подразумевает “принижение, порабощение и уничтожение человечества в пользу божественности”[166]166
Там же. С. 159.
[Закрыть]. То же справедливо и по отношению к государству, которое является не чем иным, как организованным насилием. Нет никакого реального различия между абсолютистской и либеральной концепциями государства: первая утверждает, что государство – это Божественное творение, вторая считает, что оно создано свободной и сознательной волей человека, но в обоих случаях государство “стоит над обществом и стремится его полностью поглотить”[167]167
Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм. С. 88.
[Закрыть]
При более внимательном рассмотрении оказывается, что Бакунин соглашался с принципом непроизвольного и неизбежного подчинения всем естественным законам при одновременном отрицании всех форм зависимости от сознательной воли, поскольку само понятие контроля со стороны сознательной воли (противопоставленной внутренним импульсам или усвоенным традициям коллектива) несло в себе значение внешнего принуждения, или несвободы. Поэтому он выступал против закона не только как распоряжений политической власти, но и как сознательных договоров между независимыми индивидуумами. В этом отношении он отличался от Прудона и понимал это: “Смешно, – писал он, – представление индивидуалистов школы Жан-Жака Руссо и прудоновских мутуалистов, воображающих, что общество есть результат свободного договора личностей, абсолютно друг от друга независимых и вступающих во взаимную связь и зависимость только в силу заключенных между ними условий”[168]168
Бакунин М. А. Интриги г-на Утина // Материалы для биографии Бакунина. Т. 3. М.—Л., 1928. С. 420.
[Закрыть].
У Бакунина было две причины для отрицания договорной модели общества. Во-первых, она предполагает дообщественное состояние, в котором каждый индивид был изолированной, самодостаточной монадой: “Точно как будто бы эти люди с неба упали и принесли с собою на землю и слово, и волю, и мысль самородные, вполне отрешенные от всякого земного, т. е. от всякого общественного происхождения. Да если бы общество состояло из таких абсолютно друг от друга независимых личностей, то им бы не было ни нужды, ни даже малейшей возможности соединиться; не было бы самого общества, а свободные личности, за невозможностью жить и действовать на земле, должны были бы обратным путем улететь на небо”[169]169
Там же. С. 420–421.
[Закрыть].
Но в данном контексте более важна другая причина. Для Бакунина идея личной свободы, свободы как независимости от общества была неотделима от признания внешних принуждений, ибо лишь они, подкрепленные одной только силой, могут обуздать своеволие личности. Подлинная свобода для него – это спонтанность, в полной мере совместимая с естественными законами коллективной жизни, но не с законами, созданными человеком. С этой точки зрения отличие законов как распоряжений суверена от законов как свободно установленных договоров между независимыми индивидами было второстепенным.
Результатом размышлений Бакунина о праве стал последовательный правовой нигилизм. Он осуждал все установленные людьми законы – “авторитарные, произвольные, политические, религиозные, уголовные и гражданские законы, которые на протяжении истории созданы были привилегированными классами”[170]170
Бакунин М. Всестороннее образование // Бакунин М. Анархия и Порядок. М., 2000. С. 366.
[Закрыть]. Он считал, что единственной целью законов было способствовать эксплуатации масс, ограничивая их свободу; эти законы, “под предлогом вымышленной нравственности были всегда источником самой полнейшей безнравственности”. И заключал: “Итак, невольное и неизбежное подчинение всем законам, которые, независимо от воли людей, составляют самую жизнь природы и общества; но насколько возможна полная независимость каждого по отношению всех честолюбивых претензий и всякой воли, как индивидуальной, так и коллективной, которая вознамерилась бы не воздействовать своим естественным влиянием, а навязать свой закон, свой деспотизм”[171]171
Там же.
[Закрыть].
Другой ведущий теоретик русского и международного анархизма, князь Петр Кропоткин, был столь же последователен в своем отрицании закона. В “Речах бунтовщика” (глава “Закон и власть”) в 1885 г. он высмеивал “обоготворение закона” и пытался убедить своих читателей, что рассмотрение “раболепства перед законом” как добродетели является многозначительным свидетельством ненормального состояния общества[172]172
Кропоткин П. Речи бунтовщика. XIV. Закон и власть // Кропоткин П. Анархия, ее философия, ее идеал. М., 1999. С. 74–75.
[Закрыть]. Неверно думать, убеждал он, что общество не может существовать иначе, чем под властью закона: “Закон – продукт сравнительно новый, так как громадные массы человечества прожили многие тысячи лет, не имея еще никакого писаного закона, ни даже законов, высеченных условными знаками в камне при входе в храмы. В то время взаимные отношения между людьми управлялись обычаями, привычками, нравами, окруженными почетом вследствие долгой практики. Эти привычки приобретались людьми с раннего детства”[173]173
Там же. С. 78.
[Закрыть]. Эти привычки и обычаи не были установлены законом; они предшествовали всем законам. Обычаи абсолютно необходимы “для существования обществ и для сохранения человечества”, а законы – нет[174]174
Там же. С. 80.
[Закрыть]; напротив, закон сдерживает нормальное развитие общества, поскольку его отличительной чертой “всегда была неизменность, застой, окаменение, – в то время как человечество всегда стремится к непрерывному развитию”[175]175
Там же. С. 77.
[Закрыть]. Как и частный капитал, рожденный суеверием и насилием, закон не имеет права на уважение людей[176]176
Там же. С. 83.
[Закрыть].