Текст книги "Русский модернизм и его наследие: Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова"
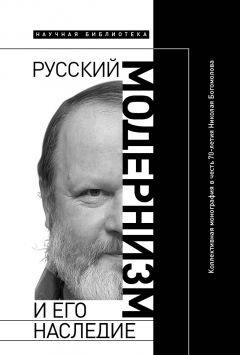
Автор книги: Анна Сергеева-Клятис
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
И не случайно в 1913 году он предвидел, что она «пойдет хорошо». Начало было положено.
Ниже мы републикуем семь выступлений Эйхенбаума в еженедельнике «Запросы жизни» 1912 года.
Приложение
Б. М. Эйхенбаум
Статьи и рецензии
Соловьева, П. (Allegro). Тайная правда и другие рассказы. Изд. т-ва М. О. Вольф. 1912. 75 коп
В этой книге есть своя «тайная правда», но становится эта правда явной только на фоне неправды – и в этом главный грех книги. В жертву «чуду любви» приносится другое, большее, целое – чудо жизни. Жизнь упрощена и искажена: дети сделаны взрослыми, а взрослые – однообразными и неумными людьми. В каждой вещи, ради «тайной правды», является явная неправда. То все люди оказываются «слепыми и страшными», а двое – праведниками, то обида «вдруг» получает смысл («вдруг» не только для героя, как было бы возможно, но и для читателя); набросок «В темноте», написанный точно для кинематографа – с бедным мальчиком, с «черным дядей», который увел «маму», с злыми людьми, кончается внезапным и непонятным просветлением героя, хотя ему изменила любимая женщина; в рассказе «Петровна», самом скучном и нехорошем, мальчик, который уже понимает «тоску пробужденья, непереносную тоску возвращения к будничной жизни», думает вместе с тем, что «внуки бывают маленькие», а большой не может быть внуком; наконец, повесть «Небывалая» есть, действительно, небывалая повесть, потому что в конце автор как бы отказывается от всего, что рассказал, говоря устами героя: «ведь я и сам отлично знаю, что то, что случилось со мной, не могло случиться… ни такого последовательного бреда, ни таких последовательных галлюцинаций быть не может» (стр. 146–7). Эта неправда сквозит и в самом стиле: куски сахара «с недоумением выглядывают» из чашки, у тишины есть «звон», тучи «не хотели, чтобы зарницы раскрывали их тайну» (это – почти Тютчев, но в этом «почти» весь грех!), темнота «зевает» и т. д. Автор не верит этим образам, и потому они путаются между собою, а не образуют цепи. «Тайная правда» этой книги выражена в одном месте явно: любовь не должна быть ни аскетизмом, ни сладострастием – «есть, должен быть третий путь». Но выразить это автору удалось только посредством неправды – и тем самым обесценен высокий замысел. Прочтешь – и самая «тайная правда» кажется «небывалой», и чудится, что сам автор – «в темноте», и последние слова книжки звучат как-то сильнее, чем нужно: «Но он (автор?) никогда больше ее («тайной правды»?) не нашел».
Э.(Запросы жизни. 1912. № 39. Стлб. 2227–2228)
Новое о Гончарове
Из писем И. А. Гончарова к М. М. Стасюлевичу
В «остывшей золе» старых писем мы находим иной раз больше, чем в пылающих углях художественных произведений. Мы ищем в письмах не творческого пламени, а именно золы – того, что остается на дне души, что уже непригодно для «литературы», для «творчества», что оседает и отлагается серой, холодной массой. Тут мы находим душу человека, от которой он иной раз сам бежит в «творчество». И если раньше мы могли бы сомневаться в значении этого материала, то теперь не можем, не смеем.
Не смеем именно теперь, потому что, благодаря письмам, перед нами встает новая загадка, новый вопрос. Загадка эта – личность И. А. Гончарова, письма которого к М. М. Стасюлевичу будут помещены в выходящем на днях IV-м томе переписки М. М. с его современниками. Эти письма должны поразить и увлечь широкую публику, а исследователей они заставят взяться заново за изучение Гончарова и написать новую книгу о нем. Недавно мы «вспоминали» Гончарова, но мы его еще совсем не знаем. И ничто другое, кроме писем, не могло бы показать нам с такой силой, насколько не знаем. «Письма, за невозможностью писать другое, есть единственный путь, которым я разрешаюсь своей литературною силою и облегчаю напор фантазии. Это моя другая жизнь – мир фантазии…» (7/19 июня 1868 г.). Такое отношение Гончарова к письмам обязывает нас быть особенно внимательными к его словам. В другом месте он выражается о письмах еще определеннее, еще значительнее: «В них вы, конечно, лучше всех прочитаете и мой характер (скорее темперамент), и мои недуги, и все дурное, и хорошее, что во мне есть» (7 авг./26 июля 1868 г.). Эту фразу, обращенную тогда к М. М. Стасюлевичу, мы должны теперь принять к себе и стараться «прочитать» Гончарова лучше, чем это сделали его современники.
Письма к М. М. Стасюлевичу дают материал для характеристики Гончарова в последний период его жизни – от окончания «Обрыва» (1868 г.) до смерти. Это уже тот период, когда его любимой фразой становится Гамлетовское «to be or not to be» – и не даром. Он переживает страшную тревогу – в нем «два человека», которые «часто резко противоречат друг другу и… их смешивать, одного с другим, надо осторожно». Это тревога вечно юной души художника перед наступающим «охлаждением от лет и равнодушием ко всему, и даже к литературе» (20 февр. 1870 г.). В первых письмах Гончаров с почти нескрываемой радостью сообщает Стасюлевичу о своем приподнятом состоянии: «Во мне теперь кипит, будто в бутылке шампанского, все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, один, рыдаю, как ребенок, и измученной рукой спешу отмечать, кое-как, в беспорядке. Я все забыл другое… Во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим. Ах, если б Бог дал удержать это навсегда на бумагу и потом нарядить в красный кафтан, т. е. в Вашу обертку. Да нет – так не запишешь, как оно у меня является где-то!» (26 мая 1868 г.). Об этом «напоре фантазии» он говорит и в следующем письме: «я просто поглощен теперь вполне передо мной развившейся задачей до самого конца: перспектива вся открылась передо мной до самой будущей могилы Райского, с железным крестом, обвитым тернием. Молчите пока перед всеми о моих откровениях Вам и о рыданиях тоже: над последними не смейтесь, мне уж и самому совестно их, а первые спрячьте под замок Вашего слова. Бог даст отопрем под красной – или точнее прекрасной оберткой Вестника и вторую половину» (30 мая 1868 г.). Еще интереснее, тревожнее пишет об этом Гончаров немного спустя: «У меня мечты, желания и молитвы Райского кончаются, как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родины, России, наконец Божества и любви… Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов – и художественно-религиозных настроений!..» – И вдруг: «Как бы только от вод и после вод не прошло раздражение!» (7/19 июня 1868 г.) Как трагически выражена здесь эта тревога, как много смысла в том, что Гончаров говорит не о вдохновении, а о раздражении!
А «покой» стережет Гончарова и овладевает им, как только «Обрыв» кончен и его печатание решено. В этом отношении интересна дата – 7 ноября 1868 года, день передачи Стасюлевичу первой части рукописи. После этого дня характер писем меняется, тон становится все более и более спокойным. Гончаров сам замечает это: «Дождь льет неустанный, но у меня не хуже на душе, слава Богу, как и в ясную погоду, как будто хандра утомилась мучать меня и хочет, наконец, дать мне покой. Или, может быть, этот покой происходит от того, что у меня нет никаких желаний, кроме желания – покоя. Делать я ничего не делаю, даже отгоняю от себя докучливые набеги фантазии, которая лукаво, против воли, сует мне под нос новые характеры, лица, сцены какого-то нового, еще неизвестного мне самому романа. Но я отворачиваюсь, печально думая, что поздно, поздно: – и охота, и самолюбие – все умерло, от чего не знаю: от старости, я думаю» (18 сентября 1869 г.). «Я – не от мира сего более» (18 дек. 1868 г.). И еще: «Но меня занимает теперь одно – скорее разделаться со всем этим и забыть, что на свете есть литература и журналы, и потому буду ждать корректур» (6 марта 1869 г.). «А у меня все маленькие беспокойства, petites misères: то chemisier сделает воротнички у рубашек, как удавленнику, то прачка потеряет платок, а вчера чуть не утонул сам – в ванне, но кое-как выкарабкался, зато утопил там шляпу и новенький галстух. Да еще pince-nez разбил. Вот около каких событий вертится мое пребывание в Париже, но я более крупных и не желаю, боюсь» (18/30 июля 1869). И наконец: «Я, по своему ипохондрическому характеру, давно уже мало-помалу расстался с так назыв. светом и обществом, устарел, соскучился и тягощусь даже среди старинных друзей. Это болезнь, устроенная давно моею жизнию, – и мне нечего делать больше, как покориться ей, ибо как я ни пробовал выходить из своего покоя и уединения, я вызывал только новые расстройства нерв» (3/15 авг. 1878 г.).
Эта тревога доходит часто до преувеличенной чувствительности к внешней обстановке; то возвышаясь до пафоса, когда он, «дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн», требует, чтобы земля затихла и не мешала его творчеству, то принижаясь до степени странной нервозности. Отсутствие тишины во время работы было серьезным страданием для Гончарова – он выражает это необыкновенно ясно, точно и сильно: «Знаете, чего я ищу и не нахожу ни в каком углу мира: это простой тишины, но такой, как могила! Нет нигде: вот здесь с улицы (к счастию, не часто) доходит стук колес, в зелени птицы трещат. А главный мой враг – это фортепиано. В доме его нет, а через улицу кто-то бренчит. А мне нужно совсем уйти в себя, в свой, теперь известный Вам мир, и чтоб ни один звук не вторгался в область моей фантазии! Но где найдешь эту тишину» (4/16 июня 1868 г.). К этому вопросу Гончаров возвращается часто и ставит его совершенно серьезно. «Мне нужна простая комната, с письменным столом, мягким креслом и с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало. А главное, чтобы туда не проникал ни один внешний звук, чтоб могильная тишина была вокруг и чтоб я мог вглядываться, вслушиваться в то, что происходит во мне, и записывать. Да, тишина безусловная в моей комнате и только! И этого нет у меня, нет, и я вижу – не будет. Я никогда никому ни в чем не завидовал, но в этих случаях с завистью вспоминал о больших домах, где есть комната без окон, освещенная сверху и туда, как в гроб, внешний шум не достигает» (9/21 июня 1868 г.).
От жизни ему нужен только свет, хотя и это могло бы быть лишним. Что за страшная формула – гроб для рождения! А это не фраза. В том же письме Гончаров, все более и более возмущаясь шумом жизни, доходит, наконец, до вызова, до обвинения жизни в сознательном злоумышлении против его работы: «Боже мой! Зачем же это? Отчего в прошлом году какая-то толпа в Мариенбаде мешала мне? Отчего над моей комнатой поселился какой-то сумасшедший и топал ногами? Что же все это значит? Кого и чем я оскорбил умышленно? Где мои враги, чего они хотят от меня, или отчего не понимают, что я такое, и зачем делают слепо злое дело?» И еще о том же: «Если найдется такое затишье, да к этому Бог даст несколько недель хорошей, ясной погоды (а это условие необходимое для моего здоровья), тогда есть надежда, что роман мой можно будет напечатать весь в следующем году, не прерывая его. А будет ли красивый вид кругом или нет – я и этого не требую, хотя оно приятнее, но в комнате мне нужны просто голые стены, чтобы ничто не мешало мне смотреть в самого себя» (13/25 июня 1868 г.). И, наконец, восклицание: «Ах, если б перемог и музыку – да нет, нет тишины на земле».
Погода тоже серьезно влияла на работу Гончарова; хорошо писать он может «только в сухие, ясные и теплые дни, когда злое раздражение, как по волшебству, переходит в благотворное, искреннее эстетическое настроение, от которого плачется такими добрыми и здоровыми слезами и так хочется передавать бумаге sans arrière-pensée все, что снится в душе» (24 июня/6 июля 1868 г.).
Все это, вместе взятое, открывает перед нами совсем не ту натуру, которую мы привыкли представлять себе под именем И. А. Гончарова. Он сам часто говорит о своей натуре, жалуясь на одиночество, отсутствие «гнезда», «недра», близких, непонимание окружающих. «Напрасно я ждал, чтоб кто-нибудь понял, успокоил, обласкал меня, напрасно обращался к женщинам – они не понимали этого и наносили беспощадные удары, не подозревая, что это все равно, что бить слепого, или ребенка. От этих ударов и злобного, грубого смеха у меня останутся неизгладимые следы. Жду утешения только от своего труда: если кончу его, этим и успокоюсь и больше ничем – и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастию, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь» (7/19 июня 1868 г.). В другом письме: «Не забывайте, пожалуйста, что я – барометр, что в натуре моей, и физической, и нравственной, есть какие-то странные, невероятные и необъяснимые особенности, крайности, противоречия, порывы, неожиданности и проч.» (12/24 июня 1868 г.).
Размышления о своей натуре приводят Гончарова к страстным жалобам на людей – и в особенности на женщин: «Природа мне дала тонкие и чуткие нервы (откуда и та страшная впечатлительность и страстность всей натуры); этого никто никогда не понимал – и те, которые только замечали последствия этой впечатлительности и нервной раздражительности, – что делали? Совестно и грустно мне становится и за них, и за себя, когда я прослежу некоторые явления моей жизни. Меня дразнили, принимали за полубешеную собаку, за полудикого человека, гнали, травили, как зверя, думая Бог знает что и не умея решить, что я такое!.. Понятно, что я ничего не делал, не писал, а мучался внутренно, в ужасе сам от того, что не умею этого объяснить и растолковать!.. я больной, загнанный, затравленный, непонятый никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами, всего более ими, кому я посвятил так много жизни и пера» (13/25 июня 1868 г.). Одна эта цитата требует целого исследования.
Необходимо заметить, что многое в этих жалобах происходило от необыкновенной, достаточно известной «мнительности» Гончарова. Он и сам признается в этом, но не в силах ее побороть. «Все чую какие-то беды», «стала мне опять сниться чья-то вражда, недоброжелательство, какой-то злой смех, вред…» «Вылечиться от этих припадков мнительности и, следовательно, от непрестанной тревоги я не в силах – это вошло уже в натуру, и никакие советы, никакое благоразумие не поможет». «Голова моя так уж устроена, чтоб всегда подозревать, а нервы – чтоб тревожиться». И, точно отбиваясь от этих подозрений и мнимых обвинений, Гончаров торжественно произносит: «Мои идеалы, образы, картины, цели и направления – так чисты и честны, как только сам Бог может влагать их в человеческую душу. И я чувствую, что Он вложил их в меня, чтобы наравне с другими честными людьми, честно, по силам служить обществу и правительству вместе, т. е. России» (4/16 июня 1868 г.).
Неудивительно, поэтому, что Гончаров был так привязан к М. М. Стасюлевичу – единственному человеку, который, понимая силу его таланта, старался ободрять, отрезвлять, рассеивать его мнительность и побуждать к работе. Гончаров ценил это и много раз благодарил: «Вы подгоняете меня Вашей бодростью, как кнутиком подгоняют кубарь»… «Если я буду работать и кончу свою работу, то, конечно, много буду обязан этим Вашему энергическому и моральному, и материальному участию».
Но все эти тревоги проходят, и «раздражение» сменяется покоем. 10 января 1890 года Гончаров поздравляет Стасюлевича с новым годом и уведомляет, «что сегодня он открыл целую коробку своих визитных карточек и что новых делать не понадобится».
Таковы, в общих чертах, эти интересные письма. Они, несомненно, вызовут ряд новых работ о Гончарове и, попутно, возбудят много новых историко-литературных и психологических вопросов. Письма воспроизведены точно и снабжены примечаниями такого опытного редактора, как М. К. Лемке. Кроме Гончарова, в этом томе есть переписка М. М. Стасюлевича с В. А. Арцимовичем и А. М. Жемчужниковым, письма В. М. Жемчужникова, А. Ф. Кони (с пропусками), С. А. Никитенко, С. Груича. Все это были друзья и приятели Стасюлевича, так что общий характер писем этого тома остается все время дружеским, интимным. Есть много бытовых подробностей, много фактов историко-литературного свойства (напр., о Козьме Пруткове) и проч. Но украшением этого тома и особенной заслугой редактора является издание писем «старца» Гончарова.
Б. Эйхенбаум.(Запросы жизни. 1912. № 47. Стлб. 2695–2702)
Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. С крит.-биогр. очерк. В. Я. Брюсова, под редакцией П. В. Быкова. Изд. т-ва А. Ф. Маркс. СПб., 1912. 3 руб
«Habent sua fata libelli…» И действительно – какая судьба этой «книжечки», которая, по выражению Фета, «томов премногих тяжелей»! Открыли Тютчева не читатели, не критики, а поэты – Жуковский с Вяземским и Пушкин, который стал печатать его в своем «Современнике» (1836 г.). Провозгласили его тоже поэты – Некрасов (1850 г.) и Тургенев (1854 г.), а Фет назвал его «великим» (1859 г.). И все это делалось помимо публики, которая оставалась равнодушной к его поэзии до самого последнего времени. Когда Тютчев умер (15 июля 1873 г.), то некрологи говорили о его блестящем остроумии, о его политических взглядах и проч. И только мимоходом – о стихах. Фраза кн. В. Мещерского («Гражданин», 1873, № 31) – «Думаем, что никто не станет возражать нам, если скажем, что с кончиною Ф. И. Тютчева мы лишились великого русского поэта», – показывает, что такие возражения были очень и очень возможны. Книга И. С. Аксакова о Тютчеве (1874 г.) подвела итог впечатлениям современников: их больше всего пленяла «необыкновенная грация» его поэзии: «Все жесткое, резкое и яркое чуждо его стихам; на всем художественная мера; все извне и извнутри, так сказать, обвеяно изяществом». Аксаков же определил и ту черту, которая сделала Тютчева родоначальником нашего импрессионизма – именно, воспроизведение не «действительности», а впечатления. Восьмидесятые годы были равнодушны к Тютчеву: В. Чуйко находил в его стихах «дилетантизм», «узкий кругозор», «резонерство», «рефлексивность»; Н. Страхов считал, что он «не отдается вольно своему вдохновению и своему стиху», а Скабичевский прямо заявил, что «отрытый из среды посредственности и внезапно столь возвеличенный в мрачные годы общественного безвременья пятидесятых годов, Тютчев, во всяком случае (sic!), в достаточной мере скучноват в своих безукоризненных красотах». Конец этому кощунству восьмидесятников положил Вл. Соловьев, начавший своей статьей («Вестн.<ик> Евр.<опы>» 1895 – IV) новую литературу о Тютчеве, которого он на первой же странице назвал «несравненным поэтом». ХХ-й век встречает Тютчева словами А. Мейснера: «Ты был кощунственно не понят и на забвенье осужден!». Литература о нем с каждым годом растет; пишут о нем и изучают его В. Брюсов, А. Горнфельд, Ю. Айхенвальд, Р. Брандт, П. Гриневич и др., хотя статья Соловьева, по глубине и стройности, остается непревзойденной. А. Белый открывает особые прелести тютчевского ритма и приходит к убеждению, что в «ритмическом отношении Тютчев наиболее интересный из всех русских поэтов». Самая форма, которую долго считали небрежной, оказывается особенно «изысканной». Из «дилетанта» Тютчев становится действительно «специалистом поэзии», «учителем поэзии для поэтов и учителем жизни для читателя». Вышло новое издание Тютчева и, вместе с тем, его дает на будущий год «Нива». Это значит, что Тютчев признан. Теперь надо пристальнеее всмотреться в душу этого человека, потому что, если нам нужна поэзия, то, может быть, еще нужнее жизнь создавшей ее души – особенно, если душа эта
Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю непричастных.
Б. Эйхенбаум.(Запросы жизни. 1912. № 49. Стлб. 2707–2708)
Яков Годин. Северные дни. Первая книга стихов. Издат. «Дружба». СПб. 1913. Цена 1 рубль
Каким холодом, каким тоскливым равнодушием и безжизненностью веет от этой книги. Как однообразен и бесцветен словарь этого стихотворца! Его любимые слова – «бледный», «бесследный», «запоздалый», «поздний», «заплаканный» (все заплаканное – и рассвет, и осень, и камин, и сердце), «догоревший» или «сгоревший» и т. д. Все прилагательные – вялые, бездейственные. Стихотворение, поставленное во главе книги и вне отделов, как credo, есть символ неверия, произнесенный бескровными, засохшими устами: «Как мне верить в бессмертие дня, мне, сгоревшему бледно?». Его «не влечет к бытию», он никому не молится, звезды говорят ему только о чуждой тайне, в любви он хочет «утолить ненасытность тоски» и потому ласкает «чуждые тела»… И это – поэт?
Приходится вспомнить слова Вл. Соловьева: «Есть поэты, не верящие в поэзию». Но можно ли называть таких стихотворцев поэтами? Годин неискренен на каждой странице. У него есть небольшой запас слов, которые он всюду, почти механически, употребляет. Стих его не музыкален и часто совсем не звучит – нет у него никакой «мелодии», никакого слуха. Не замечая, как рискованно по своим сочетаниям слово «алый», он чрезмерно пользуется им и не останавливается перед таким legato, как «бархат алый», «как алый» (стр. 84!); такие недопустимые «рифмы», как «монотонных – зеленых», «опьяненный – стоны», автор употребляет очень охотно. Способен он и на такую какофонию: «В мельканьи капель бесследных окна, как крылья птиц» (стр. 119). И всюду – закат, закат, сумерки, дождь… Нет не только солнца, но даже просто дня – пусть северного, но все-таки живого «друга человеков и богов». Жалкая, неверящая в самое себя душа блуждает в сумерках «чуждой тайны» и ищет одного – «утолить ненасытность тоски».
И только в двух пьесах душа эта на миг точно пробуждается и, оглянувшись, видит «песчаную и свежую тропинку», хмельную пчелу, которая качает незабудку, чувствует благоухание роз, слышит звон стрекоз и даже замечает птичку, «напрягшую грудку». Вот – именно то, чего не хватает самому автору: пусть он поучится у этой птички, пусть напрягает свою грудь, а не твердит едва слышно: «я жажду вечного покоя». Под одной из этих двух пьес поставлен 1912 г. Не значит ли это, что душа автора действительно оживает, и нельзя ли надеяться, что уже обещанная вторая книга его стихов не будет такой безнадежно-заплаканной?
Б. Э.(Запросы жизни. 1912. № 49. Стлб. 2835–2836)
Действие или действо?
Zu schaffen, nicht zu schauen!
Судьба некоторых книг трагична: они бодро вступают в жизнь, их замечают, о них говорят и пишут, а потом вдруг все забывают об их существовании, и они, молчаливые и пыльные, глохнут на книжных полках. А когда, случайно, возьмешь такую книгу в руки, то кажется, будто «выражение» ее обложки изменилось. Стало другим, постарело, будто морщины появились, и где-то, между линиями рисунка, легло тяжелое разочарование.
Вот передо мной сейчас такая книга – «Книга о новом театре». Прошло всего четыре года, как она впервые явилась перед нами – в обложке А. Бенуа, со статьями А. Луначарского, Е. Аничкова, А. Горнфельда, А. Бенуа, В. Мейерхольда, Ф. Сологуба, Г. Чулкова, С. Рафаловича, В. Брюсова и А. Белого. Явилась она, бодрая, громкая, говорила пророческие фразы о театре-храме, театре будущего. Правда, трагические черты уже тогда можно было усмотреть в ней – она говорила одновременно несколькими голосами. Это был не двуликий Янус, а многоустая, многоязыкая Пифия. В то время, как один ее язык произносил слова о том, что «свободный, художественный, постоянно творческий культ превратит храмы в театры и театры в храмы» (стр. 28), или другой – что «задача театрального деятеля… в том и состоит, чтобы, возводя театральное зрелище ко всем тем совершенствам, которые только достижимы для зрелища, приблизить его к соборному действию, к мистерии и к литургии» (стр. 182), или третий – что «раскрыть ее (сущность будущего театра) значит раскрыть тайну новой религии, которую смутно предчувствует современный человек» (стр. 214), четвертый язык разговаривал о стилизации, пятый – об актерах и т. д., пока, наконец, последний и, может быть, самый громкий голос не произнес заключительных слов этой трагической, самоубийственной книги: «Современный театр разобьется о Сциллу Шекспировского театра или о Харибду кинематографа. Поскорей бы!» (стр. 289).
Это предсказание, по-видимому, сбылось. Если не прямо «о Шекспира», то о «старинный театр» вообще наш современный театр, правда, разбился. Что касается кинематографа – этого «эпоса современности», то он давно уже подтачивает корни нашего театра и с силой тащит корни его из родной земли. Театр, действительно, оказался между Сциллой и Харибдой, и, казалось бы, тем серьезнее должны быть настроены рулевые этого корабля. Кинематограф освободил театр от роли зрелища – одно это делает его положение серьезным. «Старинный театр» показал нам только, как далеки мы от него, как «не того нам нужно». Не зрелища, не мастерства, не эстетизма нужно нам от театра.
Отовсюду идут жалобы на пустоту нашего репертуара, на падение театра и т. д. Эти жалобы становятся уже общим местом – их произносят и в литературе, и в гостиных, когда не о чем говорить, и за обедом, и на улице. Вся печать, от торжественного «Аполлона» до скромного «Против течения», толкует об этом «падении», ставит вопросительные и восклицательные знаки, обращается с призывами к молодежи и проч. Евг. Зноско-Боровский298298
«Аполлон», сентябрь 1912 г. (Прим. Б. М. Эйхенбаума. – Е. О.)
[Закрыть] задался даже целью объяснить такое явление и для этого восходит к нашим национальным чертам, к «бездействию» русских людей XIX века, вспоминает о «лишних людях» и призывает к «преодолению» Чехова, «чтобы иметь хоть какую-нибудь надежду возродить театр». Он возмущен нашим «театром бездействия». «Показать на сцене не то, что происходит, и не тех, кто действуют, но то, что людьми, в событиях не участвующими, переживается во время этих происшествий, которые разыгрываются за сценой», – вот новое и истинно-исчерпывающее определение чеховских драм! Человеческая душа не интересна автору этого определения – ему нужны действия, действия!Однако вернемся назад – действие или действо? Скоро после выхода трагической «Книги о новом театре» вышла другая, тоже трагическая – но не по многоязычию, а наоборот – по своей одноликости, книга В. Иванова «По звездам». Там есть такие заповеди: «Театр должен окончательно раскрыть свою динамическую сущность: итак, он должен перестать быть „театром“ в смысле только „зрелища“. Довольно зрелищ, не нужно circenses. Мы хотим собираться, чтобы творить – „деять“ – соборно, а не созерцать только: „zu schaffen, nicht zu schauen“. Зритель должен стать деятелем, соучастником действа. Толпа зрителей должна слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних «оргий» и «мистерий» (стр. 205–206). Вот – скрижали нового завета, но как ответил на них театр?
Сначала умерла наша хранительница театра, подвижница и мученица его – Вера Федоровна Коммиссаржевская. Потом пришел «старинный театр» и французский XVIII век («Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве»). Теперь… Но, собственно говоря, стыдно говорить о том, что теперь. Вот передо мной афиши: «Натали Пушкина», «Любите жизнь», «Заложники жизни», «Эрос и Психея», «Женщина и паяц» или вдруг – «Снегурочка»… Это – наш современный театр.
Мы – именно те, про которых говорят: «У них нет ничего святого». Мы богохульствуем. Мы забыли, что театр возрос на лоне религиозных обрядов, что рожден он массой – ее стремлением к культу. А. Белый, протестуя против сближения театра с храмом и буквально издеваясь над представителями такого взгляда, говорит, в оправдание своего протеста: «Храм предполагает культ, а культ – имя Бога, т. е. религию» (стр. 275). В этом незаметном «т. е.» – вся неправда его издевки. Религия есть чувство Бога, а не «имя». Когда мы назовем Бога, тогда не будет и религии. Чувством, а не именем Бога проникнуто все искусство – по крайней мере, в лучшие свои эпохи.
И вот к такой эпохе, казалось, подошел театр. Кинематографу он передал все, что в течение нескольких веков душило его. Сор был выметен – оставалось повесить образа. Но вместо того явились толпы каких-то масок и, закружившись в пестром хороводе, решили устроить действие: «Натали Пушкина», «Любите жизнь», «Эрос и Психея», «Заложники жизни», «Женщина и паяц»… И не знаем мы сами, зачем нам такой театр: для отдыха – но не лучше ли отдыхать как-нибудь иначе, для негодования – но какова его цель?
А наша цель, наше стремление есть культ. Культ не как форма только, но как самая цель, потому что культ есть действо. Наша роль в современном театре ограничивается у-частием, а мы ищем при-частия. Мы повторяем слова Рихарда Вагнера: «Художник есть преемник того высокого наследия, которое уже не в силах удержать в своих руках священник». И еще вспомним слова замечательной женщины, Мальвиды Мейзенбург, немецкой эмигрантки, воспитательницы детей А. И. Герцена и автора, кроме многих статей и рассказов, «Воспоминаний идеалистки». Она была знакома с Вагнером и, отчасти под влиянием знакомства с ним, пришла к тому убеждению, что «театр мог бы стать культурной силой, если бы искусство считалось священнодействием, а его жрецы – священнослужителями, призванными сообщать зрителям святой восторг, которым проникнуты они сами. Чем больше церковь, с ее ортодоксальной моралью, казалась мне сухой, чем меньше я находила в ней того живого, священного и поэтического источника, который искала, тем сильнее понимала важность театра».
Сейчас наш театр есть такая же многоустая, многоязыкая Пифия, какова упомянутая книга о нем. Но все-таки один язык говорит яснее всех других: не действия, а действа, «zu schaffen, nicht zu schauen»! Мы думаем, что приведет нас к этому музыка – недаром именно Вагнер чувствовал религиозный смысл театра. Пусть труд дает «panem», пусть кинематограф дает «circenses» – надо, чтобы театр был нашим святилищем, нашим sacrorum sacra… Нечего говорить о практическом применении этого – сначала надо этого захотеть.
Тогда сами собой исчезнут «Эросы и Психеи», «Женщины и паяцы» и проч. Тогда сама собой погоня за действием превратится в создание действа, в котором душа будет находить истинное свое «разрешение» (κάθαρση).
Б. Эйхенбаум(Запросы жизни. 1912. № 50. Стлб. 2887–2890)
Иван Новиков. Рассказы. (1905–1912 г.) Книгоизд. писателей. М. 1912. Цена 1 р. 25 к. Стр. 260
В этой книге есть вещи слабые, но они искуплены несколькими прекрасными страницами и одной хорошей вещью, которую следует читать прежде всего, – «Юда-разбойник». Ее первоисточником, как указывает сам автор в предисловии, послужила белорусская народная сказка «о грехе и об искуплении». Рассказана она автором прекрасно – просто, крепко, с юмором. Хорошие тоже вещи – «Пчелы-причастницы», «Петух» и «Зеленая». Остальные рассказы слабые. Но важнее всего то, что у автора есть свои, оригинальные черты, что есть у него неподдельное, незаимствованное одушевление, благодаря которому рассказы его имеют между собой внутреннюю связь – связь разных образов одной души.
Душа эта повествует нам о Боге и о Черте. Она проходит довольно равнодушно мимо тихой, не возмущенной дерзанием или грехом жизни. Природа хороша, как она есть, но потому что «не колеблется и не сомневается совсем. Она точно знает вперед, как все случится», но человек – существо иное. Он постоянно между Богом и чертом. Бога надо искать, испытывать, в муках неверия обретать, а обретая – любовно предаваться смерти, как высшему искупительному причастию («Пчелы-причастницы», «Юда-разбойник»); черт отовсюду лезет – то «Анчуткой беспятым», то «паничем» в шляпе, в пальто городском, с папироской в зубах. Даже в монастыре не укрыться от него. «Направо-налево-в горку – под горку – опять на горку – потом монастырь» Но… «бесы – тут как тут, в изобилии». И монахи не о Боге речь свою укромную ведут, а о бесах – считают их, признаются, что «их уничтожить нельзя… Видно, и им свое предназначение в мире». Они и наружность их знают и даже на ощупь определяют – «холоднее и влажнее…» А Бог? «Но далеко, далеко Господь! Неумело и мертвенно имя Его звучит на губах… ночь прошлась по губам, подсушила их». Только иногда – и то больше детской душе, близок бывает Бог. Сережа просит у Христа, чтобы петуха не резали, – и Христос «стоит рядом», а когда страх прошел, «Христос сказал: – Ну, я пойду теперь дальше. И исчез». Но и для нас, больших, надежда не пропала, потому что «сердце, с детских лет, все одно; многое помнит и многое смеет».
Некоторые страницы особенно хороши, напр. – рассказ о том, как петух с ночью боролся. «Все темнее ночь, все липче, все гуще вокруг»… А петух бодрится. Тьма кричит: «Засни, Петух! Засни, глупый Петух!» И мы как-то по-новому чувствуем и петуха, и щенка, и пчел, и пауков, и ночь, и людей, и всю природу. А какое это наслаждение – заново пережить то, что уже устоялось, застыло!
Б. Э.(Запросы жизни. 1912. № 52. Стлб. 3013–3014)
Анри Бергсон. Восприятие изменчивости. Перев. с франц. В. А. Флеровой. Изд. М. И. Семенова. СПб. 1913. Ц. 50 к. Стр. 44
Это – две лекции Бергсона, прочитанные им в Оксфордском университете в мае 1911 г. Первая из них посвящена общим вопросам – о сущности философии, о ее роли и проч. Вторая устанавливает, в сжатой и популярной форме, основной принцип философии Бергсона – неделимость движения и вообще всякого изменения. Обе они в высшей степени интересны. Бергсон не приписывает философии первенствующего значения – «Прежде чем философствовать, нужно жить». Самое появление философии он считает следствием «недостаточности захвата или слабости наших способностей восприятия». Поэтому он зовет не к абстракции, не к доктрине, а к восприятию, как действительной основе нашего существа. Поэтому же искусство и художники служат для него идеалом, к которому должна стремиться философия, а не наоборот. Художнику философия не нужна, потому что его восприятие, его «видение реальности» несравненно богаче, чем у других людей; но «то, что природа делает время от времени, по рассеянности для избранных, не могла ли бы философия делать для всех, другим способом и в другом направлении? Роль философии не заключается ли в том, чтобы привести нас к более полному восприятию реальности путем известного перемещения внимания?» (Стр. 15–16.) Характерно отношение Бергсона к Канту: «величайшей заслугой» Канта является не отрицание метафизики, а установление того, что метафизика возможна только усилием интуиции.
Во второй лекции Бергсон раскрывает перед нами по-новому старое, гераклитовское «все течет». Естественно, что принципы элейской школы не разделяются Бергсоном. Наш обычный метод ложен: «мы рассуждаем о движении, как будто бы оно было сделано из неподвижностей», «инстинктивно мы боимся трудностей, которые бы разбудили в нашей мысли видение того, что есть в движении движущегося… Всякое реальное изменение есть изменение неделимое». Отсюда Бергсон переходит к обычным проблемам – субстанциальности, времени, памяти и т. д. и показывает их разрешение со своей точки зрения. Он убежден, что если мы будем «мыслить и воспринимать вещи sub specie durationis», то «самые великие философские тайны могут быть разрешены и даже, быть может, не должны возникать, так как они порождены застывшим видением вселенной и являются только выражением в терминах мысли известного искусственного ослабления нашей жизненности» (Стр. 44).
Перевод сделан хорошо.
Б. Э.(Запросы жизни. 1912. № 52. Стлб. 3014–3015)









































