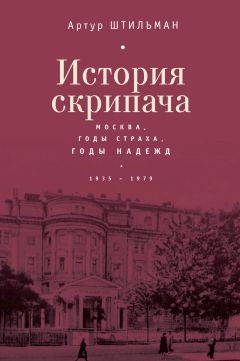
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 5
Фрунзе. Ещё восемь месяцев вне Москвы
Поезд пришёл около 3-х часов ночи. На этот раз нас никто не встречал, и мы нашли грузовик (стремление к частной инициативе неистребимо!), который и довёз багаж приехавших до рыночной площади, где в местной мечети находилось общежитие Госоркестра. Сами же мы тащились налегке, но довольно долго – вокзал был по крайней мере километрах в двух-трёх от центра города.
Нам среди глубокой ночи приготовили «топчаны» – некие подобия кроватей: фанерный щит на деревянной раме, лежащий на двух «козлах».
Все завалились спать, практически не раздеваясь. В шесть утра заработало радио на всю возможную громкость – Москва передавала новости Совинформбюро. Левитан прочитал очень торжественным голосом сообщение о взятии после тяжёлых боёв города Тихвина. Я услышал голос отца оркестранта Ляховецкого (старик Ляховецкий никогда не снимал кепку, вероятно был верующим, а ермолку носить в то время, понятно, было нельзя): «Тихвин? А где этот Тихвин?» Ему тут же ответил чей-то раздражённый старческий голос: «Какая разница где? Важно, что взяли!» Я рассмеялся от этого разговора и от такой хорошей новости проснулся.
Мечеть была очень красивая внутри – все стены и своды колоннады, окружавшей по периметру большой зал, были облицованы керамической плиткой, и производило всё это какое-то таинственное впечатление. В огромном помещении было полутемно. Постепенно население общежития стало просыпаться. Странно, что почти не плакали дети. Было много удивительного – несмотря на такую скученность, практически никто не болел, не было и эпидемий.
Немного позавтракав привезёнными с дороги остатками хлеба и холодного «лапшевника», мы с моим новым приятелем маленьким Витей Данченко (сегодня он профессор скрипичных классов в Институте Кёртиса в Филадельфии и Консерватории Пибоди в Балтиморе) вышли во двор. На дворе была настоящая зима, и лежал даже неглубокий снег. Мы начали делать из снега «торт», вероятно, давно соскучившись по нему, стараясь представить его себе во всех деталях. А потом моя бабушка взяла нас обоих, и мы вышли на рыночную площадь.
Такого чуда, да ещё во время войны, никто из нас не ожидал! Рынок являл собой такое изобилие, которого я не видел впоследствии ни на знаменитом одесском «Привозе», ни на каком другом рынке мира. Горы громадных, невиданных доселе яблок поднимались вверх на полтора-два метра, такие же горы гигантских головок лука – золотистого и сиреневого, дыни, арбузы, горы картофеля, капусты, каких-то неизвестных нам овощей. В общем, это был настоящий восточный базар, и он был чудом, если вспомнить, что это было в январе 1942 года.
Конечно, всё это не могло вывозиться в другие районы страны из-за напряжённой работы транспорта для фронта. Но видеть такое изобилие в реальной жизни казалось просто волшебным сном!
Нас заинтересовали также польские солдаты и офицеры, бродившие по рынку. Они были одеты в странные для нас недлинные шинели почти табачного цвета и в свои четырёхугольные фуражки – «конфедератки», как их называли. Оружия на солдатах я не помню, но у офицеров были кобуры для пистолетов. Имели ли они оружие, неизвестно. Скорее всего, не имели. Это были части армии генерала Андерса.
* * *
Мы пробыли в общежитии три ночи, после чего переселились в проходную комнату казённой квартиры, которую отец снял (!) у майора пограничных войск. Звали его Иван Григорьевич Кузьминых (он навещал нас несколько раз после войны в Москве и даже позднее, когда служил в Германии в 1947 и 1949 годах). С Иваном Григорьевичем, следователем погранвойск, его женой Клавой и сыном Юрой мы быстро сдружились. Они стали нашими гостеприимными хозяевами примерно на месяц. (Как-то Клава, уже после войны, когда они навестили нас в Москве, сказала моей маме: «Я терпеть не могу евреев, но твой Додик – вот мужчина! Я его обожаю!»)
Пока что пришлось временно прописаться у Кузьминых в качестве их мнимых родственников, так как «квартальные» – полуофициальные представители НКВД, хотя и штатские лица – слишком часто наведывались для проверки во все без исключения квартиры – дом за домом, квартира за квартирой подвергались самой тщательной проверке. И хотя хозяин наш был следователем пограничных войск, всё равно закон о прописке должен был быть свято соблюдён. Следующую «постоянно-временную» прописку мы получили уже в артистических комнатах летнего цирка «Шапито», когда отец приступил к работе. «Прописка» – святая святых уклада жизни в России.
После месяца житья у Кузьминых мы переехали в помещение «гримуборных» цирка, где можно было уже жить без отопления – тепло становилось очень быстро, и уже в конце марта моя мама обязательно одевала мне на голову тюбетейку, иначе можно было, по её мнению, получить «солнечный удар».
У нас ничего не было, кроме одеял, подушек и старой электроплитки, на которой мама готовила еду ещё в гостинице «Большой Урал». Кто-то из циркачей посоветовал отцу пойти на хозяйственную базу Среднеазиатского отделения Союзгосцирка. Зав. складом базы был князь Мышецкий (не знаю, был ли он сослан или просто уехал во Фрунзе во избежание худшего) – человек очень высокого роста, в кепке и с небольшими тонкими усиками. Прямо герой Даниила Хармса! Он был чрезвычайно любезен и «отпустил» по госцене маленькую керосиновую лампу со стеклом. Это был бесценный дар! В гримёрных комнатах цирка «Шапито» электричество бывало очень редко, поэтому лампа была первой необходимостью.
После примерно двух месяцев работы директором местного цирка (справедливости ради надо сказать, что весь «Цирк» состоял из группы эвакуированных артистов Харьковского цирка, выступавших на рыночной площади в большом сарае, который официально именовался «театром», а неофициально – «балаганом») отец сумел получить пропуск в Москву, чтобы вернуться на работу на студию документальных фильмов (совет Александра Ивановича Орлова начинал обретать конкретные очертания). Сама студия не могла прислать ему вызова (отец не состоял в штате студии, так как до войны служил в Цирке), но они были готовы его немедленно зачислить в штат сразу же по прибытии в Москву. Пропуск в Москву был получен благодаря счастливой случайности, и отец, уволившись с поста директора Фрунзенского цирка, имея на руках только телеграмму о желании Киностудии зачислить его в штат по прибытии в Москву, получил разрешение местного НКВД, и, снявшись с воинского учёта, купил билет и уехал, сопровождаемый нашими напутствиями. Все мы мечтали о скорейшем воссоединении уже в Москве.
Мама освоила профессию бухгалтера и стала помощницей главного бухгалтера, тоже харьковчанки Агриппины Моисеевны. Её муж Яша был завхозом цирка. Он страдал психическим расстройством и как-то раз сделался буйным на моих глазах. Его с трудом утихомирили несколько мужчин. На следующий день он вёл себя так, как будто накануне ничего не произошло. Работа мамы дала нам возможность существовать, пока отец устраивался в Москве.
Из его первого письма мы узнали, что поезд в Москву шёл девять дней – довольно быстро по тем временам. Билет был только в международный вагон, и один единственный в кассе. Отец попал в одно купе с очень симпатичным пожилым полковником, который оказался инспектором пограничных войск. Полковник был, как видно, выходцем ещё из старой дореволюционной школы младших офицеров и оказался любителем музыки, так что соседство с отцом его очень обрадовало. Соседство это оказалось бесценным. На протяжении всего пути до самой Москвы на всех крупных станциях в поезд входил комендантский патруль для проверки документов. Несколько раз патруль пытался снять отца с поезда и отправить для немедленного переосвидетельства в ближайший военкомат (у него из-за плохого зрения ещё с 20-х годов был «белый билет», то есть освобождение от воинской повинности). Кое-как дело обходилось. Но как-то на одной из станций капитан патруля приказал отцу следовать за ним. Вмешался сосед-полковник и приказал капитану выйти из купе и покинуть вагон! Такова была огромная власть даже такого отдела НКВД, как пограничные войска. Быть снятым с поезда! Это означало крушение всех планов и прежде всего потерю места в поезде. Можно было сидеть на вокзале неделями и не получить места хотя бы в общем вагоне. Не говоря о том, что никто за потерянный билет денег бы не возвратил – не до того было при тысячных очередях!
По прибытии в Москву отец немедленно пришёл на киностудию в Лиховом переулке. Его с энтузиазмом встретил старый коллега – режиссёр Илья Петрович Копал ин: «Ну, наконец-то! Мы прямо сейчас начинаем работать! Виктор Сергеевич Смирнов сегодня занят на радио, и мы просто не знали, что делать! Надо срочно озвучивать “Новости дня”! Ночью надо сдавать!» Так снова началась работа моего отца в кино, продолжавшаяся до 1981 года – с трехлетним перерывом с 1950 по 1953 годы – в связи с борьбой с «космополитизмом».
* * *
Все дни нашей эвакуации, то есть жизни вне Москвы, мы, как и всё население Советского Союза, ежедневно, по нескольку раз в день жадно слушали по радио сводки с фронтов. В какой-то момент ноября 1941 года, когда мы были ещё в Свердловске, стало казаться, что сдача Москвы неминуема. Надо сказать, что искусство пропаганды сыграло в этом случае исключительно важную роль. По радио стали передаваться пьесы, связанные с Отечественной войной 1812 года, читали отрывки из «Войны и мира», и постепенно все как-то осознали, что даже если Москва падёт, война на этом не закончена – и Наполеон был в Москве, а окончил поход бесславно. Рождалась уверенность, впервые с начала войны, что путь к победе будет очень долог, невероятно кровав и тяжёл для всей страны, но что гибель Гитлера всё равно неотвратима. Статьи Эренбурга читали по радио по нескольку раз в день – иногда сразу после новостей. В общем, в какой-то момент, ещё до окончания битвы под Москвой, стала возникать уверенность в том, что немцы войну всё равно проиграют, что это вопрос времени и нечеловеческих усилий, но что СССР победит. Фильм «Два бойца» вышел позднее, в 1943 году, но песня «Тёмная ночь», гениально исполненная Бернесом, стала, если можно так выразиться, «лирическим гимном войны» и внесла свой эмоциональный вклад в перелом настроения огромных масс людей. Сегодня эти воспоминания и рассуждения кажутся банальными и примитивными, но тогда, чтобы заставить поверить в победу миллионы людей, понадобилась мобилизация всех компонентов искусства пропаганды и надо признать, что результаты воздействия пропаганды в тылу дали впечатляющие результаты. Не знаю, кто конкретно руководил всей этой огромной работой (едва ли можно считать, что всю эту работу делал партийный чиновник Щербаков), но страна должна была благодарить людей, внесших свой исключительный вклад в моральное оздоровление, подкрепившее усилия людей в промышленности, хозяйстве и транспорте. Без титанических усилий пропаганды конечная победа в войне была бы невозможной. Вспомнили и про Церковь, бывшую практически все годы советской власти вне закона, неважно, что пропаганда апеллировала главным образом к великорусскому патриотизму (в то время все чувствовали себя русскими, хотя антисемитизм очень вырос, как мы тогда думали – под влиянием гитлеровской пропаганды), вспоминая «псов-рыцарей» и все проигранные Германией войны в истории, делая всех немцев тупыми исполнителями гитлеровских приказов. Всё это вместе взятое принесло победу в пропагандистской войне – важную моральную победу, подкрепившую первый успех битвы под Москвой.
Где-то в начале января 1942 года, когда мы ещё жили у Кузьминых, на первой странице «Правды» я увидел фотографию изуродованного трупа Зои Космодемьянской. Мне было только шесть с половиной лет, но, взглянув на эту фотографию, я понял: немцы войну проиграли… Такого человечество терпеть не может. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна» – так пелось в песне, и было ясно, что эту ярость не остановить ничем – немцы, если хоть что-то понимали вообще, никогда не смогут обрести союзников в мире, если они способны на такое…
Песня «Священная война» в исполнении хора и оркестра ансамбля А. В. Александрова передавалась по московскому радио несколько раз в день и транслировалась на весь Советский Союз. Она стала гимном войны, гимном сопротивления и героизма. Эта знаменитая песня стала фактом большой эмоциональной и воодушевляющей силы! В те месяцы нам казалось, что никто, даже самые большие враги советской власти, не могли чувствовать к немцам ничего, кроме ненависти (мои родители и все окружающие, конечно, заблуждались, но в это так хотелось верить!). Мы ещё не знали о Бабьем Яре, не знали о масштабе начавшегося Холокоста. О том, что немцы евреев убивают, знали с первых дней войны, и знали, что Гитлер слов на ветер не бросал, но масштабов катастрофы знать тогда ещё никто не мог.
* * *
Пока Госоркестр находился во Фрунзе, он занимался своей прямой деятельностью – еженедельно давал несколько концертов. Иногда это были специальные образовательные концерты для детей. Помню один из таких концертов, где первым номером исполнялась увертюра Глинки к опере «Руслан и Людмила». Я уже знал эту музыку, часто слушая её по радио, но живое исполнение превосходило все слуховые радиовпечатления. Музыка была яркой, радостной, праздничной. Она сразу поднимала настроение людей, даже и взрослых.
В апреле 1942 года я вдруг стал плохо спать – из моего носа выходило что-то непонятное… Короче говоря, у меня началась редкая носовая форма дифтерита. Болезнь почти подошла к середине, когда мама наконец обратилась к врачу. Нас сразу отправили в инфекционную больницу за городом, куда мы добрались пешком уже затемно. Меня посмотрел в отделении скорой помощи врач, как оказалось, профессор из Харькова (опять из Харькова!), и тут же отдал распоряжение оставить нас с мамой на ночь в «боксе» – изолированной комнате. Из-за стенки соседнего бокса слышались чьи-то тяжёлые стоны. Ночью во сне мне сделали укол вакцины, а наутро, взяв у мамы анализы, её отпустили домой. Она не заразилась от меня дифтеритом, а меня поместили в детскую инфекционную больницу на целых две недели! Это была первая разлука с мамой.
Она могла приходить навещать меня не чаще трёх раз в неделю, так как больница находилась на расстоянии километров десяти от центра города, а транспорта до больницы никакого не существовало.
Я чувствовал себя неплохо, но анализы в первую неделю ещё показывали наличие «дифтеритной палочки» в носу. Вторая же неделя полагалась как время карантина. Как-то в один из дней, около четырёх часов после полудня все услышали дикий женский крик. Оказалось, что умер восьмимесячный ребёнок. Впервые я и другие ребята, находившиеся на излечении, увидели, что означает смерть. Оказалось, что смерть – это неподвижность, но неподвижность навсегда. Маленькое желтоватое тельце ребёнка не двигалось. Нельзя сказать, что это произвело на всех особое впечатление, каждый из нас чувствовал себя хорошо, и скоро все должны были покинуть больницу. Так что смерть осталась абстрактным понятием – её никто из нас на себя не «примерял». Детство, молодость и юность всерьёз не воспринимают смерть – этот непременный и вечный атрибут жизни.
Я вернулся «домой», то есть в цирк шапито, который, как и раньше, не работал, но артисты в нём по-прежнему жили и выступали в «Балагане» на рыночной площади. На крыльце «Балагана» – «на раусе» – клоун Баев по-прежнему зазывал зрителей в цирк, обрушивая сокрушительные удары своей толстой, расщеплённой на конце бамбуковой палки на головы любопытных мальчишек. Такие удары производили громкий треск, но никакого вреда головам мальчишек не приносили, а только веселили окружающих.
Мы продолжали жить в одной комнате с матерью и дочерью Кагановскими. Как и весь наш цирк, они были харьковчанами. Мария Исааковна Кагановская и её шестнадцатилетняя дочь Майя прожили там, как мы потом узнали, до самого освобождения Харькова. Муж Марии Исааковны был сапёром и провёл войну на передовой. Он был, кажется, уникальным счастливцем – за всю войну от первого до последнего дня уже в самой Германии – не получил ни одного ранения! Такое случалось только в рассказах членов Союза советских писателей. Но тут истинная правда, хотя, если не изменяет память, всё-таки он ненамного пережил войну. Говорят, что сапёры ошибаются раз в жизни. И он не ошибся – просто вскоре после войны умер от инфаркта.
Вечерами, чаще всего при «коптилке» (стекло лампы, полученной у князя Мышецкого, давно разбилось), мама учила меня писать на разлинованной газетной бумаге «палочки», нолики, цифры, буквы, которые я уже отлично знал, но складывать буквы в слова у меня не получалось никак. Только самые простые элементарные слова из двух слогов я был в состоянии прочитать, да и то скорее всего потому, что просто узнавал их. Но начать читать по-настоящему я никак не мог. У меня был какой-то барьер, и казалось, что я никогда не сумею его преодолеть.
Всё лето 1942 года мы с мамой ожидали приезда отца, который должен был взять нас в Москву. Дело это было непростое – детей всё ещё вывозили из Москвы, а въехать туда с ребёнком было задачей исключительной трудности. То есть требовался специальный пропуск как для мамы, так и для меня – для въезда в Москву, которая всё ещё находилась «на военном положении».
Мы продолжали жить в артистических гримёрных цирка шапито, и я наблюдал жизнь цирковых артистов, репетировавших на пустом манеже каждый день, несмотря на нечеловеческую жару на солнце, когда температура достигала пятидесяти и более градусов (в тени же было не более 270).
Вечерами, когда становилось прохладно, собиралась вся цирковая «семья». Это было довольно пёстрое общество. Главным администратором официально считался Семён Ильич Добрыкин, исполнявший эти обязанности в харьковском цирке. Он был душой таких вечерних посиделок. Его цирковые истории были всегда смешными, а помнил он их бесчисленное множество. Одна из них особенно запомнилась. Когда-то в 20-е годы одну молодую лошадь списали из цирка в городской коммунхоз за исключительную недисциплинированность и нежелание учиться и подчиняться дисциплине на манеже. Как-то, шагая по улице уже «на новой работе», лошадь услышала звуки духового военного оркестра и неожиданно начала делать то, чего от неё не могли добиться в цирке – остановилась и начала танцевать! Танцевала она, конечно, насколько ей позволяли оглобли и сбруя, но вся улица зачарованно следила за её танцевальными па. Добрыкин говорил, что когда эту историю рассказали директору цирка, то он кратко выругался по адресу лошади.
Сына Добрыкина Илюшу я встретил неожиданно спустя 22 года во время своих первых гастролей в Херсоне, где он был в ту пору директором местной Филармонии. Перед самым нашим отъездом в Москву в 1942 году его мобилизовали в армию вместе со «стариком» с большой окладистой бородой – плотником Орловым и клоуном Баевым, выступавшим на «раусе» перед «театром». Орлову оказалось 27 лет! Он прикидывался стариком, но паспорт точно указывал его возраст. Баев не был женат, и только артисты цирка жалели, что его нет – как-никак он выполнял важную работу по зазыванию публики в наш «театр».
Родители Илюши Добрыкина сходили с ума – как-никак единственный сын! Вскоре они получили от него письмо. А приехавший во Фрунзе отпускник рассказал Добрыкиным, что он попал в зенитную батарею на советско-афганской границе. Там Илюша и прослужил всю войну в полной безопасности. Пути Господни неисповедимы!
Созревали в цирковой семье и свои драмы. Помощником Добрыкина был Эренгросс– польский еврей, примерно пятидесяти лет, перебравшийся на советскую сторону после раздела Польши и, главное, сумевший заниматься получастной антрепризой – он постоянно организовывал какие-то концерты – то в Городском парке, то на окраинах, то в воинских частях. Его молодая, 27-летняя красавица жена Муся была беременна и вскоре уже не могла выступать на сцене. Она и её ещё более молодая 18-летняя заместительница Виолетта были «ассистентками» в номере фокусника, или, как теперь говорят, «иллюзиониста» Яши Руденко, тоже, конечно харьковчанина. Я часто болтался днём за кулисами «театра» и видел все секреты его фокусов. Главным номером его выступления было «поднимание в воздух женщины с помощью гипноза». Проделав несложные пассы для «усыпления» ассистентки, выходившей на сцену в шикарном чёрном вечернем платье, Руденко помогал ей лечь на кушетку, укрывал её полупрозрачной накидкой, после чего стоял за ней сзади в то время, когда женщина действительно отделялась от кушетки и медленно поднималась в воздух. После этого Яша (как и все фокусники мира, показывавшие этот несложный номер) описывал специальным эллипсовидным обручем вокруг всего тела парящей в вечернем платье спящей красавицы круги, обводил им со всех сторон, ясно доказав публике, что она ничем не привязана и действительно находится в воздухе с помощью непонятной силы. Номер всегда производил громадное впечатление.
У Руденко была жена и маленький сын Сеня, мальчик лет четырёх. Как-то раз, когда Руденко окончил свой номер, а за ним последовал номер жонглёров Захаровых, я увидел Яшу и Мусю, жену Эренгросса, страстно целующимися, и оттого потерявшими бдительность. Оторвавшись от Муси, Руденко меня заметил и многозначительно на меня посмотрел. Как ни странно, но я умел хранить такие секреты и не рассказал об этом никому, даже своей маме. Я бы так и не знал, чем кончилась эта история, если бы мой отец в ноябре 1944 года не поехал в гастрольную поездку на целый месяц с группой артистов московского Театра оперетты в только освобождённые города Северного Кавказа – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и другие. Переезжая из города в город, на каком-то полустанке он увидел радостно приветствовавших его наших фрунзенских циркачей – тут были Яша Руденко с Мусей и ещё несколько человек, также посланные для концертов в освобождённые от оккупации районы. Они ему рассказали, что Эренгросс, проворовавшись, удрал в неизвестном направлении, остальные уже вернулись в Харьков или на пути к нему. О своей семье Руденко не сказал ничего – всё и так было ясно…
* * *
Я познакомился с дрессировщиками медведей Филатовыми – старый Филатов занимался с медведями почти ежедневно, а молодой – его сын Валя – работал под наблюдением отца, то есть проводил репетиции так, как это должно было происходить на настоящем цирковом представлении. Валя, (пусть меня простят за такую фамильярность, но тогда никто его иначе не называл) несмотря на очень молодой возраст – ему было не более 22 лет, – уже был женат, но казался совсем ещё юношей.
Когда я увидел Валентина Филатова на манеже Московского цирка в середине 50-х годов, я его не узнал – это был солидный шатен, а не юный блондин! Время изменило его внешность и манеру сценического поведения – теперь он сам был «боссом», хозяином своего аттракциона и стал всемирной знаменитостью.
Как-то раз, летом того же 1942 года во время репетиции медведица убежала с манежа, и я, сидя рядом с женой Вали, стал страшно волноваться. С нами сидела ещё одна девочка, дочь цирковых артистов. Моя мама пошла звать меня на ужин и в проходе на манеж встретила бегущую к ней навстречу огромную медведицу! Можно было понять её состояние. Она замерла от страха и за себя и за меня, но медведица не обратила на неё никакого внимания, и, описав за кулисами круг, вернулась на манеж. Её никто и не собирался искать! Кстати эта же медведица ещё в марте, сидя в клетке, стащила с моей ноги валенок с калошей, воспользовавшись тем, что я подошёл слишком близко и думая, вероятно, что это что-то съедобное. Со мной рядом была тринадцатилетняя девочка, она оказалась достаточно сильной и стала тащить меня назад от клетки, хотя потом призналась, что при этом тряслась от страха! Словом – это была та самая медведица. А скоро у неё родились два прелестных медвежонка. Их так хотелось погладить, но меня все предостерегли, в том числе и сам Филатов-папа: ни в коем случае близко к ним подходить нельзя, их когти вполне могут снять с человека скальп! Так ежедневно я видел трудную и часто опасную жизнь артистов цирка, их тяжёлый, многочасовой ежедневный труд, результатом которого было выступление на манеже, длящееся порой всего несколько минут. Циркачи были так же преданы своему ремеслу, как и музыканты-виртуозы, артисты балета или певцы. Вся их жизнь была подчинена дисциплине ежедневного труда.
* * *
Несмотря на то, что Фрунзе был довольно живописным городом (почти из любой его точки были видны вдалеке потрясающей высоты, покрытые снежной шапкой горы), но осень 1942 года была довольно тоскливой. Становилось холодно, а никакого отопления в цирковых комнатах, как уже говорилось, не было. Пошли дожди. Сводки с фронтов становились всё более тревожными. После некоторой эйфории подмосковной победы снова нависла опасность нового немецкого наступления – оно началось теперь уже на юге – Кавказ, Волга, Сталинград… Впрочем, Сталинград в сводках ещё не упоминался, но все понимали цель нового немецкого прорыва – отрезать центр России от каспийской нефти с выходом к Сталинграду и потенциально осуществить новое, более глубокое, и ещё более опасное окружение всего центра России с юга.
В такой ситуации наше с мамой возвращение в Москву становилось ещё более проблематичным, а возможность получения пропусков всё менее вероятной. Что было делать, мой отец представлял себе плохо.
Как-то в сентябре 1942 года отец в перерыве между двумя звукозаписями, после обеда, выдаваемого в ресторане «Арагви» по специальным талонам для работавших в Москве гражданских специалистов, шёл по улице Горького, размышляя о том, с какого конца начинать почти бесполезные хлопоты о разрешении на реэвакуацию мамы и меня. Он встретил своего старого приятеля Израиля Марковича Ямпольского (племянника знаменитого профессора А. И. Ямпольского), который шёл в компании какого-то молодого симпатичного человека. Ямпольский представил своего знакомого, который оказался директором фабрики, производившей важные детали для парашютов. Разумеется, это была «военная тайна» и никто об этом не должен был знать. Новый знакомый отца оказался человеком необычайно жизнерадостным, он был готов дать совет и помочь в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Михаил Павлович Яблонский оказался добрым ангелом для нас с мамой. Он нашёл блестящий выход из положения. Благодаря тому, что он знал всех, от кого зависело решение подобных вопросов на уровне района (что было вполне достаточным в этой ситуации), Яблонский сумел добыть для мамы и меня два пропуска в Москву с подписями и печатями. Пропуска были выписаны как вызов на работу в систему «Трудовых резервов» для моей мамы, а для меня также отдельный пропуск, как для «сопровождающего её сына». Помню эти драгоценные длинные и узкие белые пропуска, которые мы увидели в руках отца, когда он приехал за нами во Фрунзе. Для меня не было лучшего подарка, чем возвращение в любимую квартиру в Москве на Большой Калужской. После прошедших 16 месяцев со времени нашей эвакуации в Свердловск в июле 1941, то есть немногим меньше полутора лет, казалось, что мы не были в Москве целую вечность!









































