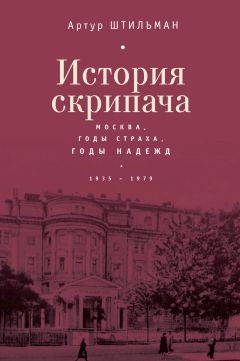
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Весной 1945 года, месяца за два до окончания войны, мой дядя взял меня как-то на репетицию Давида Ойстраха, игравшего с оркестром Концерт для скрипки Чайковского. Как и все мои соученики, я обожал слушать игру Ойстраха по радио. Звук его скрипки казался огромным, мощным, красивым и выразительным, он лился из репродукторов или радиоприёмников широкой, тёплой волной. Я себе представлял Ойстраха заочно совсем по-другому – ну, примерно так, как выглядел в юношестве его сын Игорь (или как его звали в школе и дома – Гарик). Ойстрах оказался немного лысеющим, довольно полным и солидным дядей, игравшим на скрипке с большой лёгкостью, но я не узнавал в Большом Зале Консерватории его звука! Он казался совсем не таким сильным, большим и мощным, как по радио, хотя и несомненно красивым, но вообще всё выглядело совершенно по-иному. Можно сказать, что я встретил совсем другого скрипача, нежели того, которого слушал много лет по радио. Конечно я знал, что Давид Ойстрах выдающийся музыкант и виртуоз, но я вспоминал, что звук Буси Гольдштейна полностью заполнял зал Консерватории – он звучал в зале так, как скрипка Ойстраха звучала по радио. Признаться, я был разочарован своей первой встречей с искусством Ойстраха. Только через лет пять я начал понимать его значение скрипача и музыканта, впервые сыгравшего в Москве Концерты для скрипки с оркестром Эльгара и Уолтона, как и Концерт Сибелиуса, кажется никогда не игравшийся до 50-х годов со времени первого исполнения этого сочинения проф. Л. М. Цейтлиным в 1912 году.
Как-то осенью 1945 года, придя домой из школы, я услышал от моей бабушки новость, как видно сильно взволновавшую её: «К нам едет Ехуда Менухин!» «А кто это такой?» – поинтересовался я.
«Это американский Буся Гольдштейн». Это уже меняло дело – игру Буси Гольдштейна я успел полюбить и понимал, что «американский Буся» тоже должен был быть замечательным скрипачом.
В действительности Иегуди Менухин был старше Гольдштейна на шесть лет, так что можно, пожалуй, скорее назвать Бусю Гольдштейна «советским Менухиным». Иегуди Менухин снискал себе мировую славу ещё в 1929 году! Придя на следующий день после разговора с бабушкой в школу, я встретил в библиотеке свою соученицу Люс Вульфман, осторожно вырезавшую портрет Менухина из журнала «Огонёк». «Что ты делаешь?» – шёпотом спросил я. «О-о-о… Ведь это МЕНУХИН! Понимаешь? Это гениальный скрипач!» «Ты его слышала? Где?» – спросил я так же шёпотом. «У нас дома есть его пластинки…» – сказала она, продолжая своё занятие.
Надо сказать, что Люс (правильнее вообще-то Л юз – «свет» по-испански) имела гораздо большее представление обо всём, касающемся мировых знаменитостей, так как её отец – Владимир Вульфман – был преподавателем по классу скрипки в Школе и Институте им. Гнесиных. Как я уже рассказывал, в конце 20-х годов был послан за границу учиться вместе с рядом других молодых музыкантов. Это уже был «второй отряд» молодёжи, посланных Наркомпросом (Комиссариатом просвещения – главным образом А. В. Луначарским) за границу «для продолжения своего образования и совершенствования исполнительского мастерства».
Как известно, первые посланцы – Владимир Горовиц и Натан Мильштейн из этой заграничной командировки не вернулись, но Вульфман, женившись в Париже на испанке (как кстати и композитор Сергей Прокофьев), вернулся в СССР вместе со своей молодой женой. В Москве у них родились две дочери. Старшая Люс и была моей соученицей. Но такого восторга «Люши», как её все звали, перед Иегуди Менухиным ещё до его московского концерта я не понимал. Понятно, что она знала о нём гораздо больше меня.
Теперь её энтузиазм передался и мне. Я попросил отца и своего дядю как-нибудь провести меня на концерт Менухина.
Ни на репетицию в Зале Чайковского, ни на первый концерт Менухина в Большом зале Консерватории мне попасть не удалось. Единственно, что мог сделать мой дядя, это попросить своего коллегу Александра Ратнера («Сашу») – человека бывалого и ветерана войны – провести меня без билета и усадить на лестнице первого или второго амфитеатра. Ратнер был секретарём профсоюзного комитета Госоркестра и действовал бесстрашно. Мы подошли с ним к контролю и он, предъявив своё удостоверение, прошёл мимо билетерш, ведя меня за руку. «Вы с мальчиком?» – резонно спросили они. «Да! А вы хотели бы, чтобы я пришёл с девочкой?» После такого демарша билетерши без борьбы пропустили нас в зал.
Действительно – весь Большой Зал Консерватории был забит буквально до самого потолка. Даже на лестнице я с трудом нашёл место, чтобы сесть на ступеньку.
Иегуди Менухин оказался совсем молодым блондином, приветливо улыбавшимся публике. Он нёс скрипку какого-то небывало жёлто-лимонного цвета. Как мы потом узнали, инструмент работы итальянского мастера Гальяно, который Менухин взял на время в Лондоне, оставив свой собственный инструмент для ремонта в мастерской знаменитого мастера Хилла. На этом концерте Иегуди Менухин выступал с пианистом Львом Обориным в сонатном ансамбле. Они исполнили Сонаты Энэску, Франка, Дебюсси и Бетховена.
И снова чудесный, полный, какой-то «золотой» звук скрипки легко заполнял весь Большой Зал Консерватории. Менухин, казалось, едва прикасался к инструменту своим смычком, но его скрипка доносила до самых дальних рядов тончайшие детали исполнения – самый нежный и тихий нюанс скрипки и фортепиано был превосходно слышен в любой точке зала. Надо сказать, что Лев Оборин оказался исключительно тонким партнёром Менухина – чутким, никогда не заглушавшим голос скрипки, но и не стеснявшимся играть полнозвучно в тех местах, где это было необходимо. Сегодня мы можем услышать в записи на плёнку тот незабываемый концерт двух изумительных музыкантов и убедиться в том, что наши тогдашние впечатления от этого экстраординарного выступления полувековой давности были абсолютно правильными и нисколько не подверженными аберрации памяти.
Теперь, в 2009 году, на интернетовском сайте You-Tube можно даже увидеть полностью совместное выступление Менухина и Ойстраха в Зале имени Чайковского в Концерте И. С. Баха для двух скрипок с оркестром под управлением проф. А. И. Орлова. Музыканты, слушавшие или принимавшие участие в том концерте, говорили, что Давид Ойстрах страшно волновался. Теперь мы видим и слышим, что это было совсем не так. Это изумительное выступление двух всемирно известных скрипачей, быть может, было одной из лучших вообще в XX веке трактовок этого сочинения. Если правомочно такое сравнение игры обоих артистов, то, слушая это видео сегодня, приходишь к выводу, что Иегуди Менухин в тот вечер «разговаривал» с Богом, Давид Ойстрах – с Бахом…
А вообще-то московская публика на концерты Менухина реагировала как-то вяло… То ли после всего пережитого – война ведь только-только закончилась – то ли вообще от всей жизни, но реакция публики явно не была адекватной явлению гения в Москве. Возможно также, что публика ждала обычной виртуозной бравуры от всемирно известного скрипача. А вместо этого получила сонатный вечер, Концерт Бетховена и Двойной концерт Баха. В Москве это было тогда совсем «не в моде». В любом случае, когда Менухин приехал в Москву во второй раз, в музыкальную жизнь пришло новое поколение слушателей и молодых музыкантов, и реакция на его концерты в Москве в 1962 году была совершенно иной.
* * *
В октябре 1945 года произошло необыкновенное событие – в Парке им. Горького открылась выставка немецкого трофейного оружия. Её стали называть просто – «Трофейная выставка». Она занимала пространство от входа в Парк со стороны Крымского моста до Зелёного театра – расстояние примерно в полтора километра. В павильонах размещались выставки немецкого обмундирования – войскового, эсесовского, родов войск, орденов, полицейской техники, включая наручники, резиновые дубинки, плётки. Были там и все виды стрелкового оружия – пулемёты, миномёты, гранаты, пистолеты, автоматы, а также все виды артиллерии, включая даже экземпляр «Большой Берты» – пушки на железнодорожной платформе, обстреливавшей Париж в 1918 году. Не знаю, насколько эффективной оказалась в войне эта пушка-монстр, но выглядела она устрашающе. Гаубицы на литых колёсах были хорошо знакомы по кинохроникальным и документальным фильмам. Были, конечно, представлены и танки – «Тигры», «Пантеры» «Фердинанды» (идиотское «изобретение» самого Гитлера – огромная самоходная пушка в уродливой квадратной башне с гигантским отверстием позади. Башня не двигалась в стороны, и пушка могла стрелять только при повороте всей махины самоходки). Был представлен весь воздушный флот нацистской Германии – штурмовики «Юнкерс-88», истребители «Мессершмитт» и «Фокке-Вульф», тяжёлые бомбардировщики, самолёты-разведчики даже один реактивный истребитель – также «Мессершмитт». Были представлены и японские самолёты – истребители «Митцубиси», бомбардировщики, разведывательные. Интересно, что обычные одномоторные «Митцубиси» развивали скорость, согласно надписям у каждого экспоната, до 550 км в час! Это была огромная скорость для самолётов тех лет! В целом выставка была самым посещаемым местом в Москве, а мальчишки ходили на неё почти каждый день! Вскоре многие уже знали все технические характеристики танков, грузовиков, самолётов и всего остального. Выставка просуществовала, кажется, до конца 1946 года. Она давала ясное представление о том, какой противник был побеждён в этой великой войне! Если помножить всё представленное на выставке на немецкую дисциплину и организованность, то результат войны после посещения выставки казался совершенным чудом! Чудо это стоило очень дорого – кажется, вся страна надорвала свои силы и уже никогда не смогла полностью оправиться от великой, но так тяжело доставшейся Победы.
* * *
Учебный год, окончившийся весной 1946 года, оказался для меня успешным как по общим предметам, так и по специальности (я сыграл с большим подъёмом Восьмой концерт Шарля де Берио, сочинение, которое очень полюбил и, надо сказать, работал над ним с большим энтузиазмом). Как-то сам для себя нашёл правильные соотношения динамики и экспрессии главных тем. Постепенно Концерт становился для меня чем-то очень близким и любимым. Даже традиционные вопли в классе моей учительницы Анны Яковлевны «Ширре звук!» и «Больше жизни!» перестали мне мешать. Я просто занимался своим делом и старался побольше репетировать с пианисткой. Пожалуй, после моего дебюта на эстраде в декабре 1943 года с концертом Ридинга, а потом выступления с Концертом Бруха, это было моё первое, уже вполне уверенное, можно сказать, артистическое выступление – я знал, чего хотел, знал, как это сделать и делал на эстраде то, что подготовил, но с каким-то особым праздничным чувством и удовольствием. Кажется, это было замечено и членами жюри. Помню внимательные лица Ю. И. Янкелевича, М. А. Гарлицкого, А. Манилова, а также брюзгливо-неприязненное лицо методиста Константина Родионова. Он невзлюбил меня раз и навсегда. Бывает…
Лето, лето!
Глава 4
Одесса летом 1946 года
В то лето родители решили не снимать дачи под Москвой, а взять в Союзе композиторов «путёвки» в Дом творчества композиторов под Одессой. Ничего более нелепого в 1946 году нельзя было придумать! Впрочем, они были не одиноки. Там же решили провести почти два месяца старый приятель отца – композитор Владимир Георгиевич Ферэ с женой и с сыном, композитор Салиман-Владимиров с женой, двумя сыновьями и дочерью, жена и дочь композитора Баласаняна. Приезжал на несколько недель к своей семье знаменитый пианист Григорий Гинзбург. Почему все ринулись в Одессу? Ведь все знали, что Одесса в результате боёв почти полностью разрушена – уцелели только Оперный театр и нескольких зданий в центре. И всё-таки вполне благоразумные люди решили ехать с семьями для отдыха в совершенно неподходящее место!
Я не горел желанием вообще уезжать из Москвы, так как в недалёком прошлом «всласть» наездился на поездах. Конечно, на этот раз поезд шёл «всего» только три ночи. Мы приехали среди дня на абсолютно разгромленный вокзал. Собственно, от вокзала уцелела какая-то арка, часть здания, а в основном всё было наскоро сколочено из фанеры. Перрон сохранился, но он тоже был ещё не готов встречать поезда, и мы подъехали к низкому перрону, а потом спускались с вагонной лестницы почти на землю. За всеми нами приехал из Дома творчества автобус – совершенно обшарпанный, помятый, но двигавшийся довольно уверенно. Это был бывший военно-санитарный автобус, списанный из армии после окончания войны.
Мы недолго поплутали среди развалин по кое-как расчищенным проездам между ними и выехали на Приморское шоссе, которое вело к станции Шестнадцатый Фонтан. Почему Шестнадцатый и почему «фонтан», никто толком не мог объяснить. «Шоссе» оказалось дорогой наподобие застывших морских волн. Довольно высоких волн. Конечно, взбираясь на «гребень волны» а потом опускаясь вниз, автобус не полностью исчезал из поля зрения едущих сзади (впрочем – ни спереди, ни сзади никто не ехал). И вдруг с левой стороны, где я сидел у окна, открылся вид на море! Это было чем-то невероятным и неописуемым! Вода и справа, и слева, и далеко впереди! Столько воды?! До того дня кроме Москвы-реки я никаких водных гладей вообще не видел. А тут – серое море, даже не море, а что-то гигантское тёмно-серое (была пасмурная погода) – и, как оттеняющая декорация, белёсое небо лишь подчёркивало невиданную мной и другими детьми бескрайнюю громаду воды и её ширь. Впечатление было огромным, и я перестал жалеть о нашем путешествии. Ради этого одного стоило приехать в Одессу!
Вторым зрительным впечатлением от вокзала до Шестнадцатого Фонтана, кроме моря, конечно, было огромное количество валявшихся повсюду красно-оранжевых обручей. Это были части обезвреженных мин. Ими было усеяно всё вокруг. Их было тысячи, наверное, сотни тысяч – в Одессе и на побережье. Какую нечеловечески опасную работу проделали сапёры Красной Армии для того, чтобы люди могли просто ходить по улицам! Или по тому, что от этих улиц осталось…
К морю мы пока не спускались. Берег этого «Шестнадцатого Фонтана» был очень высоким, и вниз вело много более или менее крутых спусков, серпантинных немощёных дорог для машин и пешеходов. Но все пока воздерживались от спуска к морю из-за красных колец – обручей от мин.
Постепенно наиболее инициативные ребята постарше решили испробовать самую удобную дорогу к морю и стали пользоваться ею. В собравшейся там компании были уже ребята 16–18 лет. Среди них старший сын композитора Салимана-Владимирова Павел, сын Григория Гинзбурга Лёва (будущий музыкальный журналист «Лев Григорьев») и другие юноши даже и постарше.
Оказалось, что до Революции здесь, на этой огромной даче, летом жил Пётр Соломонович Столярский со своими питомцами – целой детской музыкальной школой! Там он занимался с ними и работал целыми днями. Иногда дети приходили к нему на урок по два раза в день! Этим детям поистине нужно было обладать крепким здоровьем, чтобы в летней жаре ежедневно играть по много часов на скрипке, да ещё и заниматься со Столярским! Как-то под вечер мы прогуливались с отцом по немногочисленным дорожкам вокруг Дома творчества и встретили седую даму, казавшуюся мне тогда довольно пожилой, хотя и не старой. Оказалось, что отец был с ней знаком. Это была мама легендарного Буси Гольдштейна!
Я, затаив дыхание, слушал почти часовой разговор моего отца с Сарой Иосифовной Гольдштейн. Разговор скорее был её монологом и касался концертной работы вундеркиндов, сравнению методов работы с учениками профессоров Столярского, Ямпольского, Мостраса и Цейтлина. Всё это было захватывающе интересным! Сара Иосифовна довольно критически отзывалась о методе работы с юными одарёнными учениками – «вундеркиндами» – профессора Ямпольского. Почему? Потому что она считала, что только концертный опыт начинающего артиста позволяет ему расти гораздо быстрее, чем посещение ежедневных занятий по школьной программе, когда выступления на эстраде ограничиваются несколькими случаями в течение учебного года только на ученических концертах, а самостоятельные сольные концерты дети почти не играют. В этом была своя правда. Если конечно иметь в виду таких вундеркиндов, как Иегуди Менухин, Буся Гольдштейн, позднее Майкл Рабин или Ицхак Перельман. Но в 1946 году сомнения в методе самого профессора Ямпольского показались мне прямо-таки невероятными! Я никогда до того не слышал и слова критики в адрес такого знаменитого профессора. Кстати говоря, все анекдоты о «Бусиной маме», начавшиеся с лёгкой руки одной газеты, напечатавшей фельетон о Саре Иосифовне ещё до войны, были, безусловно, недобросовестными и вообще, можно сказать, «недоброкачественными». Они носили слегка антисемитский привкус, кто бы их ни рассказывал. Сара Иосифовна излагала свои мысли прекрасным русским языком интеллигентного человека. Иначе и быть не могло – ещё до революции она с мужем содержала частную гимназию в Одессе.
Она же и рассказала нам, что на этой главной даче «Шестнадцатого фонтана», где теперь размещался композиторский Дом творчества, летом жил Столярский со своими питомцами.
* * *
Естественно, что всех детей привлекали знаменитые одесские катакомбы. Входов в эти катакомбы было очень много со стороны моря, а иногда и во дворах окрестных жителей. Но всем строго-настрого запретили даже приближаться к ним. Вполне возможно, что ещё не все мины были обезврежены, так как немцы очень плотно запечатывали партизан, как-то сумевших жить в этих катакомбах и даже делать иногда вылазки против оккупантов. Через год – кажется, в 1947-м – начала печататься в журналах и передаваться по радио книга Льва Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына», посвящённая памяти мальчика Володи Дубинина, подорвавшегося уже после освобождения на немецкой мине. В 90-е годы появились статьи и начались разговоры, что никакого Володи Дубинина вообще не было, что всё это пропагандистские выдумки Кассиля и его соавтора. Всё могло быть. Но для нас, тогдашних детей, это был дорогой символ. И Володя Дубинин, и молодогвардейцы. Я часами слушал по радио в Москве передачи глав из «Молодой гвардии» Фадеева. Для меня и сегодня совершенно безразлично, что Фадеев придумал, а что было правдой. Странно? Нет, нисколько. Эти молодые ребята отдали единственную ценность, которой они обладали, – свою жизнь, – и потому, что бы они ни сделали, сам факт хоть какого-то сопротивления нацистам стал и символом и очень дорогой иллюзией (если даже и был ею), с которой большинство моего поколения вряд ли когда-нибудь расстанется. Мы были искренними патриотами и так любили свою страну! А она, как показала жизнь, всё меньше и меньше любила нас, и постепенно – год за годом – сделала из нас будущих потенциальных, а впоследствии и реальных эмигрантов!
Вернёмся в Одессу лета 1946 года. Мои приятели нашли какое-то подобие входа в катакомбу, правда, на высоте метров тридцати над пляжем, то есть над уровнем моря. Туда вела узкая дорожка вдоль отвесной стены. Но перед самым входом дорожка обрывалась, и нужно было прыгнуть на её продолжение – расстояние было метр с небольшим. Но внизу чернела пропасть минимум в 30 метров! Было страшновато. Но в 11 лет ещё никто не испытывал головокружения, и мы по очереди делали прыжок. В общем, оказалось, что за входом была маленькая пещера, пол которой был засыпан местными растениями. Эту пещеру явно по вечерам посещали смельчаки – влюблённые парочки. Как-то раз снизу мы увидели такую молодую пару. Наверное, это приключение придавало их встречам особую романтическую остроту.
Заниматься на скрипке, хотя бы даже и на бывшей даче Столярского при такой жаре становилось просто невмоготу. Питьевая вода, как и в большинстве приморских городов, включая средиземноморские города Испании или Израиля, как я это выяснил в 80-е годы, была довольно солёной, что скоро начало влиять на наши желудки.
Два события за время нашего пребывания в Одессе запомнились довольно ярко. Как-то раз мы с отцом и его приятелем композитором Владимиром Георгиевичем Ферэ поехали в город на рынок – знаменитый одесский Привоз. Я был очень разочарован видом этого хотя и большого базара, – он ни в какое сравнение не шёл с фрунзенским рынком времени нашей эвакуации в 1942 году. Яблоки тут были совсем небольшими, арбузы не слишком аппетитными, лук маленький, дыни тоже какие-то не те. Единственно, что впечатляло, – это рыбные ряды. Тут действительно были такие виды рыб, которых мы никогда не видели в Москве. Особое впечатление произвела на меня совершенно плоская камбала. Ну, и кроме камбалы запомнились одесситы, говорившие все без исключения с идишистским акцентом, всегда что-то яркое и остроумное. С «одесским» акцентом говорили все – и русские, и украинцы, и вернувшиеся в свой город евреи, в общем, вся многонациональная Одесса говорила на своём, хотя и вполне понятном, наречии.
После посещения рынка мы вместе с Ферэ попытались найти какой-нибудь общественный туалет. Вошли на одной из недалёких от рынка улиц в разорённый войной четырёхэтажный каменный дом. Лестница была без перилл, мы стали медленно подниматься по такой лестнице, державшейся только на одной стене. Это было с нашей стороны очень неосторожно, но, кажется, мальчишеский азарт овладел моим отцом и его другом. Мы поднялись на третий этаж. Все комнаты стояли без дверей, оконных рам и вообще каких бы то ни было следов прошлой жизни и присутствия людей – ни остатков мебели, ни вещей, ничего. Только крошево от обвалившихся кирпичей и штукатурки. В потолке была дыра до самой крыши, и открывался вид на небо. Все стены, однако, были расписаны надписями, примитивными порнографическими рисунками со стихами по-русски. Я не заметил ни одной надписи по-немецки. Вид из оконного проёма большой комнаты меня потряс – окна выходили на море. Мы постояли несколько мгновений.
Вдруг как из-под земли возник офицер-пограничник! «Ваши документы! Что вы здесь делаете?» – довольно грозно произнёс офицер. Отец и Ферэ предъявили свои документы, которые капитан (как я понял, взглянув на его погоны) внимательно изучал. Потом он задал много вопросов – где кто работает, что мы вообще делаем в городе, и так далее. После всего он сказал довольно строго, чтобы мы больше никогда не ходили по необитаемым домам – прежде всего потому, что там ещё могут быть необезвреженные мины, и, во-вторых, потому, что власти запрещают посещение необитаемых развалин вообще всем жителям города, чего мы, конечно, не знали. Он любезно всё-таки указал нам место недалеко от дома, пригодное для туалета.
Второй наш выезд в город был посвящён посещению Одесской Оперы. Все одесситы вполне уверены, что их оперный театр – «копия венского». Нас даже уверяли, что «строил тот же архитектор». Действительно, этот театр похож на венский, но не на Штатсопер, а на Бургтеатр, то есть Городской театр.
Сцена одесской Оперы видела в прошлом великих гастролёров – Карузо, Баттистини, Шаляпина и многих других мировых звёзд. Да и в самой Одессе ещё до революции пели знаменитые на всю Россию собственные её певцы.
В тот вечер шла «Царская невеста» Римского-Корсакова. Насколько помню, певцы были вполне хорошие, профессиональные, особенно женские голоса. Неплохо звучал небольшой оркестр. Хор был слабый. Мы тогда не знали, что одесская Опера функционировала во время оккупации. Кто были те люди, которые остались в городе? Они пели, репетировали с хором, художники готовили декорации, костюмеры подгоняли на артистов сценические костюмы, хормейстеры и дирижёры были заняты своим делом… Кто же были эти люди? Имена их сегодня известны. Но вопрос мой – «кто» – относится не к фамилиям, а к их, так сказать, социальному статуту – во время войны их можно или нужно было рассматривать как предателей-коллаборационистов? Или как людей, делавших героические усилия для поддержания какой-то видимости культурной жизни в оккупированном городе? Наверное, даже и сегодня однозначного ответа на этот вопрос нет. Хотя в это же время в другой части Одессы в ямах и рвах расстреливали не успевших эвакуироваться евреев. Пятнадцать человек – родственников моего отца – от младенцев до глубоких стариков было убито в одной из таких ям. Румынами или немцами? Мы не знали. Знали только, что всех убили…
В антракте спектакля кто-то обратил наше внимание на многих женщин, у которых были марлевые повязки на правой ноге пониже колена. Оказалось, что эти молодые женщины во время оккупации были «мобилизованы» нацистами в армейские бордели для «обслуживания» своих солдат и офицеров. Повязки они носили из-за татуировки на голени (или икре). Их было довольно много, этих женщин. Все они были хорошо одеты, причёсаны и вообще имели вполне приличный вид. Не их была вина в том, что случилось. Во всяком случае, они были на свободе, не арестованы, и хотя ещё ходили с повязками, но казалось, что окружающие вели себя с ними совершенно нормально, без какого бы то ни было предубеждения.
Одесситы участливо, как видно, относились к происшедшему с ними. У них было доброе сердце. В том моём возрасте я об этом не столько размышлял, сколько ощущал это.
* * *
Колония московских композиторов жила своеобразной жизнью – даже и на отдыхе. Один композитор играл на пианино в своей комнате до бесконечности одну и ту же тему. Как-то отец его спросил, почему он играет часами всё ту же короткую мелодию? Ответ композитора меня тогда удивил: «Видите ли… Когда я играю свою тему, я надеюсь, что придет её продолжение…». Потом уже в Москве кто-то из композиторов узнал, что его мелодия «перекочевала» в песню другого композитора… Было, говорят, шумное разбирательство. Кому присудили авторство, я не знаю. Знаю только, что такое происходило и в композиторском доме на Малой Миусской улице не раз. Слышимость между стенами квартир была превосходной.
Не дождавшись окончания срока наших путёвок, мы с родителями вынуждены были уехать дней на десять раньше, так как состояние моего кишечника из-за постоянного «слабительного» – солёно-горькой питьевой воды – стало угрожающим. Мы выехали на вокзал на машине «Форд», принадлежавшей, согласно легенде, американскому консулу (которого в Одессе тогда, конечно, не было). Директор Дома творчества Блок заверил отца, что заплатить шофёру надо 200 рублей. С нами ехала ещё одна семья. Когда мы приехали на вокзал, шофёр потребовал в ультимативной форме по 250 рублей с каждой семьи! То есть в два с лишним раза больше оговорённой суммы! Блок мудро не детализировал таких «мелочей», и родители как-то договорились с шофёром на 200-х рублях за каждую семью. В этом тоже была Одесса.
После трёхдневной ужасающей жары в вагоне – по дороге кто-то сошёл с поезда из-за сердечного приступа – мы наконец приехали в Москву. Как было приятно снова очутиться дома!
Так как было ещё начало августа, то мои родители решили снять дачу на оставшийся месяц. Кто-то познакомил маму с милейшей женщиной, доцентом Института эндокринологии Ниной Сергеевной Лаготкиной, обладательницей дачи в Салтыковке. Она не носила фамилии мужа. Его фамилия была Рыков, и когда моя мама узнала об этом, она сказала понимающе Нине Сергеевне: «Ого!» Борис Васильевич Рыков был одним из заметных авиаинженеров ЦАГИ в Жуковском. Он, кажется, как однофамилец расстрелянного бывшего премьера Рыкова, был ненадолго арестован перед войной, но отпущен – то ли по ходатайству ЦАГИ, то ли по бериевской амнистии. Их семнадцатилетняя дочь Наташа Рыкова была красивой и очень способной девушкой. Она мечтала поступить в Институт внешней торговли – туда после войны надеялось поступить много молодёжи, полагая, что это даст возможность бывать за границей и вообще жить лучше и интереснее. Но большинство, конечно, туда не попадало. В 1948 году Наташа поступила в виде «утешения» в Институт иностранных языков, что было совсем неплохо и часть своей профессиональной жизни в будущем она действительно провела за границей – правда, в Чехословакии. Её мечты частично осуществились.
Пока что вечерами на их даче собиралась молодёжь и танцевала под патефон на веранде первого этажа. Мы с мамой обитали на втором этаже в комнате с балконом, довольно тёмной из-за отсутствия окон и очень густого леса, окружавшего дачу.
Всё это не имело никакого значения для меня – снова, как и во время войны, мы с моим другом Николкой, по-прежнему жившим со своей бабушкой у Констанции Игнатьевны неподалеку от нас, проводили окончание лета вместе. Мы, наконец, дорвались до футбола. Имена звёзд команд «ЦДКА», «Динамо», «Спартак», «Торпедо» вызывали у нас восторженный энтузиазм. Иногда удавалось с родителями или родственниками посетить матч на стадионе «Динамо». Позднее – летом 1947 года я видел матч ЦДКА – Локомотив на стадионе «Динамо». В том матче играл легендарный нападающий ЦДКА Григорий Федотов. Это был артист футбола. Виртуоз с совершенно незаметной техникой, вводящей в заблуждение всех защитников. Тогда футбол ещё не был сегодняшним – почти регби, когда игроков сносят с ног, калечат и вообще играют в разрушительный футбол. Тогда никакие силовые приёмы не допускались и, как правило, футбол был чистым. Иногда он был почти искусством.
Помню момент, когда Федотов получил мяч где-то метрах в 25–30 от ворот «Локомотива». Перед ним было много игроков – своих и чужих. Неожиданно почти незаметно он пробил по воротам как снайпер – в единственную открытую для него точку ворот. Вратарь даже не успел понять, что произошло, когда мяч уже находился в сетке ворот!
Несмотря на все музыкальные впечатления сезона и почти полтора месяца новых впечатлений в Одессе, остаток нашего лета прошёл под знаком футбола!
Наступил август, и у стен дачи появились нелюбимые мне цветы – «золотые шары» – символ осени и возвращения в школу. Теперь уже очень хотелось продлить лето. Впереди ждал тяжёлый учебный год.









































