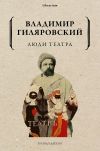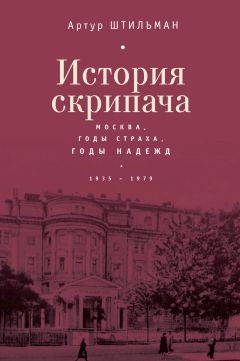
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Кто только там не выступал! Рейзен, Козловский, Гилельс, Ансамбль Игоря Моисеева, солисты балета Большого театра, словом, это был парад советского искусства за час-полтора концертного времени. Мой дядя прекрасно видел Сталина. Он рассказывал нам, что Сталин заметно поседел, но выглядел бодро, немного пил вино из бокала, курил и улыбался. Одним словом, Сталиным все остались удовлетворены, найдя его в добром здравии. Кажется, не было на земле людей – самых известных и самых простых, на которых бы он не производил большого и исключительно положительно впечатления. Вот потому-то для нас, жителей Москвы и всего Советского Союза, так невероятно не соответствовал его облик с деяньями его правительства и его подчинённых. Многие думали, иногда даже самые прожжённые западные политиканы, что если что-то в СССР и не так, то скорее всего это из-за сталинского окружения, из-за его помощников и министров, но никак не из-за него самого. Гениальный актёр держал в этой уверенности весь мир, до самой своей смерти. «Сталин не знает… Это не он…Это какие-то преступники… Хорошо бы он узнал» – так думали миллионы людей. Но завершим рассказ о том памятном кремлёвском концерте.
Госоркестр, сыграв свою программу, вместе со всеми артистами был приглашён на банкет после концерта, конечно без участия официальных лиц. Что там началось! Это ведь был 1946-й год! Пили и ели столько, что один из трубачей оркестра после банкета, как он сам рассказывал, не мог ни есть ни пить целых три дня!
После банкета инструменты повезли снова в автобусе, а всем участникам разрешили выходить из Кремля пешком через Спасские ворота. Все были естественно под очень большим «градусом». Всё, что можно было положить в карманы – папиросы, шоколад, печенье – унесли домой. Приятно было порадовать близких! Но самое замечательное музыканты оркестра узнали на следующий день: охрана Кремля не досчиталась одного человека среди вышедших из указанных всем Спасских ворот! Сверхмощная охрана Министерства государственной безопасности обыскала ночью всё, что было можно и одного человека так и не нашла. Пропавшим в Кремле был П. Л ар кин – ударник-литаврист. Он пил регулярно, но на этот раз, как видно несколько превысил свою норму из-за огромного количества и разнообразия сортов вин, коньяков и водок. Словом, Петя Ларкин исчез! Как он потом рассказывал, он проснулся утром в одном из парадных какого-то административного здания, которое оказалось случайно не запертым. Там он спал до шести утра, никем не потревоженный. Проснувшись, понял, что по дороге к своему «ночлегу» в парадном, он где-то потерял свою вставную челюсть. Встав, он, как ни в чём не бывало, пошёл к выходу из Спасских ворот. Его выпустили после проверки документов и с облегчением вздохнули, но вероятно напрасно – такое упущение – потеря на выходе из Кремля даже одного человека вряд ли прошла незамеченной. В общем, Петя Ларкин нашёлся, а его вставная челюсть так и осталась где-то в Кремле навсегда.
* * *
В мае 1948-го, как-то неожиданно, в газетах было объявлено об образовании Государства Израиль. Даже «Пионерская правда» сообщила об этом событии. Не могу сказать, что это произвело какое-то особенное впечатление внутри моей семьи – то ли потому, что мой дедушка был антисионистом (не политическим, а просто был против переезда евреев в Палестину, как мне рассказывал мой отец), то ли потому, что все, кроме бабушки, давно потеряли всякую связь с еврейством, кроме иногда употреблявшихся в разговорах нескольких фраз на идиш. Я хорошо помню, что только моя бабушка сказала: «Это хорошо… очень хорошо! Нам это не поможет, может будет и хуже… а всё равно – это очень хорошо!»
В исторической перспективе бабушка ошиблась – нам это очень помогло! Когда я был в первый раз в Израиле в 1983 году, то приехав в Иерусалим, в тот же вечер пошёл к «Стене плача» – «Ха Котель». Подойдя к Стене меня вдруг осенило – сегодня 19 августа! Это же день смерти бабушки! Если бы она могла знать, что я сейчас вспомнил её в такой волнующий момент своей жизни – впервые в Иерусалиме! Впервые прикоснулся к отвоёванной святыне! Единственный член семьи, достигший Иерусалима! Как была бы она счастлива! Но это произошло ровно через 34 года после её смерти. И всё-таки, всё-таки я почувствовал в те мгновения какую-то мистическую связь с ней и её слова – «А всё равно – это очень хорошо!»
В тот момент моя бабушка оказалась права – к концу 1948 стало хуже, много хуже… Кольцо стягивалось всё туже вокруг еврейского населения СССР.
* * *
Новая «Краткая Еврейская Энциклопедия («Тарбут», Общество истории еврейских общин, Иерусалим, 1973–2005) указывает, что даже после убийства Михоэлса судьба ЕАК ещё не была решена. «Отдел внешней политики ЦК в докладной записке секретарям ЦК А.Кузнецову и М.Суслову предложил «с целью оздоровления обстановки в Еврейском антифашистском комитете» вывести из его состава И.Фефера, Лину Штерн, Л.Квитко и других и ввести в состав Президиума С.Маршака, Б. Ионафана, И.Дунаевского, Д.Ойстраха, Майю Плисецкую».
Что это значило, если бы дело пошло по такому сценарию? Вероятно то, что в ЦК считали, что из Президиума ЕАК нужно выводить его организаторов, людей действительно связанных с еврейской культурой (кроме, понятно Лины Штерн), людей так или иначе причастных к политическим аспектам работы ЕАК, и заменить их людьми к политике никакого отношения не имевшими, да и к еврейской культуре тоже. А вообще страшно подумать, что бы произошло с этими возможными кандидатами в Президиум ЕАК – они все могли стать «кандидатами» в число расстрелянных 12 августа 1952 года!
Пока что Сталин не решился распустить ЕАК – только что образовался Израиль, на первых порах были идеи его советизации. Несмотря на международное эмбарго на поставки оружия в Палестину, СССР в обход эмбарго посылал вооружение через Чехословакию, надеясь на то, что в Израиле возобладают силы, которые приведут страну к положению Чехословакии или Польши. Так как уже к концу 1948 года стало ясно, что Израиль «смотрит» в сторону США, откуда шло и оружие, и добровольцы и даже лётчики, Сталин осознал, что коммунистам в Израиле власть не взять.
Вообще говоря, быть может это и было возможным, но из-за политики самого Сталина – не выпускать советских граждан никуда – план «советизации» молодого государства потерпел неудачу. А ведь сколько в Израиле, ещё до его официального образования было «красных» киббуцев! Мне рассказывали люди, жившие тогда в Израиле о том, что когда разворачивалось «Дело врачей» в январе 1953 года? в Израиле в таких киббуцах и красных мошавах в столовых висели портреты Сталина и красные флаги.
Так что план был не совсем утопическим, просто Сталин никогда не понимал Запада, начал опускать «железный занавес» и для его понимания ситуации был абсолютно неприемлем выпуск какого-то числа советских евреев в Израиль, даже в качестве «пятой колонны» или, если угодно – «Троянского коня». Не доверяя никому, он естественно не доверял даже и самым советским из советских евреев.
Таким образом, к концу 1948 года можно было уже «не стесняться» – в ноябре был распущен ЕАК, а с начала 1949 года его членов начали арестовывать. В том году были закрыты: все еврейские газеты и журналы, все объединения еврейских писателей и поэтов, все еврейские театры на территории всего СССР, все театральные училища и все музеи – даже отделы местных краеведческих музеев в небольших городах. Не напоминают ли эти акции начало 30-х в Германии? Очень и очень напоминают. Только пока ещё не дошло до расправ на улицах – но и это иногда случалось…
* * *
Мой «двор» реагировал на события вполне адекватно – они снова вспомнили «куплеты», которые сочинили ещё в 1947 году. Теперь опять, когда я занимался на скрипке в дневные часы, мои партнёры по футболу и хоккею устраивали такие же «спектакли» – они собирались под моим окном на втором этаже, выходившим во двор, и начинали скандировать куплеты собственного сочинения:
Ара, Ара, Ара!
Ихде твоя гитара?
Гитара моя дома,
На ней играет Тома…
«Ара, Ара, Ара!»…И так до бесконечности! Они впадали иногда в сильный раж – такое коллективное творчество значительно усиливало их эмоции и они начинали кидать в окно маленькие камни. Большим камнем можно было разбить стекло, а это уж, в любом случае, означало неприятное знакомство с «детской комнатой» милиции. Те, кто там побывал, совершенно не горели желанием снова в неё попасть.
Надо признать, что в этих куплетах ничего антисемитского усмотреть было нельзя, но тогда это, конечно, всё равно действовало мне на нервы. Они установили за мной кличку «Гитара». Это, понятно, было связано со скрипичным футляром, по своей форме напоминавшим им единственно знакомый инструмент – гитару. Самое забавное, что в этих так сказать «стихах», называлась какая-то Тома. В нашем подъезде жила только одна Тома – Тамара, старшая сестра моего ровесника и приятеля с 10-го этажа – Вовы Козырева. Их отец был превосходным маляром, но запойным алкоголиком. Мой приятель, став взрослым никогда не пил, видя своего отца часто в страшном состоянии, а иногда и в белой горячке. Володя Козырев вырос приличным и уважающим себя человеком. А его сестра почему-то (возможно из-за этих «куплетов») меня почти что возненавидела, не здороваясь и всячески выказывала мне своё презрение! Хотя я её лично ничем не обидел, но упоминание её имени в связи со мной, вероятно, её как-то обижало и даже оскорбляло.
И всё же, все эти «артисты» в целом удерживались в рамках относительного приличия – никаких прямых антисемитских выходок лично в отношении меня они не делали. Возможно, это объяснялось тем, что в детских и взрослых фильмах на экранах кинотеатров часто появлялось имя моего отца. Оно встречалось и в кино-журналах «Новости дня», которые предшествовали киносеансам во всех кинотеатрах страны в течение многих лет после войны. А может быть, втайне, они меня немного уважали – всё-таки вряд ли кто-либо из них был способен проявлять такую волю – вместо игр на свежем воздухе после школы, часами практиковаться на своей «гитаре». Была, вероятно, и третья причина – у меня был футбольный мяч. Настоящий кожаный мяч! Им чаще всего играли две дворовые команды двух разных «подъездов» – например 3-го против 5-го, или в других комбинациях. Если я уходил домой, то иногда мяч мне не возвращали. Тогда прекращались и игры в футбол. Пока родители не покупали мне новый мяч, и всё начиналось сначала. Но их «стихи» действовали мне на нервы и именно это послужило причиной того памятного разговора с Майей – рыжеватой 14-летней девочкой из первого подъезда ещё в 1947 году. Она всё это воспринимала из хорошего отношения ко мне, как вполне определённое издевательство. Но у меня не было выхода – я старался не обращать внимания, насколько мог, на всё это и продолжать играть с ними в футбол. Разумеется, я не был «как все», не был «своим», одним из них. Они, конечно, чувствовали ко мне скрытую неприязнь именно из-за того, что я не был похож на них – ни внешне, ни внутренне. И не только потому, что играл на «гитаре».
Моя мама стояла на страже моего психологического состояния и моей внутренней стабильности, столь необходимых для ежедневных многочасовых занятий в школе – музыкальных и общеобразовательных. Она мне постоянно говорила: «Ты не должен обращать на них внимания. В основном они завидуют тому, что ты отличаешься от них. Отличаешься тем, что ты будешь музыкантом, артистом, а они будут… ну будут просто обыкновенными людьми, если не попадут куда-нибудь, вроде Генки Максимова. Ты должен гордиться своим папой и собой. Папу уважают и ценят очень важные и крупные люди, так что не обращай на их «песни и стихи» никакого внимания». Всё это она повторяла периодически с того памятного инцидента с Генкой Максимовым в 1945-м году. В общем, мама старалась мне внушить никак не презрение к моим дворовым знакомым, а простую уверенность в себе.
Я же со своей стороны вполне реально ощущал «разность» между ними и собой. Я думал примерно так: «Конечно, вы меня не любите. Но это для меня не обязательно. Если вы чувствуете ко мне какое-то враждебное отношение, то вероятно я в этом не виноват. Это моё естественное, данное мне от рождения «отличие». В чём выражалось моё «отличие» я уже знал хорошо. Но я его никогда не стыдился, благодаря моей маме, а со временем стал им гордиться, говоря себе самому: «Не хотите считать меня таким же, как вы – не надо! Я такой, какой есть – не думаю, что плохой, не думаю, что хуже вас! А если я и другой, то не значит «плохой». Стало быть мы разные…». Ведь не было же у меня чувства внутренней «отгороженности» от своих соучеников в школе? Не было. Мы были все очень дружны и дружелюбны – среди нас были русские, армяне, татары, полу-евреи и «целые» евреи, но никогда в школе не чувствовалось никакой неприязни друг к другу ни в моём, ни в других классах – самых старших и самых младших. Так довольно рано я понял, что всё дело в людях, их воспитании в семье и умении себя вести. А что было у каждого в мыслях – в конце концов это даже не имело особого значения. Важно, что мы были дружелюбны друг к другу и это нас всех, вне всякого сомнения, поддерживало в нашей нелёгкой школьной жизни на протяжении последних пяти лет.
* * *
Летом 1948 года мои родители снова сняли дачу в Салтыковке у той же Нины Сергеевны Логоткиной. С моим другом детства Николкой мы по многу часов ежедневно играли в футбол. Неделю-десять дней родители разрешали мне не заниматься на скрипке, но потом нужно было снова выполнять свой долг перед самим собой, улучшать свою игру, учить новый репертуара – ну, словом заниматься ежедневной технической рутиной, несколько смягчаемой работой над моими любимыми тогда произведениями – пьесами Венявского, Вьетана, концертами Моцарта, Сонатами Генделя – всем тем, что составляло в то время учебный репертуар нашей ЦМШ.
Мой отец иногда приезжал на дачу на «Москвиче» со знакомым шофёром – он всё же ещё не был вполне уверен в своих шофёрских навыках. Шофёром был молодой парень по имени Олег – он говорил, что часто работал у Давида Ойстраха.
Олег занимался со мной вождением машины по дачным дорогам. Я научился ездить уже довольно уверенно. Включать скорости с синхронным нажимом на педаль сцепления левой ногой я освоил ещё летом 1947 года на нашем «Адлере». В этом приятном занятии я делал некоторые успехи, что конечно было много проще игры на скрипке.
В августе отец уехал отдыхать в Кисловодск в санаторий Министерства угольной промышленности, где он встретил своего старого знакомого – знаменитого дирижёра Большого театра – Александра Шамильевича Мелик-Пашаева. Там они, гуляя по «лечебным тропинкам» выяснили, что родились в один год, один месяц, в один и тот же день и час! Поразительное совпадение! Бедный Александр Шамильевич умер очень рано – в 1964 году – вскоре после того, когда его самым хамским образом удалили сначала с поста главного дирижёра, а потом и вообще от дел Большого театра.
Когда отец вернулся в Москву после почти четырехнедельного курса лечения, мы его с трудом узнали – у него выросла на шее огромная щитовидная железа! Я тогда понял, что Кисловодск, несмотря на его вожделенные нарзанные ванны, может иметь весьма неприятные последствия. Отец стал жаловаться на периодические боли в сердце, плохое самочувствие. Врачи говорили, что возможно это реакция на лечение в Кисловодске и больше ездить ему туда не рекомендовали.
Ещё в начале лета он неожиданно сказал, что хочет сделать в фотографии снимок со мной. Только со мной. Последний раз меня снимали в фотографии в Парке Горького в 1940 году! И вот теперь мы поехали на площадь Маяковского. Это фотоателье функционировало до самого моего отъезда в Америку – до 1979 года.
Я не мог понять, почему это он вдруг надумал сделать две фотографии со мной вдвоём? Только через много лет я понял – мне исполнилось 13 лет. То есть это была дата еврейского совершеннолетия! Ни о какой настоящей «бар-мицве» в синагоге, как это полагалось делать, речь не могла идти, но как-то увековечить это событие он, как видно всё же хотел. Не совсем истёрлась в нём память о еврейском наследии! Все наши дни рождения всегда праздновались, но это был совершенно особый случай, особая дата. Что же, хорошо, что он это помнил и на свой лад постарался отметить такое событие профессионально сделанной фотографией.
* * *
Тем летом моя учительница Анна Яковлевна снова сняла дачу в Салтыковке, и стала созывать своих учеников на летние частные уроки. На этот раз я стоял твёрдо и настоял на своём – никаких занятий летом, да ещё за деньги! Только самостоятельные занятия. А осенью она увидит как и что я сделал за летнее время. Родители согласились со мной, а Анне Яковлевне мы сказали, что будем жить снова, как и в 1945 году – в совхозе у моей тёти. Тут было моё авторство «лжи во спасение» – в самом деле, сколько можно с ней заниматься? Да к тому же и без особенного толку. Идея «совхоза» принадлежала мне, и я не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести.
Лето 1948-го казалось длинным – я был счастлив своим пребыванием в любимой Салтыковке, да ещё в обществе своего друга детства Николки. Мы читали вслух «Приключения Шерлока Холмса» Конан-Дойля и были от этого в полном восторге. Жюль Верн дополнял наши развлечения – право же нам некогда было скучать!
Но снова появились «золотые шары» – жёлтые круглые цветы, предвестники наступления сентября и нового учебного года. Снова школа. Но не только школа. Загородом как-то отходили на второй план все неприятные городские новости. Во всяком случае казалось, что они там всегда как-то смягчались
И снова начались митинги и собрания по поводу «космополитизма» и, как уже говорилось, волна докатилась до киностудий. В результате кампании – всех собраний и выговоров, а также общей нервотрёпки у отца произошёл сердечный приступ. Инфаркта врачи не находили, но он ослаб физически настолько, что даже в туалет у него не было сил добраться самостоятельно. Мама водила его под руку и ждала, чтобы помочь ему снова добраться до постели. Он бросил курить. Пока он болел, это было не так трудно, но как только стал чувствовать себя немного лучше, стал выходить из дома на короткие прогулки – желание курить стало неимоверно сильным. Это знают все курильщики. Но всё же он заставил себя отвыкнуть от курения. Он начал курить, кажется, с тринадцати лет! Конечно тайком, но после Февраля и особенно Октября 1917 года дети, как видно, быстро ощутили новые «ветры свободы» и родители ничего не могли с этим поделать.
Продолжалась нескончаемая «борьба с космополитизмом», но жизнь продолжалась – пока что отца с работы не уволили, он встал на ноги. Грозные события стали казаться не такими уж грозными – ну объявили выговор, но не уволили всё же! Да и главные удары пропаганды наносились пока по литературе – критикам, драматургам, сценаристам и режиссёрам. Пока. Правда, дошли уже и до композиторов.
* * *
Осенью 1948 года моя соседка и подруга детства Таня Царапкина вернулась из Америки, где она жила с родителями больше года. Она должна была в 1948 году идти в пятый класс школы, а в Нью-Йорке в советской школе при ООН было тогда только четыре класса. Таня с бабушкой Лидией Васильевной сели на теплоход «Победа» в Нью-Йорке – конфискованный после войны у Германии пассажирский корабль. К концу путешествия, уже на Чёрном море, на «Победе» начался сильный пожар. Потом говорили, что загорелась электропроводка. Скорее всего, ни о какой диверсии не могло быть и речи. Таня с бабушкой ехала в каюте второго класса, где были не квадратные окна, а круглые иллюминаторы. Все пути из их отсека были отрезаны – можно было попытаться выбраться только через окно иллюминатора на палубу, а оттуда на спасательную шлюпку. Трудно себе представить, как очень крупная и тяжёлая дама Лидия Васильевна могла протиснуться через такое узкое окно. Но она это сумела сделать, предварительно, конечно, высадив из окна Таню. С палубы их посадили в шлюпки, в которых они просидели в открытом море больше шести часов! К счастью погода была хорошей, почти без ветра и море было спокойным. Их спасли советские военные корабли – сняли со шлюпок всех уцелевших и доставили на берег. Слухи о пожаре были устрашающими – говорили, что погибло около 800 человек! Вероятно, это было не так, но погибло в пожаре достаточно много молодых людей – и матросов и пассажиров. Мы никогда не расспрашивали об этом ни Таню, ни её бабушку, все эти подробности рассказывали соседи-мидовцы. Можно себе представить, что пережили родители, находясь в Нью-Йорке! Ведь в Америке всё это становилось известным гораздо раньше, чем в Москве.
Больше в Америке Таня никогда не была.
* * *
Осенью 1948-го первый посол Израиля Голда Меирсон (впоследствии Меир) приехала в Москву. В её мемуарах очень ярко описаны события тех дней. Она не говорила по-русски, что было для неё очень большим огорчением. Она могла общаться на идиш, но только с евреями, с официальными же лицами могла говорить по-английски или по-французски.
Её описание посещения московской хоральной синагоги на улице Архипова и сегодня производит волнующее впечатление. Старые женщины старались дотронуться до её платья, чтобы убедиться в том, что присутствие Голды в синагоге – реальность! Значит, жива была вера в чудо возрождения Израиля! Вера эта жила, конечно не в семьях, подобных моей. Она жила среди простых, менее образованных людей «непристижных профессий» – продавцов магазинов, мелких ремесленников, сапожников, но это и была действительно народная вера в чудо. И чудо это свершилось! После почти тысячи девятисот лет евреи мира снова обрели своё древнее духовное отечество. Конечно, все понимали, что евреев всего мира маленький Израиль никогда не вместит, но что некоторые всё же смогут туда попасть! Нашлись желающие и среди советских евреев. И нашлись очень быстро. Всё это описано во многих книгах, в прекрасной работе Геннадия Костырченко «В плену у красного фараона». Но те рассказы о визите Голды в синагогу, ходившие по Москве, я отлично помню. Тысячи людей заполнили после службы тесную улицу, Голду приветствовали, желали процветания молодой стране и её жителям.
Она вспоминала, что домой (тогда ещё в гостинице «Метрополь») она шла одна, с трудом справляясь со своим волнением. Какой-то человек её обогнал недалеко от гостиницы и сказал, не оборачиваясь, на идиш: «Будь здорова, Голда». Слёзы душили её. Всего этого она себе не могла представить до приезда в Москву. Не могли себе представить такого накала страстей и советские власти. Это становилось опасным с их точки зрения прецедентом – советские евреи должны были знать своё место! Как, впрочем, и всё население СССР.
Голда Меирсон всё же была западным человеком, хотя и родилась в местечке под Киевом, но выросла в Америке и, окончив среднюю школу в Милуоки, отправилась в Палестину строить новый Израиль. Она не понимала и не знала советской действительности. Как она писала в своих воспоминаниях, во время одного полуофициального разговора, она спросила можно ли некоторым советским евреям уехать в Израиль, на что получила ответ – конечно можно! Просто нужно списки этих людей передать властям и всё будет в порядке. Списки были, по наивности Голды переданы, и дальнейшая судьба тех людей совершенно ясна. Поплатилась за свой энтузиазм по поводу образования Израиля и Полина Жемчужина – жена Молотова. В доме приёмов на Спиридоновке она с глазу на глаз сказала Голде на идиш: «Если у евреев Израиля всё будет хорошо, то всё будет хорошо и у евреев всего мира!». (Между прочим, даже и сегодня не такая уж банальная мысль!) Все разговоры в «спиридоновском особняке», естественно, прослушивались и записывались и вскоре Полина Жемчужина была арестована. А дальше стало ещё хуже – наступил 1949 год. Последним аккордом
1948-го был роспуск Еврейского антифашистского комитета.
Всё это помнится, всё это было пережито в Москве в последнее пятилетие «зрелого сталинизма». Уместно привести сегодня мнение вероятно самого крупного исследователя политики Сталина последних лет его правления в отношении евреев – Геннадия Костырченко. Вот, что он пишет:
«Автор этих строк считает, что главной причиной и тайной расправы с Михоэлсом, и последовавших спустя год арестов деятелей ЕАК, и уничтожения еврейской культуры, а также развернувшихся следом чисток (по “пятому пункту”) управленческого аппарата, стало послевоенное усиление государственного антисемитизма в стране, вызванное обострением холодной войны и личной юдофобией Сталина. Что касается национализма евреев, то, будучи далеко не поголовным, он тоже нарастал в тот период и не только под влиянием “ближневосточного чуда” (создания государства Израиль), но и под влиянием народной памяти о трагедии Холокоста, а также из-за усиления шовинизма в советской пропаганде и повседневной жизни. Но эта национальная ажитация была не причиной, а лишь катализатором антиеврейских гонений, запрограммированных поздним сталинизмом, как репрессивной системой власти, поражённой ксенофобией».
Прекрасные слова историка!
* * *
1948-й год запомнился не только как год начала открытых гонений на советскую интеллигенцию (хотя всё началось ещё в 1946-м, но как я уже писал – к 1948-му всё это приняло другой характер – в довершение к начавшимся повсюду очевидным антиеврейским акциям), но и по причине двух событий никак не связанных с государственной политикой. Даже не событий, а двух коротких историй людей, которых я не знал и которые меня не знали. И всё же обе истории стали некоторым отражением послевоенной жизни. В очень малой степени, но отражали её.
Ещё где-то осенью 1944 года в нашем дворе часто видели человека в форме майора Советской армии с орденами и медалями на гимнастёрке. Он с огромным трудом медленно передвигался на костылях с помощью жены и дочери – тогда примерно 19–20 лет. Кто-то из моих знакомых во дворе узнал, что этот раненный майор вернулся с войны в Палеонтологический музей в качестве его директора, которым он, как будто, был ещё до войны. Так ли это было – неизвестно, но ясно, что майор должен был ходить на работу в таком тяжёлом состоянии и все жители нашего дома, видя его ежедневный мучительный путь в музей и из музея – очень сочувствовали ему и его семье.
Постепенно майор стал поправляться – ходил уже без костылей – с палочкой, но медленно и осторожно. Примерно через год, то есть в 1945 году ого сопровождала уже только дочь. Было очень приятно видеть улучшение его состояния. Года через два бывший майор уже ходил в штатском – в тёмном пальто и шляпе. Ходил он уже один, слегка опираясь на палку. Он был интересным мужчиной с небольшими усами. Каково же было моё удивление, когда осенью
1949-го года я увидел шедшего после работы через наш двор бывшего раненого майора совершенно здоровым и с молодой женщиной под руку! Только теперь он сам вёл свою молодую даму под руку. Как видно он вполне оправился от ранений, занимал устойчивую позицию в жизни и, как говорят – «начал жизнь сначала». Я же тогда, в свои 14–15 лет был совершенно шокирован таким его предательством своей семьи! А ведь я не был знаком ни с ним, ни с его семьёй, но почему-то у меня возникло к нему тогда прямо противоположное чувство – вполне ощутимой неприязни. Хотя теперь я понимаю, что жизнь многогранна и что такие случаи происходили в жизни всегда и везде, но та первая встреча со столь неприглядной её стороной произвела на меня очень грустное впечатление. Мне было искренне жаль его таких преданных и самоотверженных жену и дочь.
Вторая история была связана с футболом. В нашем дворе жил парень лет двадцати пяти, которого звали Костя. Он работал на заводе «Красный пролетарий», находившемся на другой стороне Большой Калужской улицы во дворе новых домов. Мне рассказал наш «автопомощник» Виктор Беглов, что Костя стал играть в заводской футбольной команде вратарём. Сначала в свободное от работы время, но потом всех членов команды освободили от работы и они стали полупрофессиональной командой своего завода. Разыгрывали они первенство Москвы и кажется какой-то кубок профсоюзов. Словом Костя получал ту же зарплату, но за игру в футбол. Зарплата, конечно, была мизерной, но футболисты получали какие-то талоны на еду, маленькие деньги на проезд, суточные, когда играли вне Москвы. Видимо и это было привлекательным для членов заводской команды.
Через некоторое время я увидел Костю с трудом волочившим ноги – он постарел и как-то согнулся. Виктор Беглов рассказал мне, что Косте во время игр выбили много зубов и поломали несколько рёбер! Я не мог себе представить, что игра в футбол была такой жестокой! И это в заводской команде?! Правда на поле стадиона «Динамо» – тогда единственного в Москве большого стадиона, настоящие травмы футболистов-мастеров бывали очень редки – в то время никакие силовые приёмы не допускались, так что и травмы были нечастыми. Может быть, знаменитые мастера футбола и сами старались не вредить своим коллегам, но то, что происходило в заводских командах, увы, было фактом и достаточно устрашающим. Бедный Костя выглядел всё хуже, а потом вообще куда-то исчез совсем. Никто даже не знал – куда. Две эти истории почему-то прочно привязались к 1948, хотя история с майором завершилась позднее – к зиме 1950-го. Жизненная реальность обогащала мой собственный жизненный опыт…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?