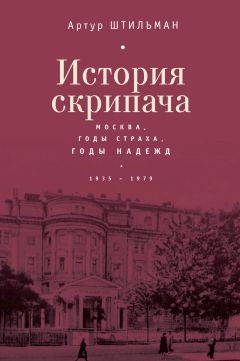
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 9
Центральная музыкальная школа
Итак, после каникул – 11 января 1943 года – я пришёл, ужасно волнуясь, в сразу полюбившуюся мне школу. Она имела какой-то непередаваемый аромат прошлого в сегодняшнем дне. Это был волшебный остров, где кроме музыки занимались и другими школьными предметами, но в течение дня можно было слышать величественные звуки фортепианных концертов Листа, Рахманинова или Чайковского. Старое здание хорошо резонировало. Вообще школа казалась дворцом из сказки – её уютный маленький зал с небольшой эстрадой и настоящим, как, в театре занавесом, с настоящей артистической комнатой за сценой (она же была школьным классом № 2). На втором этаже кроме зала располагались большие классы-кабинеты для занятий по физике, химии, естествознанию, географии. Всё было таинственным и казалось безумно интересным, даже внутреннее устройство старинного особняка[1]1
Этот особняк в Среднем Кисловском переулке Правительство выделило для Особой группы одарённых детей в 1932 году, которая была преобразована в 1935-м в Центральную музыкальную школу – ЦМШ – при московской Консерватории. Занятия там проходили до зимы 1944 – весны 1945 года, когда школа окончательно переехала в новое здание во дворе ГИТИСа. Указанная дата переезда в Википедии – 1943 год – является неправильной. В том году летом учащиеся лишь начали возвращаться из эвакуации в Пензе. В старом здании ЦМШ потом находилось Детское хоровое училище.
[Закрыть].

Справа – здание Центральной музыкальной школы при Консерватории, где она находилась с 1935 по 1944 годы.
Средний Кисловский переулок
Внизу в школе справа находилась раздевалка, миновав которую мы попадали в довольно большое помещение – холл – с высоким потолком и господской лестницей, ведущей на второй этаж. За правой дверью первого этажа помещалась учебная часть и кабинет директрисы. Левая дверь вела в полуподвальный коридор, в котором находились основные классы для занятий по специальности. (После первого маленького марша лестницы в холле, были двери в довольно большой.) После первой маленькой лестницы, вы оказывались в холле и там упирались в двери в класс для многих целей, в том числе и для занятий по специальности. Это был класс номер один. На втором этаже находился зал и ряд уже описанных классов. В зале два раза в неделю мы занимались ритмикой, то есть проделывали под музыку гимнастические упражнения, ходили в темпе меняющихся ритмов, словом, и ритмика всем нравилась. В обычное время, если не было занятий по ритмике, в зале рядами стояли тёмно-синие бархатные кресла, в сочетании с портьерами на окнах также создававшие какую-то трудно передаваемую, но такую сладостную атмосферу уютного концертного зала. В самом конце коридора второго этажа была таинственная дверь. Иногда она оказывалась незапертой. Это была дверь на заднюю лестницу, ведущую в подвал, которую тогда называли «чёрным ходом». Мы немного побаивались спускаться по ней, так как она была почти не освещена и без окон, а потому и казалась такой таинственной…
Как-то моя мама пришла за мной раньше, чем окончились занятия, и заглянула в щёлку двери. Она увидела меня сидящим и глупо улыбающимся. Причины было сразу две: новая куртка и брюки, специально сшитые для меня по поводу вступления в ряды учеников ЦМШ, и громадное удовольствие, испытываемое каждый раз, когда Вера Николаевна Надеждина играла на пианино короткие пьесы. Играла она в «кондукторских перчатках», то есть в перчатках с отрезанными верхними концами для пальцев, так как в классе было очень холодно. Я же холода не чувствовал, так как мои длинные брюки – главный предмет гордости и счастья – были сшиты из шинельного сукна и в них было очень тепло. Они были светлыми, а куртка чернильно-синяя из шевиота. В общем, я чувствовал себя как в «новом наряде короля», только вполне реальном.
Наконец состоялся и первый урок на скрипке. Мой учитель – старый приятель отца Израиль Маркович Ямпольский в ЦМШ не приходил, мы должны были приходить к нему домой. Он жил в большом доме недалеко от Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в одной квартире со своим отцом, профессором Консерватории по классу виолончели Марком Ильичём Ямпольским. Из коридора, где мы, сидя на стульях, ждали урока, через открытую дверь была видна гостиная Марка Ильича, поражавшая воображение всякий раз, когда мы приходили на урок. Стены были сине-голубыми. Их украшали старинные бра, люстра пушкинских времён. Мебель была из красного дерева с бронзовыми вставками: львами и какими-то другими украшениями, словом то, что сегодня называется «антик». Не знаю, каким образом Марк Ильич собрал и сохранил подобную коллекцию мебели в то тяжёлое и голодное время.
Войдя в часть квартиры моего учителя, где должен был проходить мой первый урок, мы с моим отцом прошли в маленькую комнату. На раскладушке лежал молодой парень, читавший газету об окружении немцев под Сталинградом. Парень был черноволосым с почти сросшимися бровями. Он выглядел лет на 18. Это был Леонид Коган, будущий всемирно известный виртуоз. Ему ещё предстоял долгий и тяжёлый путь к мировой известности. Его мама работала, то есть считалась домработницей у Абрама Ильича Ямпольского, а сам Лёня, как его тогда все звали, ночевал то у Израиля Марковича, то на кухне с мамой в квартире Абрама Ильича, то у каких-то других знакомых. С осени 1943 года в квартире Абрама Ильича часто ночевал ещё один «постоялец» – Игорь Безродный, живший за городом в почти не отапливаемом помещении. Квартиры Ямпольских были якорем спасения, и не только для этих двух будущих выдающихся советских скрипачей.
Мой первый урок продолжался минут двадцать. По открытым струнам скрипки я уже умел водить смычком, Израиль Маркович показал, как надо правильно стоять, задал выучить несколько гамм, пока лишь в одной первой позиции, а также несколько упражнений из «Школы для скрипки» Шарля де Берио. Уповая на моего папу, мой первый учитель решил не утруждаться, а так сказать, разделить работу «пополам» – на основную домашнюю под руководством отца и на свою, контролирующую мои домашние занятия. Мой отец занимался со мной в свободное время, но так как был очень занят, то основную работу со мной вела мама, никогда на скрипке не игравшая, но зорко следившая как за моими действиями на уроке, так и за работой учителя с другими учениками. В итоге все наши мамы стали специалистами-репетиторами по скрипке, фортепиано и виолончели, то есть на всех инструментах, на которых учились играть их дети. Это были «мамы ЦМШ» – славный отряд родительниц, без которых история нашей жизни, да и история ЦМШ были бы совсем другими. (Вот некоторые из наших мам.) Я имею в виду мам Лялика (Лазаря) Бермана– впоследствии всемирно известного пианиста, Вовы Ашкенази, также позднее всемирно известного музыканта (пианиста и дирижёра) Вити Данченко, Нины Бейлиной, Вали Жука. Если читатель встретиться в мемуарах Лазаря Бермана с неодобрительными замечаниями по адресу своей мамы (сегодня уже нет в живых не только мамы, но и самого Лазаря Бермана), прошу поверить на слово, что если бы не усилия его мамы, то Берман никогда не стал бы всемирно известным пианистом.
Очень скоро Ямпольский сказал моей маме (со мной он разговаривал как бы через переводчика, прямо ко мне никогда не обращаясь, – непонятная и сегодня странность!), что скоро будет прослушивание («зачёт»), на котором мне надо играть по выбору комиссии (!) любую гамму. Это через полтора месяца после начала занятий?! Можно сказать, с нуля. Но делать было нечего, надо играть. Как я играл – не помню, помню только, что сначала очень волновался, а потом разозлился и стал играть гаммы вполне прилично, неплохим звуком и достаточно чисто. В общем, зачётное прослушивание я прошёл. Теперь мой учитель задал мне несколько пьес в две-три строчки, которые следовало приготовить уже для настоящего экзамена в первый класс в начале мая. Пьесы должны были исполняться в сопровождении фортепианного аккомпанемента и, естественно, наизусть.
До весеннего экзамена произошли два события, напомнившие всем нам, что война продолжается.
Несмотря на кажущееся спокойствие, немецкие войска всё же были ещё совсем не так далеко от Москвы, и нацистская авиация вполне могла достичь столицы в радиусе своего действия. В апреле-мае 1943-го я был свидетелем двух воздушных тревог. Первая началась часа в два ночи. Погас свет. Отец был на студии в Лиховом переулке. Я твёрдо сказал маме, что никуда не пойду, и лёг спать. Ночью я слышал отдалённую стрельбу, но настоящей близкой стрельбы или взрывов слышно не было. Проснувшись около восьми, я позвал маму. «Отбоя», как видно, не давали. Мама включила радио. Громко звучал метроном, отмеряя секунды. Вдруг внезапно объявили отбой. Я был рад, что выдержал характер и не пошёл в подвал соседнего дома. Моя бабушка вернулась из убежища и была очень недовольна тем, что я проявил такое упрямство, а мама не настояла на моём уходе в убежище вместе с ней.
Второй налёт, вернее, попытка налёта на Москву, была в начале мая. В тот раз отец оказался вечером дома. Мы спустились в подъезд, где провели всю ночь – до шести утра. Почему-то считалось, что парадное дома – самое безопасное и надёжное место при налётах. К нам присоединилось несколько мидовцев, живших на верхних этажах, в том числе жена С. К. Царапкина Наталия Георгиевна. Её мать и дочь Таня находились пока ещё в эвакуации – где-то под Куйбышевым.
На этот раз тревога была объявлена заранее, около полуночи. Сначала всё было тихо. Внезапно началась чудовищная стрельба из зениток. Ближайшие орудия стояли в Парке культуры в Нескучном саду, примерно в (200–300) 300-400-х метрах от нашего дома. Трещал зенитный пулемёт на крыше дома № 12, но главная стрельба была из всех зенитных батарей, которых в одном Парке было не меньше десяти. Пол под нами ощутимо реагировал на залпы орудий. С шипением падали на землю раскалённые куски снарядов, взрывавшихся высоко в небе. Прожектора неутомимо работали, и стало здорово светло. Внезапно всё стихло. Вдруг вдали стал нарастать гул самолётов. Естественно, первое, что можно было предположить, – это приближаются немецкие самолёты! Гул нарастал и становился совершенно адским. Все сжались в комок… Я стоял в нише, где до войны находилась батарея отопления. «Сейчас, – думал я, – сейчас они будут над нами и сбросят свои бомбы…». Собственно, человек в такие моменты не рассуждает – почему вообще это должны были быть немецкие самолёты? Ведь никто из нас на фронте не был и не мог отличить звук самолётов наших от вражеских? Второе – почему именно в этот момент именно на нас должен упасть весь смертоносный груз бомб? Но мы все только слышим звуки и реагируем на происходящее по-своему. Это было неприятно. Не то, что страшно, а просто очень неприятно. Зенитные батареи делали своё дело так добросовестно, что ни один немецкий самолёт к Москве не прорвался. Если бы мы могли спокойно подумать, то сразу бы догадались – самолёты, шедшие на бреющем полёте очень низко над Москвой, были наши, потому что пока они летели, зенитные батареи молчали!
Наутро говорили, что у немцев был запасной план бомбёжки или попытки бомбёжки (Ярославских заводов) [Ярославского авиастроительного завода, который немцы строили (или модифицировали) по договору 1939 года. Уж они-то точно знали все воздушные подходы к заводу!] Но они и туда не смогли прорваться и вернулись к себе ни с чем (такие были тогда слухи, но теперь мы знаем, что на самом деле немецкая авиация нанесла в тот июнь 1943 очень серьёзный урон предприятиям города Горького). Надо сказать, что ПВО Москвы была на высочайшем уровне по своей организации и координации. Не знаю, много ли давали для защиты от воздушного нападения подвешенные на тросах на высоте от 300 до 500 метров воздушные заграждения в виде дирижаблей и просто больших цилиндров, но с того времени я возненавидел все висящие в небе большие предметы.
В 6 утра объявили отбой, и я с несколькими ребятами из других подъездов сразу же начал обследовать осколки, сплошь покрывшие весь асфальт нашего двора. Осколки были ещё горячими. Я взял несколько маленьких, остывших себе на память. Они хранились у меня много лет, наверное, до переезда на новую квартиру в 1962 году.
Это была последняя воздушная тревога в Москве. Но только через год – где-то весной 1944 года – Москва сняла светомаскировку. Это было потрясающе красиво! Все улицы наполнились светом, сверкали окна домов! Это трудно объяснить тем, кто не видел до того абсолютно тёмного города.
* * *
Как-то, ещё в марте 1943-го года, в свободный от школы день мы с мамой решили навестить Юрских, живших после недавнего возвращения в Москву так же, как мы жили во Фрунзе, – в артистических раздевалках – «гримуборных» цирка на Цветном бульваре. Серёжа за это время вырос и стал выше меня. В те дни, насколько помню, праздновали его день рождения. Мы посидели у них недолго. Как ни странно, но наш былой контакт за прошедший год совершенно (улетучился) распался. Конечно, в том возрасте это было долгое время, и мы здорово изменились. Но, почувствовав, что ему со мной неинтересно, я незаметно дал маме знать, что хотел бы поскорее уйти. Мама меня поняла, да и сама, по-видимому, не находила больше причин задерживаться у Юрских. Я не знаю, почему они не имели своего жилья в Москве, но я ясно ощутил, что мы в их глазах как-то отдвинулись далеко от тех воспоминаний, которые сдружили нас всех в Свердловске. Больше мы никогда не встречались.
Лет через пять, во время посещения Детского театра в зимние каникулы мы увидели мальчика, который напомнил виолончелиста Женю Альтмана, учившегося на четыре класса старше меня в ЦМШ. Когда мы возвращались домой, то вдруг одновременно с мамой поняли, что это был, конечно, не Женя Альтман, а Сергей Юрский. Тогда мы видели его последний раз. Позже, когда он стал знаменитым актёром, его тем не менее было легко узнать – он был очень похож на свою маму Женю. А отчества её почему-то никто из нас не знал. Что касается главы семьи Юрия Сергеевича Юрского, то вспоминали мы все с большим удовольствием и его самого, и его зажигательные речи. Он и сам был талантливым актёром. К сожалению, впоследствии он стал чиновником Комитета по делам искусств, и последний раз мой отец встретил его в самое наше трудное время – в 1951-м году. Но об этом позже.
* * *
В середине мая, довольно скоро после последней воздушной тревоги, я пришёл в класс на втором этаже школы для своего первого экзамена. Там сидело несколько преподавателей: виолончелисты, скрипачи, пианисты. Теперь я почувствовал, что достаточно хорошо подготовлен и без всякого волнения исполнил свои пьесы, причём в одной из них пианистка умудрилась меня потерять и я «поймал» её уже в другом месте пьесы, куда она «ушла» без меня, но сделал это довольно ловко. Это вызвало улыбку одобрения у всех сидевших в классе. Мне сказали «спасибо», и я был свободен. Через несколько дней нам позвонили из школы и сказали, что я успешно прошёл экзамен и переведён в первый класс.
Мой учитель из школы ушёл, так как преподавал ещё и в Музыкальном училище при Консерватории – «Мерзляковке». Я был определён в класс Анны Яковлевны Зильберштейн, в прошлом ученицы Столярского в Одессе, а потом студентки А. И. Ямпольского в московской Консерватории.
Предстояло лето, но наши самоотверженные мамы продолжали интенсивно заниматься с нами заданным на лето репертуаром, этюдами, гаммами и пьесами. Одна из наших мам, правда, мама одной старшеклассницы, стала давать частные уроки (!) детям, игравшим на скрипке, не будучи сама никогда ни скрипачкой, ни вообще музыкантом! Такие чудеса бывали потому, что наши матери действительно полностью жили нашими делами и нашими занятиями, с трудом успевая заниматься домашним хозяйством, а многие ещё и работали.
Как это ни странно, но сегодня мне, и не только мне, кажется, что нашими самыми счастливыми школьными годами были именно годы, проведённые в старой ЦМШ, в Среднем Кисловском переулке. Шла страшная война, гибли миллионы людей, а в старинном особняке дети играли свои этюды, упражнения, ученики постарше – уже целые концерты для скрипки, фортепиано или виолончели. Часто за окном шёл крупный снег, а мы, учась уже во втором классе, пели старую немецкую песню о «ёлочке зелёной»:
О, Tannenbaum, о, Tannenbaum
Wie grim sind deine Blatter!
Миром и покоем веяло от этой рождественской песни, и трудно было представить себе, сидя в уютном и тёплом классе на втором этаже зимой 1944 года, что до окончания войны ещё год и четыре месяца, и что после войны нас ожидают такие события, о которых пока никто из нас и наших родителей, даже и не догадывался.
Глава 10
Военное лето 1943 года в Подмосковье
Впереди было лето 1943 года. Мамина приятельница по Витебску предложила нам снять комнату на даче в Салтыковке. Там должен был жить её сын Николка – друг моего детства, конечно, не один, а с бабушкой. Дача принадлежала генералу ВВС Георгию Кузьмичу Гвоздкову. Вообще говоря, ему и его жене принадлежала половина дачи, а вторая половина была собственностью его сестры, очень редко появлявшейся в Салтыковке. Ещё впереди была битва на Курской дуге, но после великой Сталинградской победы никаких сомнений в исходе войны ни у кого не было. Так как начали ходить пригородные поезда, то можно было вполне провести лето на даче. Мы занимали одну маленькую комнату, в другой жил мой друг с бабушкой, а в третьей хозяйка. Жена генерала была полькой, как видно, из именитой семьи, судя по иногда достававшемуся из шкафа фамильному серебру. Её имя было запечатлено на ручках ложек, ножей и вилок – «Констанция Банковска». Генерал приезжал редко и только на день. Наведывался в субботу и в воскресенье их сын Вова– слушатель Военно-воздушной академии, славный парень восемнадцати лет. Приезжал иногда и сын хозяйки от первого брака Дидик (Сигизмунд), тоже офицер ВВС. Он работал в штабе ВВС по связи. Сам Георгий Кузьмич был красавец мужчина, немного похожий на маршала Рокоссовского. Он был замначальника управления связи ВВС Советской Армии. Он редко выезжал из Москвы на фронт, как я теперь понимаю, он был штабистом и имел чин генерал-лейтенанта. С ним иногда приезжал его сослуживец и друг генерал Макаров, с сыном которого мы уже в 50-е годы иногда бывали в одних компаниях. Все они были славными людьми, а ореол генералов Советской Армии производил на нас магическое впечатление. В конце концов мой друг Николка решил, что пойдёт учиться в Суворовское училище. Дело было за малым – у него был порок сердца, и его не принимали в военную школу. Но форма у суворовцев (была настолько неотразимой) настолько привлекала его, что мой друг сам говорил с двумя генералами и просил их помочь, на что генералы согласились, выговорив себе право поговорить сначала с его мамой. На том дело и кончилось. После их отъезда Вова, сын Гвоздковых сказал моему другу: «Куда тебе в армию? Ты – Никола-Божий угодник!» Как обиделся мой друг! «Причём тут “Божий угодник”?» – возмущался он.
* * *
Кроме нас двоих, кажется, во всём посёлке этой части Салтыковки детей вообще не было. Не только детей, но и хозяев дач. Мы обследовали все близлежащие дачи, которые были открыты, – вероятно задолго до нас там побывали настоящие «специалисты» – все оставшиеся вещи были разбросаны по полу, вся дачная мебель перевёрнута… В общем, в каждом доме был полный разгром! Как ни странно, ни одна дача не сгорела. На нашей «генеральской даче» у хозяев было два кота и собака Фока – помесь шпица и сибирской лайки. Его присутствие было очень полезным – на соседней даче кто-то ночевал, и там горела крохотная коптилка. Днём, правда, мы с Фокой и двумя котами обследовали соседний дом и нашли там следы пребывания, как нам казалось, двух мужчин. Было много окурков, пустые консервные банки, и какая-то серая одежда, связанная в узел. Никто из наших домочадцев, ни моя мама, ни бабушка моего друга, ни хозяйка Констанция Игнатьевна, ни её домработница о наших исследованиях не знали. Это было с нашей стороны очень неосторожно. Кругом все дома были необитаемы, и прятаться там мог кто угодно и сколько хотел – никакого контроля над окружающей территорией не наблюдалось. Да и учитывая, что фронт находился ещё на самом ближнем участке не так уж далеко, прятаться могли в соседних домах и дезертиры и уголовники…
Фока был хорошим сторожем, но, как ни странно, на подозрительных «соседей» иногда реагировал только ночью, что не могло не настораживать всех нас. В конце концов «соседи» исчезли и больше никогда не появлялись. Мы, конечно, рассказывали об этом эпизоде всем своим соученикам в школе, приукрашивая рассказ всякими «страшными» подробностями, которых хоть и не было, но, как казалось, они могли бы быть. В целом то лето осталось в памяти: начались великие победы Советской Армии, в Москву начали возвращаться из эвакуации заводы и учреждения, словом, жизнь в столице начинала понемногу оживать, а большее количество детей сразу сделало Москву уже не городом на военном положении, а просто Москвой, какой мы её любили до войны. Это, конечно, было абсолютно обманчивое ощущение, но начало занятий в школе 1 сентября как раз и создавало иллюзию мирного времени. Воздушных тревог больше не было!









































