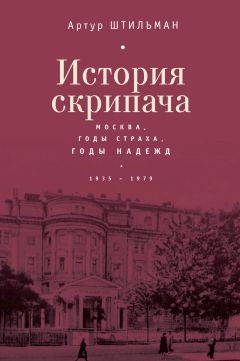
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Лето выдалось дождливым и холодным. Чтобы выйти погулять, нужно было иметь какую-то цель. Мы с мамой частенько ходили по лесной дороге, ведущей на станцию «Балашиха» встречать моего дядю Ёсю с работы на заводе, где он со времён войны стал заместителем начальника цеха. Помню, как-то раз идёт мой дядя нам навстречу, а на нём, что называется, «нет лица». Мы почувствовали: что-то произошло. Мой дядя был человеком очень мирным, и всякие конфликты были вообще чужды его натуре. Во время войны он тяжело заболел, потерял сознание и упал, сломав себе ключицу. Она неправильно срослась, ограничив возможности действий правой руки. Так что он был особенно уязвим ко всем возможным нападениям на улицах, что после войны происходило довольно часто, особенно в рабочих районах, – хулиганов и всякой шпаны было значительно больше, чем милиции. В тот предвечерний час, когда мы его встретили, он, увидев нас, сразу начала говорить, обращаясь к моей матери: «Валя! Это просто невозможно!» «Что случилось, Ёся?» – как всегда, спокойно спросила она. «Это просто невозможно!» – повторил он. «Я шёл через лес, недалеко от дороги лежат двое пьяных инвалидов. Увидев меня, они заорали: «Гляди! Жид идёт! Смотри-ка живой! Жалко, что Гитлер их не всех перебил! Давай его приложим! А?» Они не могли двигаться, так были пьяны. Но что я им сделал? Почему всё это?» Мама постаралась его успокоить, но дома его сразу стала расспрашивать о происшедшем тётя Нина. «Не помнишь, это не наши? А то если ты узнал кого, скажи – я уж им устрою жизнь!» «Да нет, какие там наши. Здесь народ в основном хороший. Это какие-то два инвалида!» «Ну, Ёся! Не думай о них! Мало всякой сволоты ходит по земле? На всех не хватит нервов. А если где увидишь, скажи мне! За нами не пропадёт», – заключила тётя Нина этот эпизод. Под таким знаком и началась для нас послевоенная эпоха. Понятно, что все русские или нееврейские жёны были вовлечены в это. Так или иначе это касалось уже тысяч людей по всему необъятному Союзу.
Глава 2
Визиты родственников
Пролетело лето в совхозе «Первомайский», хотя, как уже говорилось, оно было дождливым и холодным и так не соответствовало прекрасным тёплым весенним дням начала мая. Сегодня кажется, что погода точно следовала за событиями – эйфория Победы стала быстро таять и отодвигаться в историческое прошлое, а временная расслабленность всего и всех вокруг, уступила место обычным суровым будням.
Начались занятия в новой школе. Как ни странно, но сентябрь, помнится, выдался тёплым. И вот в один сентябрьский день я сидел в нашей «гостиной», она же столовая, она же спальня ночью, где спали бабушка и мой дядя, младший брат отца, – я сидел за столом и делал уроки. Раздались два звонка в дверь – это к нам. К Буше звонили три раза. Я встал из-за стола и пошёл открывать дверь, но мама открыла дверь раньше и… мы оба остолбенели от увиденного! Собственно говоря, ничего особенного не произошло – в дверях стояли мамин брат Далмат и его жена Нина. Кажется, они позвонили по телефону от другого брата мамы, где они остановились и предупредили о своём визите. Всё это было неважно. Впечатление совершенно неописуемое произвели они оба потому, что выглядели совершенными иностранцами! Видели ли мы иностранцев? Видели, но главным образом американских и английских лётчиков, одетых, как и все лётчики в мире, в свою военную форму. Видели иногда на концертах дипломатов. Они были всегда одеты скромно – в тёмных костюмах, чёрных пальто и шляпах. Но мои дядя и тётя… да, они выглядели как самые настоящие иностранцы! Инопланетяне в нищей и оборванной Москве! На дяде было добротное демисезонное пальто – светлое, «кофе с молоком» в крупную клетку, на голове, в контраст с пальто, мягкая коричневая шляпа, невиданный шерстяной шарф, а ботинки, самое больное место в войну, – шоколадного цвета, почти новые, прекрасного элегантного дизайна, как теперь говорят, и в дополнение всего – костюм, такой же тёмношоколадный оттенялся светлой рубашкой также невиданной выделки с элегантным галстуком. Не отставала от него и тётушка – на ней был тёмно-синий шерстяной костюм с пуговицами «под серебро» (что стало снова модным в 60–70 годы), в прекрасной белой блузе под костюмом и в тон ему – в тёмно-синих кожаных туфлях на высоком каблуке. Это и стало причиной такой нашей реакции на их появление. Войдя в прихожую, они поздоровались со мной, нисколько не удивляясь, что за четыре года войны я несколько подрос. Вообще я сразу ощутил какую-то натянутость. Мама предложила им сесть. Дядя сел спиной к окну на стул, а тётя повернула стул спинкой к столу и лицом к маме, севшей на диван.
Они приехали из Минска навестить своего сына, который всю войну жил у маминого брата недалеко от площади Маяковского, в знакомой мне с детства квартире. Дядя и тётя провели всю войну в Минске – с первого до последнего дня оккупации.
Волей обстоятельств, готовя уроки, я просидел с ними в одной комнате в течении почти всего их визита. Мама была как-то сразу напряженной – она сидела с непроницаемым лицом, глядя на противоположную стену. Она задавала вопросы, а отвечала в основном тётушка. Дядя молча разглядывал фотографии на стене.
«Почему вы не уехали?» – спросила мама. «Ах, – воскликнула тётушка, – мы пытались, но ведь уже через неделю Минск был оккупирован…». «Но вы так одеты», – сказала мама, явно давая им понять, что их вид никак не гармонирует с событиями – оккупацией, войной, голодом… «Если бы ты знала, какие вещи валялись просто на дороге во время отступления, чемоданы с новыми вещами – чего только там не было – костюмы, бельё, обувь, даже детские игрушки. Люди бросали всё! Главное ведь было уйти!» Мама продолжала сидеть с таким же каменно-непроницаемым лицом, явно выражая недоверие всему, что говорила тётушка. «Вы знали о душегубках?» – спросила мама как-то неожиданно и отрешённо… «Мы не видели их, но… да, слышали об этом», – поспешила ответить тётушка. В этот момент вошёл мой отец – он увидел их, гневно сверкнув очками (до этого дня я уже знал, что стёкла его очков могут выражать человеческие чувства), повернулся и вышел из комнаты.
Я сразу понял, что тётушка лжёт. На дороге отступления Красной Армии и беженцев таких вещей быть не могло. Значит… Значит, это могло быть на дороге отступления, но не Красной Армии, а немцев! Меня ужаснула эта мысль, и я, извинившись, вышел во двор, где ещё довольно долго слонялся, стараясь угадать время, когда гости уйдут. Походив для верности ещё минут пятнадцать, я вернулся домой, где услышал возбуждённый голос отца: «Позор! Людей убивали на каждом шагу… на фронте… а эти! Ну и родственнички!» – гремел он.
Через некоторое время дядю всё-таки арестовали. Хотя ещё до приезда в Москву, они прошли первую «фильтрацию» после освобождения Минска, но теперь дядя попал в более широкую волну процессов «сотрудничавших с немецко-фашистскими оккупантами». В конце того же 45-го был открытый суд, и его осудили на совсем недолгий срок ссылки. Он подал апелляцию и сумел представить свидетелей, подтвердивших, что во время оккупации он, работая на табачной фабрике (где, по его словам, они с женой были заняты набивкой папирос), воровал табак для нужд партизан, оперировавших в Минской области. Как ни странно, но вскоре его освободили. Он снова приехал в Москву, на этот раз один, приехал навестить сына. Побывал он и у нас. Отец принял его нормально, вероятно уверовав, что раз суд его оправдал, значит всё в порядке. Дядя был мил, рассказывал мне о футболе – оказалось, что «до войны» (имелась в виду Первая мировая война) в России были отличные футбольные команды, игравшие по прогрессивной тогда английской системе «дубль вэ». Словом, отношения восстановились, и всё вроде бы шло хорошо.
Но в 1947-48 началась охота на отпущенных по истечению сроков заключения как довоенных, так и послевоенных – это были «повторники». Дядю снова арестовали. Теперь он ждал суда в тюрьме 7 месяцев. На суде снова выступали те же свидетели, плюс командир того самого партизанского отряда, который получал ворованный у немцев табак. Это был его лучший свидетель, сыгравший в новой ситуации важнейшую роль – дядю осудили на несколько лет ссылки в самой Минской области с правом возвращения в Минск после окончания срока ссылки. Жена его не была привлечена к суду вообще. И в ссылке он остался «советским служащим», и в общем не бедствовал.
Через некоторое время после смерти Сталина ему разрешили вернуться в Минск без каких-либо поражений в правах. По сталинским временам можно считать, что ему повезло. Интересно, что его сын, ставший крупным специалистом в области авиавооружения, никогда не был ни в чём ущемлён, и в самый разгар позднего сталинизма продолжал заниматься тем, чем занимался впоследствии всю свою жизнь. А в начале 6о-х дядя умер от инфаркта, едва достигнув 6о лет.
С тех пор прошло более шестидесяти лет, но та сцена их первого появления в Москве у меня не выходила из головы никогда. Почему? Что именно не давало мне покоя? Всё то же – вещи… Их шикарная одежда…
* * *
Мой дядя – брат мамы – русский. В этом нет ничего удивительного, я имею в виду нашу семью. Мама, младшая в семье, два её брата и сестра выросли в Витебске, где до революции евреи составляли более 52 % населения, русские, украинцы и белорусы – около 38 %, а остальным населением были обрусевшие немцы, литовцы, поляки и латыши.
Когда еврейское население России и Украины истекало кровью от хронических погромов, Белоруссия была, не в пример им, спокойным краем. За время жизни там моей мамы (она родилась в 1905 году) по её словам в Витебске не было погромов вообще – даже во время Революции и Гражданской войны. Бандитизм и всё сопутствующее революционным событиям – всё было, но не погромы.
Поэтому сразу после революции смешанные браки не только не были исключением, но стали массовым явлением – пали барьеры и молодёжь себя вела в этом вопросе вполне в духе времени. Среди гимназических друзей моей мамы почти все выходили замуж за евреев, молодые люди ещё недавно угнетённого меньшинства, часто женились на русских – сам климат отношений между жителями Витебска отличался от других мест империи – дети ходили в гости на еврейские праздники, особенно радуясь «Празднику кущей» – «Суккот». Даже процесс Бейлиса не внёс того напряжения, которым сопровождалась жизнь евреев Украины и России.
В 1927 году моя мама вышла замуж за моего отца, уроженца Херсона, и в Витебске больше никогда не была. Её старшая сестра, как и их мать, ставшая учительницей, всю свою короткую жизнь учительствовала в небольших городах Белоруссии и России. Старший брат перебрался в Минск, где стал «советским служащим». Он был очень гостеприимен, когда мои родители навестили его в Минске вскоре после своей женитьбы. Сам он женился вскоре после выхода замуж своей сестры – старшей сестры мамы – на родной сестре её мужа! Так неожиданно сплелись судьбы двух семей.
Война застала маминого брата с женой в Минске. Трудно сказать, делали ли они какие-нибудь попытки эвакуироваться. Впрочем, если и делали, то не смогли бы далеко уйти – 28 июня немецкие танки шли по Минску, не встречая сопротивления, а за ними вся остальная армия. Лишь через неделю после начала войны!
Старшая сестра мамы, моя тётя, была человеком высоких моральных принципов. Потеряв мужа, крупного военного, в дни «Великого террора» в 1938 году, она с престарелой матерью и очень нездоровой дочерью, двинулась пешком на восток по дороге бедствий. Вскоре умерла мать, не выдержав таких переходов, но тёте удалось из пограничного Себежа добраться до Калинина, где в небольшой неоккупированной деревне, она оставалась с моей 12-летней кузиной до 1943-го года, пока не пришло освобождение.
Бог знает, как ей удалось просуществовать всё это время, тем более, что в деревню иногда наведывались немцы, а тётя была членом партии. В первые месяцы 1944 года они появились у нас в Москве, совсем ненадолго. Выглядели они с моей кузиной как настоящие беженцы, но очень опрятно. Получив в Министерстве среднего образования направление на работу, она почти сразу уехала – начинать жизнь сначала…
* * *
Итак, прошло более шестидесяти лет, но та сцена их первого появления в Москве никогда не выходил у меня из головы. Почему? «Дались вам эти вещи…» – скажет скептик. «Все мы носили после войны чужие вещи – из комиссионных магазинов, детские тоже, сами, наверное, ходили в таких вещах, а говорите…». Да, правда, носили. Было такое, и о происхождении вещей не задумывались, знали одно – из Германии! Репарации! Так им и надо! То есть мы не знали о происхождении тех вещей. Всё, конечно, могло быть, потому что теперь мы знаем о миллионах пар пальто, костюмов, детских вещей и вообще всего, обнаруженного на складах в лагере уничтожения Освенцим – Биркенау.
Но они – дядя и тётушка, они-то знали! Они жили в городе. Выстрелы в гетто слышались хорошо везде – гетто находилось недалеко от центра города. В минское гетто было привезено по разным оценкам от 50 до 75 тысяч немецких и австрийских евреев – из Берлина, Гамбурга, Бремена, Франкфурта, Вены, Дюссельдорфа, Кёльна. Их уничтожали так же, как и минских евреев, но всего этого тогда мы не знали.
Летом 2004 года я сидел на террасе своего дома в Кетскилльских горах и читал книгу, изданную на русском языке в США. Это была «Чёрная книга с красными страницами», посвящённая истории белорусского еврейства.
Рабочие строили новую ванную комнату, но я, внезапно прочтя одну из страниц, открыл рот от неожиданности и так и остался сидеть некоторое время, ничего не замечая вокруг от внезапно осенившей меня мысли. «Так вот оно что!» – говорил я себе, поразившись простоте разгадки!
Вот эти строки:
«После того, как трупы были закопаны, обоз начал собирать вещи расстрелянных, оставленные около ям и оставшиеся в освободившихся домах. Потом устроили распродажу этих вещей для нееврейского населения».
Наконец, после 6о лет загадка, мучившая меня, разрешилась. «Так вот оно что…» – повторял я себе снова и снова.
Как всё оказалось буднично просто! Они носили, можно сказать, ещё «тёплые» вещи с людей, только недавно бывших живыми! И они знали это! И чувствовали себя вполне комфортабельно. Какой надо было обладать колоссальной душевной чёрствостью, чтобы «не заметить» такой страшной реальности! Кем можно считать их сегодня? Коллаборационистами, соучастниками или просто попавшими в конкретно-исторический момент в неблагоприятные моральные обстоятельства? Я бы назвал из по-другому – вольнонаёмными Рейха, получившими свою долю от «индустрии грабежа». Кто может – пусть таких людей прощает. Я не могу.
Глава 3
Первый послевоенный год в новой школе
Летом 1943 года все учащиеся Центральной музыкальной школы вместе со своими педагогами, находившимися в эвакуации, были реэвакуированы из Пензы в Москву. Возвратились тогда же и профессора Консерватории, также эвакуированные в Пензу.
Возвратились-то они, возвратились, но некоторых их них не восстанавливали на месте их довоенной работы, то есть в Консерватории. Причины этого им объяснялись совершенно нелепые. Например: «Перерыв на основном месте работы», как будто в эвакуации педагоги не продолжали работать со своими студентами. Восстанавливали таких педагогов, что называется со скрипом, но некоторых так и не восстановили никогда. Тогда ещё не было ясно, что ждёт всех в недалёком будущем, но какие-то «эскизы» этого будущего как бы намечались через схему их недавнего возвращения в Москву.
Кроме Василия Петровича Ширинского, нашего нового директора, державшегося с нами всегда очень просто и дружелюбно, всегда поражал Александр Борисович Гольденвейзер. Он здоровался со всеми без исключения детьми, встреченными им в школе и даже во дворе во время перемен. Здоровался, как со взрослыми.
Учебный год 1945–1946 года начался уже с другими преподавателями. Наталья Семёновна Богачёва преподавала снова первоклассникам, а с нами стала заниматься новая учительница по русскому и математике – Лидия Игнатьевна. Она оказалась очень славной и была лишь немного моложе Натальи Семёновны. Зато она была очень информированной о том, у кого какие родители и какое положение они занимают. Это никак не отражалось на её отношении к детям, но было просто занятно, что иногда она приходила в класс с таинственным видом и говорила: «К нам в школу поступил мальчик – сын очень важного лица. Он в младшем классе. Его отец – член ЦК партии». Мы не совсем понимали, зачем она это нам рассказывала. Возможно, просто хотела предостеречь любителей подраться (хотя таких в нашем 3-м классе почти не было) от случайного столкновения с новым учеником. Звали его Рубен Вартанян. Он был сыном Завена Вартаняна, назначенного тогда в Сектор музыки ЦК вместе с Апостоловым и Саквой. Это мы узнали много позднее, но отношение к Рубику со стороны учителей было довольно предупредительным. Он был милым мальчиком, совсем мирным, немного полноватым и никак не предназначенным для школьных конфликтов на переменах. Впоследствии мы с ним дружили много лет уже в Америке, после его неожиданного невозвращенства из Боливии в 1988 году. Но пока всё шло своим чередом.
По-прежнему у нас всех были «окна» между занятиями в школе и занятиями с педагогами по специальности. А так хотелось погулять! Поиграть в хоккей! Покататься на коньках… Кстати, на коньках я научился кататься совершенно неожиданно. Как-то ещё зимой 1943—44 года я во время зимних каникул одолжил коньки «снегурочки» у одного приятеля во дворе в обмен на свои лыжи. Я прикрутил их при помощи верёвок и двух палочек (этой системой пользовались все дворовые «конькобежцы», так как специальной обуви для коньков тогда просто не существовало). Встав на коньки, я легко поехал по накатанному обледеневшему снегу. Вскоре я попросил родителей купить мне коньки «гаги», которые прикручивать к валенкам было уже много труднее, так как они были предназначены для приклёпки к спортивным ботинкам. Но взять их было неоткуда, и до самого 1947 года я приделывал их к валенкам также с помощью верёвок и палочек. В общем, это стало мукой – коньки всё время сваливались, что во время игры в хоккей имело серьёзные последствия – проигрыш своей команды. Хотя настоящий канадский хоккей вошёл в обиход уже в 1946 году, но мы играли мячом, что никак не снижало ни азарта, ни накала наших игр во время каникул. Эти занятия спортом даже в таком несовершенном виде (а летом был футбол – но это уже целая эпопея будущего!) – эти игры очень укрепляли физически и давали на некоторое время кислород и небольшой запас сил для нашего нелёгкого обучения в школе.
* * *
Наконец в школе появились нормальные тетради! В 1943-44 мы писали даже на разлинованных кусках газет. Бумажный и полиграфический кризис был просто катастрофой для школьников. Наши родители старались раздобыть что-нибудь похожее на ученические тетради, но такая удача выпадала редко. Теперь, кажется, всё стало налаживаться. Появились новые учебники. В старых часто бывали замазаны чернилами многие портреты вождей, ставших уже не только не вождями, но даже и «врагами народа». Помню замаранные портреты в учебнике по истории – Блюхера, Егорова, чьи-то ещё…
В новой школе осенью 1945 года на третьем этаже были развешаны большие картонные щиты – изделия полиграфической промышленности, – на которых были наклеены типографским способом фотографии из недавней истории Отечественной войны, фотографии освобождённых городов Европы и разбитых городов Германии. Словом, это была продукция Агитпропа для массового начального политобразования. Помню, многие из нас отметили фотографию группы Героев Советского Союза – лётчиков, а рядом с ней групповую фотографию фронтовиков, награждённых орденом Красной Звезды и Отечественной Войны. Среди них были русские, татарские, узбекские и одна еврейская фамилия. Кажется что-то вроде Залмансона. Через неделю, проходя по коридору, я случайно бросил взгляд на эту фотографию. Что-то мне показалось странным. Оказалось, что на месте старой была приклеена новая фотография. Даже по краям новой были видны следы подчистки при соскабливании старого фото. Новая фотография была уже с другими людьми – были и русский, и украинец, и узбек, и татарин. Залмансона на ней не было! Это мне показалось уже вполне симптоматичным, то есть ясно было, что такое сделали не педагоги и не ученики, а кто-то по приказу свыше и, вероятнее всего, – во всех школах и училищах, куда направлялись подобные пропагандистские материалы. Мелочь? Да, но зато какая выразительная и символическая!
С этого момента, то есть с осени 1945-го – зимы 1946 года нигде больше не говорилось и не писалось, что евреи СССР вообще принимали участие в войне. А ведь их было более полумиллиона!
А пока что во дворах на лавочках, в поездах электричек, трамваях можно было слышать, пока вполголоса, рассказы о евреях, «воевавших» в Ташкенте. Один из друзей Д. Д. Шостаковича вспоминал, как он, отпускник с фронта, шёл по улице Ташкента вместе с композитором. На гимнастёрке его были боевые награды. Вдруг кто-то на улице громко сказал: «Жид, где ордена купил?» Эта сцена произвела на композитора тягчайшее впечатление[2]2
В. Зак. Шостакович и евреи. Нью-Йорк, 2001.
[Закрыть]. Это было ещё во время войны, кажется, в 1943 году.
Хуже того – после окончания Нюрнбергского процесса больше не говорилось и не писалось вообще о Холокосте – всеуничтожении евреев Европы, Украины, Белоруссии и России во время войны, б. ооо. ооо жертв нацизма не упоминались! Собственно, было просто запрещено любое упоминание об этом в печати. О них писалось теперь так: «Массовые убийства гитлеровцами мирного населения».
В художественной литературе лишь один Эренбург осмелился написать о Бабьем Яре в своём романе «Буря» в 1948 году. Скольким оскорблениям и какой уничтожающей критике подвергался он за этот роман! Но Сталин был бы не самим собой, если бы он тут же – другой рукой – не распорядился о присуждении Эренбургу Сталинской премии именно за этот роман!
В 1948 году, на одном из погромных собраний писателей, мобилизованных на борьбу с «космополитами», Эренбурга с энтузиазмом громили за этот роман. Это было ещё до Сталинской премии. Кинооператоры, снимавшие это собрание, рассказали моему отцу, что Эренбург попросил ответного слова после объявления его «космополитом», «низкопоклонцем» перед Западом и так далее в том же духе. Ему не хотели давать слова. Но он настаивал на том, что хочет только прочитать одно короткое письмо читателя. Наконец ему дали слово. Он вынул из портфеля книгу романа «Буря», открыл обложку и прочёл: «Спасибо за нужную и своевременную книгу. И. Сталин». В гробовой тишине Эренбург положил книгу обратно в портфель и вышел из зала. Илья Григорьевич мог позволить себе такие эффекты…
«И не надоело вам вспоминать всё это и нанизывать на одну нить вашего рассказа?» – скажет какой-нибудь читатель. Честно говоря – надоело. И тогда и даже теперь, спустя 63 года после окончания войны, за тысячи километров от Москвы. Надоело всё это и за 44 года жизни в Москве. Надоело читать гнуснейшие измышления «Огонька» в 70-е годы о том, что существование Израиля угрожает существованию всего человечества. Ни больше, ни меньше! Именно так. Надоело. Но не только мне одному. Надоело многим – в общем числе порядка миллиону человек. И надоело не только это, но и бесконечная ложь, угрозы и посулы – всё, всё было тотальной ложью! А эмиграция начала 70-х годов сразу, конечно стала не просто еврейской, учитывая огромное количество смешанных браков, но и многонациональной – именно по этой причине.
Говорят, что в начале 70-х, при зарождении массовой эмиграции из СССР, «хозяин» Ленинграда Романов сказал: «Мне всё равно, сколько уедет евреев, но мне не всё равно, сколько с ними уедет русских». Правильно увидел главную опасность партийный сатрап! Потянулись родственники, родственники родственников, и поток уже становился плохо управляемым. Начинался тихий развал… Не только, конечно, по этой причине, но и она сыграла в великом развале свою роль. Хотя до того времени было ещё далеко – больше четверти века.
* * *
Иногда кажется, что антисемитизм – что-то вроде заболевания. Конечно, в личном плане, а не в виде государственной политики. Во дворе нашего дома на Калужской, как уже говорилось, жило много людей разного социального положения. В соседнем 2-м подъезде жила большая семья рабочего с пятью детьми. Старший Лёня ещё с довоенных пор прекрасно ко мне относился, и меня никак не выделял среди других детей, я бы сказал, даже относился с симпатией (возможно из-за моих занятий в музыкальной школе). Он часто расспрашивал меня о трудностях занятий, количестве музыкальных и общеобразовательных предметов, словом, вёл себя вполне по-дружески. В своей семье он был старшим из четырёх братьев. Второй брат, Мишка, был просто дьяволом по части антисемитизма. Он во всеуслышание говорил всевозможные гадости о евреях вообще, но никогда не о конкретных людях – например, о наших соседях по дому. Его антисемитизм носил злобный, но, пожалуй, несколько абстрактный характер. Третий брат Паша был моим многолетним приятелем. Он, как и Лёня, относился ко мне с симпатией и даже теплотой. Бывает такое в детстве. Правда, с 1949 года он вдруг перестал меня замечать. Я решил ни о чём не спрашивать и ничего не выяснять. Да и о чём можно было спрашивать? Наконец, четвёртый, младший брат являл собой точное повторение второго – Мишки. В каждом его слове, а был он младше меня года на три, было столько яда, зависти и презрения ко всем евреям мира (которые даже и не подозревали о существовании друг друга!), что это маленький парень по кличке «Пузо» казался и старше, и изощрённей в своём самовоспламеняющемся чувстве.
Но были и другие случаи. В первом подъезде жил уже известный Женька Волокитин, парень нелёгкой судьбы, но совершенно нормальный. Он никогда во время наших игр в хоккей или в футбол не поддерживал подобных разговоров.
Был ещё один «активист». Это был Славка Орлов – сын районного начальника НКВД. В футбол и хоккей он не играл, а торчал обычно, как старая бабка, у своего подъезда и разглагольствовал. О том же самом. С ним в одном подъезде жили три брата Соломоновы и их сестра – дети начальника одной из московских тюрем. Те никогда не говорили об этом. Антисемитизм просто почему-то не занимал их мыслей. Их интересовал футбол, рассказы отца о важных немцах, поступивших в его ведение, а евреи нашего дома и евреи вообще их совершенно не интересовали. Славка Орлов же был настоящим провокатором и часто начинал заводить свою любимую песню о «предательстве» всех евреев (где, кого и когда – он не уточнял).
Как-то раз мне это надоело, и я сказал ему «А чего ты вообще выступаешь так всё время? Неужели не стыдно?» – спросил я. «Почему это мне стыдно?» – с вызовом спросил он. «Потому, что твоя мама – еврейка! Вот почему», – спокойно сказал я ему. Он совершенно опешил и сразу потерял свою спесь. «Откуда ты знаешь?» – спросил он негромко. «А ты посмотри на свою маму, оттуда и знаю. Ты что, не знаешь об этом?» «Это неправда! Моя мама член партии!» «Ну и что? Мой папа тоже член партии» – тут же ответил я. Славка покраснел и был очень растерян. Я давно научился хорошо разбираться в лицах и сам знал, «кто есть кто», без всяких посторонних мнений. Мать его была правоверной коммунисткой, и, возможно, речь о её происхождении дома и не заходила. Он мог догадываться, а мог и вправду не знать. Во всяком случае, такая новость, да ещё в присутствии его приятелей была для него неприятна. Его младшая сестра была очень похожа на мать. Славка считал себя авторитетом во всех областях, правда, никогда не говорил ничего о своём отце, который, как уже говорилось, производил вежливое и скромное впечатление. Он здоровался со всеми во дворе, в том числе и с детьми, и ничем, кроме формы, не напоминал начальников НКВД. После моего отпора Славка поутих и, во всяком случае, еврейской темы стал избегать.
К другим нормальным детям, о которых вспоминаешь с теплотой, относилась девочка, старше меня года на два. Её отец работал в Министерстве внешней торговли и бывал в командировках в Америке. В 1947 году ей было лет 14. Её звали Майя – бледнокожая рыжеватая блондинка, воспитанная и очень скромная. И всегда была красиво одета. К тому же счастливая обладательница настоящего американского велосипеда. Сверкающая никелем машина цвета топлёного молока, с хромированными крыльями и удобно выгнутым рулём была действительно из другого мира! Она производила приятное жужжание от работы втулки и цепи с педалями. И казалась идеальной машиной для подростков. Как-то я, набравшись смелости, попросил её разрешения сделать два круга по двору на её велосипеде. Она тут же остановилась. «Катайся!» – сказала она просто и дала руль велосипеда. «Хоть десять кругов!» По тем временам это было очень великодушно. Я сел за руль и сразу почувствовал удивительную отзывчивость велосипеда на малейшее движения руля и увеличение или уменьшение скорости. Это была несравненная вещь, до которой мне ещё не доводилось даже дотрагиваться. Я откатался десять раз вокруг двора, поблагодарил Майю за такое удовольствие. «Подожди!» – остановила она меня. Я вообще в этом возрасте стеснялся разговаривать с девочками, кроме, понятно, моих подруг детства – Наташи Румянцевой или Тани Царапкиной. Но Майя была старше меня, и какая-то её мягкость подействовала на меня успокаивающе. «Они, – кивнула она в сторону дворовых мальчишек, – они издеваются над тобой, как только ты идёшь домой со скрипкой. Ты не знал? Не слышал?» – спросила она участливо. «Знаю, конечно», – ответил я огорчённо. «Вот! Они – шпана! Они тебя не стоят. Ты настоящий, а они – шпана. Почти все, с кем ты играешь в футбол. Помни, что они тебя не стоят, и не расстраивайся… ну, ты понимаешь… А когда захочешь кататься – всегда говори. И катайся». Я тогда очень оценил её такое необычное участие и доброжелательность.
Только летом 1948 года я стал обладателем велосипеда ХВЗ – Харьковского велозавода. Это был тяжеленная машина, педали которой скоро стали прокручиваться вокруг втулки и кляцать о раму: сталь была «торговая» как сказали в магазине. Педали стали бедствием – они постепенно сгибались от работы, а потом вообще стали болтаться. Действительно – «торговая сталь». Теперь Майя как-то захотела опробовать новый велосипед и после полукруга только сказала: «Да-а…». Я её понял. В последующие несколько лет мы с ней иногда останавливались во дворе и недолго говорили о школьных делах. В начале 1950-х она с родителями переехала в другой дом на Большой Калужской, и я не знал даже в какой. Встретил я её через много лет (какими долгими казались тогда 5 лет!), в 1955 году. Она была, как и я, пациенткой туберкулёзного диспансера. Кажется, она меня не узнала. Или почему-то не захотела узнать. Но я вспоминаю её дружеское участие ко мне до сих пор. Были такие исключения среди детей, правда, родители их были людьми иного порядка и положения в обществе.









































