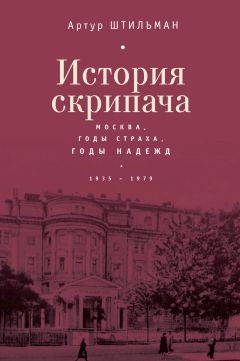
Автор книги: Артур Штильман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 5
Снова в школу. Конец трудного 1946-го
Количество учащихся увеличивалось, и теперь уже стала ощущаться нехватка классов и в новой школе. А это вело к дополнительным часам ожидания уроков по специальности. Окружающая жизнь стала ещё мрачнее, чем осенью 1945 года. Начинался голод, правда, в городе он был не так заметен, как даже в недалёком дачном Подмосковье.
Продукты, полученные по карточкам или купленные на рынке, приходилось всегда возить на дачу – практически вплоть до начала 50-х годов. Благодаря родителям, а также получению мною «рабочей карточки» в ЦМШ, мы никогда не голодали, даже в самое трудное время войны. Это была огромная заслуга моих родителей. Мизерные порции выдачи продуктов по продуктовым карточкам, особенно «иждивенцам» (то есть старикам и детям) держало большинство населения на грани голода или постоянного недоедания, что ещё не совсем голод, но хроническое недоедание имеет серьёзные последствия для организма человека, особенно для детей и стариков.
Несмотря на специальный паёк у моего отца («литер Б»), несмотря на мою «рабочую карточку», надо сказать, что продуктов хватало только на жизненно-необходимый минимум. Мои сверстники во дворе жили впроголодь. Что говорить о них, когда наш сосед Буше не мог сводить концы с концами, имея трёх иждивенцев – жену, сына и старую, почти девяностолетнюю мать. Он освоил профессию сапожника и в числе многих вполне интеллигентных людей занялся в свободное от цирка время сапожным ремеслом – производством летних дамских сандалет. Процесс производства одной пары занимал около двух-трёх часов. В целом ему удавалось иногда сделать за неделю 5–7 пар. Его жена продавала сандалеты через знакомых. Они пользовались хорошим спросом, так как в магазинах не было практически ничего. Его отхожий промысел позволил его семье пережить самое тяжёлое время до января 1948 года, когда, наконец, была проведена денежная реформа и отменены продуктовые карточки.
Октябрь 1946 года был ознаменован вынесением приговора нацистским преступникам в Нюрнберге. Сгяди документальный фильм о суде, но то, что показали на самом суде, почему-то мы увидели лишь много лет спустя. Нюрнбергский суд начался с показа (без звука) чудовищных рвов, заполненных человеческими трупами. Бульдозер сбрасывал тысячи человеческих останков в ров одного из лагерей смерти. Это было совершенно апокалиптическое зрелище! В общем приговор был встречен с удовлетворением, хотя оправдали Папена и Шахта. Оба немало способствовали приходу Гитлера к власти.
После этого все международные дела мало кого интересовали – проблема полуголодного выживания даже в городах становилась самой главной. Все мы носили с собой небольшие мешочки с завтраком, которого едва хватало до довольно позднего обеда. Утром, в 8 часов, наскоро поев, нужно было быстро собираться в школу. Потом, где-то около полудня, съедался всухомятку завтрак, принесённый из дома, и только в лучшем случае в три, а иногда в пять или шесть часов мы добирались до дома и могли, наконец, пообедать. После обеда клонило ко сну, но нужно было делать домашние задания, а потом заниматься на скрипке. Быстро летело время – выйти на улицу подышать воздухом его уже не оставалось.
В доме часто не работало отопление – трубы, кое-как отремонтированные весной 1944 года, часто текли, приходилось перекрывать подачу воды в радиаторы отопления – словом, всё это происходило довольно регулярно. Ежедневный быт был очень тяжёлым.
Сегодня, возвращаясь в своих воспоминаниях к тем дням, почему-то совсем незамеченным осталось знаменитое Постановление ЦК от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». В них в совершенно погромном тоне говорилось о Зощенко, Ахматовой и других «нелюбезных народу» деятелях литературы и искусства. Понятно, что для меня, одиннадцатилетнего школьника, посвящавшего летнее время игре в футбол и занятиям на скрипке, это событие никак не запомнилось. Почему-то оно прикрепилось в моей памяти (совершенно ошибочно) к 1948 году – году действительного начала широкой «анти-космополитической» кампании. Лишь недавно я узнал из рассказа моей давнишней близкой приятельницы, что её отец, директор одного из крупнейших московских заводов, уже в 1946 году получил документ, обязывающий всех руководителей московских предприятий работать над «очисткой» своих кадров от лиц еврейского происхождения. Удивительное открытие даже для сегодняшнего дня!
Эти воспоминания не являются попыткой восстановить историю систематических гонений в послевоенные годы еврейской научной, технической и художественной интеллигенции (хотя гонениям, конечно, подвергались и массы людей нееврейского происхождения), всё же, хотя мы и чувствовали, что постоянно происходит что-то непредвиденное, неожиданное, независящее от наших родителей и близких друзей (все пока что работали, делали лучшее на что были способны во всех областях, своей деятельности), но никто ничего толком не знал и не догадывался о том, что это была государственная программа, разработанная на самом верху, и преследовавшая ясную цель постепенного «освобождения» от евреев в сферах их деятельности. Куда могла привести всех нас эта целенаправленная политика? Об этом спорят историки и до сего дня – в неотапливаемые бараки ГУЛАГа, или к постепенному «вытеснению» из жизни в обычной обстановке места своего проживания, в атмосфере абсолютной изоляции от окружающего мира?
К чему-то подобному первым годам гитлеровского Рейха до ю ноября 1938 года – «Хрустальной ночи»? Об этом нам знать было не дано. При уже опустившемся «железном занавесе» могло произойти всё, что угодно…
* * *
Эта начинавшаяся мрачная реальность пока что не имела прямого влияния на меня и моих соучеников. Хотя иногда и имела. Как-то уже зимой 1947-го мы с мамой шли из школы, и она мне рассказала совершенно удивительную историю. Та самая девочка, моя соученица, которую мы навестили один раз у неё дома – Нина Н., – по рассказу её матери моей маме, высказала довольно «интересные» мысли. Как-то, возвращаясь домой из школы, она на улице сказала своей маме следующее: «Мама! Ты знаешь, какие евреи ужасные люди? Они все предатели, жулики и воры и мешают всем жить». «Нина! – буквально взмолилась её мама. – Что ты говоришь? Ведь мы же евреи!» «Как? – вскричала Нина. – Не может быть! Я не хочу быть еврейкой!» – кричала она на весь переулок. «Не хочу!» – повторяла она, истерически плача. Её мама сказала спокойно: «Но мы все евреи! Я и папа, и поэтому ты тоже никем не можешь быть, кроме как еврейкой. Успокойся!» Её мама пожинала плоды своего воспитания – Нина никогда не появлялась во дворе, и, как видно, дворовые дети её не «просветили» насчёт её собственного происхождения. Она была совершенно не подготовлена к событиям дня, и вина в этом её родителей была вне всяких сомнений.
В одном я был уверен – в нашей школе набраться таких «мудростей» она не могла. Значит где? Это осталось загадкой, но скорее всего, всё же во дворе – вероятно иногда, хотя и редко, Нина там появлялась. Я же после рассказа мамы только и мог сказать:
«Господи! Какая же она дура! Неужели она до сих пор вообще ничего не знала?» «Представляешь себе? Значит не знала!» – мама была так же поражена этим рассказом Нининой матери.
* * *
Несмотря на всё происходящее за порогом дома, мы открывали для себя мир великой литературы, музыки, а иногда и чего-то уже совсем необычного. Как-то раз мой сосед Вова Буше нашёл среди книжного хлама отрывки, вернее обрывки какой-то старинной книги на старославянском. Это были куски Библии, каким-то чудом уцелевшие до тех послевоенных дней. Моя мама легко читала, как видно, запомнившийся ей с гимназических времён текст нам обоим. Это была история Всемирного потопа и Ноева Ковчега! Мы слушали её, затаив дыхание. Повествование было таким захватывающим, что я не хотел ни есть, ни пить, а готов был только слушать и слушать. Как ни странно, я всё понимал, а может быть, мама читала нам знакомый ей текст своими словами, но я, взяв как-то кусок книги, начал читать и, в общем, вполне понимал смысл. Это было первое соприкосновение с Библией, и, надо сказать, оно произвело на нас обоих огромное впечатление. В планы мамы это не входило – она останавливала чтение, чтобы мы начали заниматься нашими обязанностями – подготовкой домашних заданий, а для меня ещё и занятиями на скрипке. И всё же я много дней находился под большим впечатлением от повествования такой громадной поэтической силы!
Вторым, уже вполне земным произведением, которое произвело на меня огромное и незабываемое впечатление, было знакомство, вернее, также чтение мамой вслух «Отверженных» Гюго. Вероятно, она читала версию, обработанную для детей. Но я легко переносился в такой необыкновенный мир героев Гюго – Гавроша, Козетты, Мариуса, Жана Вальжана и всех остальных его героев. Даже во время занятий в школе я продолжал переживать историю парижских детей и думать о них. Роман вполне укладывался в идейные рамки воспитания советских детей – через познание очевидного и вопиющего социального неравенства. Но что-то было в книге такое, что уводило в сторону от вполне советской оценки великого романа: иная история иной страны, которая позднее приводила нас к современной истории наследников Гавроша! Это чувство любопытства осталось и с годами постепенно росло. Будущее показало, что это любопытство увело меня в мир западной литературы, искусства, балета, джаза – словом, всего того, против чего и велась начавшаяся через два года кампания борьбы с «низкопоклонством перед Западом» и против «космополитизма».
Правда, несмотря на свой ещё даже не подростковый возраст, я научился сам, без уроков родителей, хорошо скрывать свой этот особый интерес к вещам, мягко выражаясь, не поощряемым ни школой, ни настоящим советским патриотическим воспитанием, требующим особой гордости только за русскую советскую культуру. Без книги Оруэлла «1984» я вполне овладел совершенно самостоятельно уроками «новоречи». При хорошей памяти это не составляло большого труда. Все официальные формулы были всегда наготове в моей голове. Возможно, что это была инстинктивная самозащита такого рода. Право же, мои родители нисколько в том не виноваты, и даже спустя много лет после их ухода из жизни, я охотно беру всю «вину» за это только на себя самого! Таково было моё естественное, врождённое отличие от многих моих соучеников и сверстников. Хотя я, конечно, был не одинок в своих необычных интересах к культуре Запада. Только в 9-10 классах, как уже говорилось, мы с ещё тремя моими соучениками, объединённые общими интересами, стали делиться подобными мыслями на счет этого друг с другом.
* * *
Как-то днём, ещё весной 1946 года, окончив очередную запись для кинофильма и идя пешком по Петровке, мой отец увидел недалеко от 19-го подъезда Большого театра большую группу музыкантов, толпой окруживших знаменитого дирижёра Николая Семёновича Голованова. Мой отец поздоровался с ним, так как был знаком ещё со времени свой работы в оркестре Большого театра. Голованов продолжал прерванный рассказ: «Когда я увидел благородные лица итальянских музыкантов, мне захотелось плакать! Оркестр, певцы, хор – всё было невероятным!»
К сожалению, я не смог найти на интернете никаких документов, подтверждающих «инспекционную поездку» Голованова и Неждановой в Италию. Помнится, статью Голованова об этом событии опубликовали – кажется, в газете «Советское искусство». Во всяком случае, не в «Правде» и не в «Известиях».
Как бы то ни было, 11 мая 1946 года в Милане вновь открылся всемирно известный театр «Ла Скала», разрушенный во время войны авиабомбами союзников. На открытии театра дирижировал Артуро Тосканини, несмотря на свой преклонный возраст, специально приехавший в Италию из Нью-Йорка для такого важного национального события. Я не знаю, была ли поездка Голованова и Неждановой приурочена именно к открытию театра или они просто приехали познакомиться с уровнем современного оперного искусства Италии. Одно очевидно, что такая поездка не могла не быть одобренной главным ценителем оперы в стране – Сталиным.
Мой отец ни словом не упомянул Тосканини в связи с рассказом о встрече с Головановым, но очень интересна и показательна реакция такого выдающегося музыканта, как Голованов, об уровне итальянского искусства: несмотря на разрушения, тяжёлые последствия войны, инфляцию, жизнь итальянцев впроголодь, послевоенные годы, тяжёлый жилищный кризис, – всё-таки музыкальная душа Италии была жива!
Надо напомнить, что Большой театр функционировал частью своей труппы в Москве всю войну. Другая его часть находилась в эвакуации в Куйбышеве.
Ещё во время войны я увидел совершенно потрясший меня балет «Шопениана» на сцене Большого театра. Балетная труппа всегда была на уровне мирового класса, продолжая традиции Императорского балета Большого театра. Опера же, если не считать нескольких самых «фирменных» спектаклей по русской классике, в целом не могла идти в сравнение по своему уровню с балетом.
Прошли восемь послевоенных лет– два года после смерти Сталина, и «Большой балет», как его называли на Западе, начал своё триумфальное шествие по всему миру.
* * *
В декабре прошли первые послевоенные выборы. Моя бабушка очень любила приходить на избирательный участок самой первой – к открытию в 6 часов утра! Её встречали прямо-таки с почестями – говорили ей о том, как приятно видеть такого сознательного пожилого человека первым среди пришедших к избирательным урнам. Но они несколько заблуждались. Бабушка любила доставлять себе удовольствие небольшим спектаклем. Первым делом она говорила: «Я пришла голосовать за Сталина! Где здесь я могу голосовать за Сталина?» Ей вежливо разъясняли, что в данном участке другие кандидаты, «всенародно одобренные», и, голосуя за них, она как бы голосует за Сталина. Бабушка начинала упираться и требовала, чтобы выполнили её желание и она смогла проголосовать только за Сталина! В общем, её в конце концов уговаривали, но это повторялось каждые выборы. Мы дома посмеивались над её причудой. Шутка ли – встать в пять утра, чтобы к шести придти голосовать?
Надо заметить, что Сталин, как я уже рассказывал, ей импонировал – он был только на три года моложе её, происходил из низов общества и достиг такой власти и почитания, что, казалось, не нашлось бы во всей стране более любимого и уважаемого человека. В её сознании Сталин был как-то отделён от советской власти, которую она, конечно, не любила, хотя и не распространялась об этом вслух. Революции, гражданская война, голод, тяжкие 20-е годы, тяжкие 30-е – нечему было радоваться… Жизнь всегда была тяжёлой. Но Сталин, конечно, хотел всем добра, а вот власти, исполнители часто этому препятствовали. Думаю, я не ошибался по поводу хода её мыслей, К нам в новую квартиру пришёл весной 1940 года мастер, чтобы повесить деревянные палки с кольцами для занавесок на двери и окна (мастер был евреем средних лет), и бабушка говорила с ним на идиш и по-русски. Она спорила с мастером, которому Сталин очень не нравился, – он отпускал много шуток на идиш (чего я почти не понимал). Бабушка сначала смеялась, а потом стала возражать и говорила всё время, что Сталин всё равно «а гройцер мэнч», то есть «большой человек», хотя, как я узнал позже, «а гройцер мэнч» может употребляться и в ироническом смысле. Как бы то ни было, бабушка устраивала свой маленький спектакль каждые выборы.
Никто не знал тогда, что меньше чем через три года бабушки не станет…
Глава 6
1947-й год. Дебют на эстраде малого зала консерватории. Инцидент с Голубевой. Отмена карточек и новые деньги
Через несколько недель после зимних каникул 1947 года мне предстояло впервые выступить на сцене Малого Зала Консерватории в концерте учеников ЦМШ. Сонату Генделя я должен был сыграть в ансамбле с пианисткой – девочкой старше меня на полгода. Девочку звали Нина Хапова. Она была дочерью певца – солиста Большого театра и ученицей Татьяны Евгеньевны Кестнер, одной из лучших преподавательниц специального фортепиано в нашей школе. Ростом Нина была повыше меня, и это меня очень стесняло. Я вообще стеснялся с ней разговаривать – она казалась мне очень серьёзной и к тому же красивой, что приводило меня в дополнительное смущение и полное замешательство – я просто не знал, как с ней себя вести. Не очень красивые были просто соученицами, но красивые… Нет, я не мог преодолеть своей застенчивости и просто глупо молчал в её присутствии. Впоследствии мы с Ниной Хаповой стали друзьями, да и сегодня поддерживаем дружеские отношения, но тогда я чувствовал себя в её обществе совершенно потерянным. Собственно, даже и не в «в обществе», а просто во время совместных репетиций. Но тут неожиданно я обнаружил в себе какое-то профессиональное честолюбие, если можно так выразиться. Я старался играть как можно лучше, тщательно занимался дома, и это давало мне хоть какой-то минимум уверенности в себе, который несколько снижал мою скованность. Постепенно улучшая свою игру, я вытеснял из сознания неуверенность поведения в присутствии моей партнёрши. Наши репетиции проходили в основном не с моей учительницей Анной Яковлевной Зильберштейн, а с Татьяной Евгеньевной Кестнер, которая как музыкант, как я даже тогда понимал, стояла неизмеримо выше Анны Яковлевны. Мою учительницу эти репетиции с Кестнер вполне устраивали, так как раз в неделю я занимался в эти дни подготовки не с ней, а в классе Кестнер. Представлял же я на концерте её класс.
Когда наступил день концерта, где-то в конце февраля, я нисколько не нервничал, а стал испытывать предвкушение удовольствия, которое уже однажды испытал – в конце 1943 года на эстраде старой школы и весной 1945-го в новой. Мы вышли на уютную, ярко освещённую эстраду Малого зала и оба почувствовали удивительный контакт и музыкальное взаимопонимание, причём старались, каждый в своей партии, сыграть именно при публике, именно в этот момент как можно лучше, более приподнято и празднично. Мне кажется, получилось хорошее выступление. Во всяком случае, я после концерта первый раз открыл рот в присутствии Нины и поблагодарил её за партнёрство. Кажется, она была поражена моими неожиданными, а возможно, всё же ожидаемыми словами благодарности за совместную работу. После этого концерта я всегда с ней здоровался уже без всякого смущения и неуверенности в себе. (Нина стала впоследствии превосходной пианисткой и в начале 6о-х годов выступила со мной во время Всесоюзного конкурса скрипачей, заменив в последнюю минуту заболевшую пианистку класса Цыганова. Она получила за это выступление специальный диплом лучшего аккомпаниатора Конкурса скрипачей.)
У меня остались прекрасные воспоминания о работе с Татьяной Евгеньевной Кестнер, и я сожалел, что она закончилась так быстро. Мои уроки с Анной Яковлевной оставались столь же непродуктивными и неинтересными, как и до концерта, с музыкальной точки зрения и со скрипичной.
Конечно, время брало своё – накапливался ученический репертуар, технический багаж рос всё равно сам собой – просто от домашних занятий, но уроки оставались всё такими же бесцветными и неинтересными. В те времена нельзя даже было подумать о переходе к другому педагогу – это считалось просто кощунственным! Анна Яковлевна, вероятно, чувствовала неудовлетворённость её работой и нашла, хотя бы временно, прекрасный выход из положения – стала неофициальной ассистенткой Абрама Ильича Ямпольского в ЦМШ и сумела договориться с ним о том, чтобы периодически показывать ему своих лучших учеников – три-четыре раза в год. Это началось как раз с конца 1947 года и стало в высшей степени волнующим событием для тех, кому посчастливилось играть такому знаменитому профессору.
Разумеется, это стимулировало работу её учеников, в том числе и мою. Впервые я сыграл профессору Ямпольскому лишь две части Партиты Баха для скрипки соло ми-мажор – Прелюд и Гавот. От первой встречи, учитывая большое волнение, у меня не осталось какого-то яркого впечатления. Но помнится, что Абрам Ильич прослушал полностью без остановок Прелюд, сделав совсем немного замечаний, а с Гавотом начал заниматься довольно основательно. Он старался добиться результата своих замечаний и пожеланий сразу же на уроке, в своём присутствии, что было нелегко. Но такая стимуляция всех ресурсов юных скрипачей приносила и большую пользу – приходилось очень концентрироваться и стараться мгновенно выполнить замечания профессора, то есть тут же воплотить их в своём исполнении. Разумеется, такие «мастер-классы», как теперь говорят, были для нас бесценными уроками на всю жизнь. Соприкосновение с великим педагогом ни для кого не прошло бесследно. Даже для тех, кто постепенно «сходил с дистанции» то есть тех, кого он больше не считал нужным слушать. По крайней мере, этим ученикам становилась ясна их перспектива, а точнее бесперспективность их дальнейших занятий на скрипке, что помогло им и их родителям более серьёзно подумать о будущей профессии вне музыкальной сферы. Так что и такой поворот событий для некоторых учеников не только приносил обиду и разочарование, но и обладал своим позитивным смыслом.
* * *
С началом нового учебного года осенью 1946-го для нас, учеников третьего класса, были введены занятия по «обязательному фортепиано». Меня определили в класс преподавательницы Голубевой. Как и все мои соученики, я старался понемногу заниматься на рояле, хотя времени катастрофически не хватало, но всё же мы как-то сдавали свои зачёты и иногда даже играли весьма прилично какие-нибудь несложные пьесы. Всё шло своим чередом.
Как-то уже весной 1947 года, вскоре после моего первого выступления в Малом Зале Консерватории, я сидел на уроке у Голубевой. То ли я устал в тот день, то ли не был достаточно сосредоточен, но я сыграл с несколькими ошибками. Обычно Голубева безучастно слушала, иногда немного играла сама для показа, но большей частью немногословно объясняла что и как надо играть. До этого дня никаких проблем у неё со мной не возникало. В этот раз после нескольких моих ошибок она постепенно становилась багровой и начала «закипать». Я продолжал играть и вдруг услышал: «Паршивый жидёнок, дрянь! Что ты там плетёшь?» Я не был уверен, что не ослышался, но ясно услышав «это» второй раз, прекратил играть, быстро встал, собрал ноты и, выходя из класса, как следует треснул дверью!
Голубева никак не ожидала такого поворота дела и, когда я уже был в середине коридора, она вышла из класса и стала кричать вдогонку: «Вернись, негодяй! Слышишь? Вернись, мерзавец!» Я же быстро спустился с третьего этажа на второй, спрятался на время в уборной для мальчиков, пересидел там минут десять, чтобы успокоиться (да и Голубева меня там не могла найти), потом спустился на первый этаж в раздевалку. Гардеробщица тётя Паша спросила: «Что, уже закончил?» (до звонка было ещё далеко). «Да, сегодня раньше…» – с трудом ответил я, не узнав своего голоса. Меня трясло. Но постепенно успокоился, дождался прихода мамы и рассказал ей всю историю. Мама, выслушав до конца, сейчас же поднялась к Голубевой. Потом она рассказала, что Голубева была агрессивна, говорила, что я всё вру и вообще я отвратительный ученик. «Вот и прекрасно! – сказала мама. – Но должна вас предупредить, что такое дети не врут, и в ваших интересах, чтобы эта история не дошла до Василия Петровича Ширинского. И в ваших же интересах самой попросить о переводе моего сына в класс к Кире Леонидовне Владимировой». Киру Леонидовну обожала вся школа. У неё было золотое сердце, она любила детей, всё прощала, была терпелива, словом, заниматься с ней хотели все.
Голубевой ничего не оставалось, как пойти вместе с мамой в учебную часть и тут же осуществить мой перевод. Вскоре после меня от неё ушёл кто-то ещё, потом ещё и в самом начале 50-х Голубева «рассосалась» в ЦМШ сама собой. Моя история с ней была первой и последней такого рода за все десять с половиной лет моей учёбы в школе.
Впоследствии, в 1948-49 годах, мы переживали кампанию борьбы с «космополитизмом», уже в 10-м классе – «Дело врачей», меня снимали с концертов в Малом Зале Консерватории без объяснения причин – на то была воля государства.
Но никогда ни один педагог, ни один ученик не позволили себе даже обмолвиться о грозных событиях, происходящих за порогом школы. Я не знаю, о чём говорили родители моих соучеников дома в их присутствии, но и сегодня отдаю должное человеческой порядочности всех тех, с кем учился в то «невыносимо нелёгкое время нашего бытия». В тех условиях– об их порядочности можно и должно вспоминать. И помнить их всех. Поимённо.
* * *
Наступало лето 1947 года. Почему-то именно тем летом неожиданно в комиссионных магазинах появилась в небольшом количестве спортивная обувь для коньков. Наконец-то я стал обладателем настоящих спортивных ботинок с приклёпанными к ним коньками для хоккея – «гагами». Естественно, мечтой были беговые коньки «норвежки», как их называли, но такая роскошь появилась только на следующий год. Зимой 1948-го я стал обладателем уже двух пар коньков – «гаг» для игры в хоккей и «норвежек» для настоящего катка, где можно было быстро бегать на скоростных коньках – ощущение от них было совершенно упоительным… Так что всё лето я с нетерпением ожидал зиму!
В облике Москвы появились новые черты – если не изменяет память, то именно к 800-летию Москвы в 1947 году были выпущены новые дюралевые троллейбусы (вместо старого парка деревянных), обтянутые специальной материей и покрашенные «под металл». Старые троллейбусы назывались ЛК– в честь соратника Иосифа Виссарионовича– Лазаря Моисеевича Кагановича. Для 1933 года такие троллейбусы были, наверное, вполне современными, но к послевоенному времени они совершенно износились, и новые троллейбусы стали подарком москвичам к 800-летию Москвы. Для москвичей в то время всё было подарком! Подарком был иллюминированный электрическими лампочками Кремль – его башни, подсвеченные в ночное время, производили на всех москвичей просто сказочное впечатление! Помню ещё большую почтовую марку к 800-летию Москвы с копией фото подсвеченного Кремля. Правда – уже во всесоюзном масштабе – люди в больших городах получили ещё один подарок – вскоре вышли новые дизельные автобусы «ЗИС». Не знаю точно историю создания этих машин, скорее всего, что их скопировали с американских, но они были исключительно надёжны и комфортабельны по тем временам.
На улицах появилась уйма немецких трофейных машин. Целая коллекция «Опелей»: «Адмирал» модели 1934 года (очень похожий на «ЗИС 101»), «Опель супер-6» – машина, немного напоминавшая довоенную «эмку», но поменьше и с шестицилиндровым мотором, затем «Опель-капитан» (на него очень сильно была похожа начавшая выпускаться в 1948-м «Победа» Горьковского автозавода), маленькие опели – «Олимпия», «Кадет», совсем маленькие двухцилиндровые «ДКВ» с передними ведущими колёсами – конструкция, вызывавшая смех у всех автолюбителей (как оказалась, внедрённая в Америке тоже в 1927 году и очень хорошо себя зарекомендовавшая, особенно при заснеженных дорогах), бесчисленные «Мерседесы», «Вандереры», «БМВ», «Хорьхи». Словом, в Москве был представлен весь германский автопарк конца 20-х и начала 30-х годов. Стали срочно разрабатывать отечественные автомобили – «Москвич» (копия «Опель-Олимпии» и «Опель-кадета»), «Победа» (сильно напоминавшая как «Опель-капитан», так и английский «Форд» 1943 года) и наконец шикарные правительственные лимузины «ЗИС-110» – точная копия американского «Паккарда». Впрочем, Сталин, лично одобрявший и принимавший новые модели машин, сам предпочитал ездить на своём старом бронированном «Паккарде». Новые «Победы» стали появляться в значительном количестве, кажется, только начиная с 1948 года, а «Москвичи» к 1949-му даже стали продаваться в частные руки (конечно, очень скоро по специальным ведомственным спискам). Машина стоила 9.000 рублей. В среднем она стоила в исчислении зарплаты – больше, чем годовое жалованье среднего служащего. Автомобиль, как и раньше, оставался именно роскошью, а не средством передвижения. Поэтому частным владельцам приходилось немедленно изыскивать все возможности для строительства хотя бы временного гаража – при общей бедности населения искус вандализма был слишком велик в самых широких слоях населения. Оно и понятно – подавляющее большинство семей, например, нашего двора (исключая мидовцев, врачей Кремлёвской больницы, и военных) едва сводило концы с концами от зарплаты до зарплаты, а тут, видите ли – частные машины! Да, чувство ненависти к таким новым «буржуям» и их собственности было экономически и психологически вполне объяснимым. К тому же нельзя забывать, что практически все жильцы дома на Калужской жили в коммунальных квартирах. Например: доктор Зак с женой и сыном жил в одной квартире с рабочим Грудинкиным, получавшим на своём заводе едва 800 рублей в месяц при четырёх сыновьях– школьниках! Его жена работала уборщицей и получала 350 рублей в месяц. Доктор Зак получал специальный продуктовый «кремлёвский паёк». Можно себе легко представить накал антисемитских страстей в такой квартире. Сын Грудинкина Игорь, с которым мы играли в футбол в послевоенные годы, жаловался мне: «Вот смотри! Их только трое! А жрут-то! Жрут! Ну просто обжираются! А мы? Ну, скажи – где тут справедливость?» Со мной он как-то стеснялся и не распространялся о том, что семья Зака – евреи, но я уверен, что другим изливал душу и проклинал всех евреев на свете! Доктор Кулинич, тоже кремлёвский врач, был белорус, хотя его жена была еврейка. У них было два сына, и со старшим Юрой мы дружили. Не знаю почему, но доктор Кулинич не был объектом зависти и проклятий семей пролетариата. Возможно потому, что имел других соседей по квартире.
Где-то в середине 50-х годов на экранах кинотеатров шёл какой-то венгерский фильм. Помню, в нём был примечательный эпизод: старый венгерский судья, уже на пенсии, после войны говорит членам своей семьи: «Я за свою жизнь вынес много приговоров, но никогда никого не приговорил к жизни в общей квартире!» Ситуация в общих квартирах была именно такой, какой я её описал – ничего не могло быть хуже материального неравенства! Люди не способны понять, что социальное неравенство было, есть и будет, и никакие революции никогда его упразднить не смогут, но человек рабочий, тяжело работающий в цеху своего завода ежедневно по много часов и не имеющий возможности при этом обеспечить сносной жизни себе и своей семье, будет проклинать скорее всего своего соседа, а не правительство, которое только и ответственно за такую ситуацию. Проклинать правительство? Но в СССР такого быть не могло. Виновных за такое безобразие искать долго не нужно – уже в 1948-м эти виновные были названы поимённо: сначала зловредные театральные критики, все без исключения «без роду, без племени», потом дальше и дальше – к «Делу врачей» в 1953-м. Мы ещё не знали, что всё это было частью огромного плана.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































