Текст книги "Исповедь"
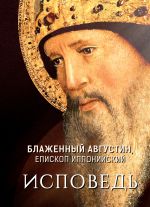
Автор книги: Блаженный Августин
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 8
Итак, в путях Промысла Твоего обо мне положено было, чтобы я задумал отправиться в Рим и заняться там преподаванием тех же предметов, какие преподавал в Карфагене. Откуда родилась у меня эта мысль? Не умолчу и об этом поведать Тебе, ибо и тут я должен усматривать и прославлять всю глубину Твоих сокровенных путей и всегдашнее Твое отеческое о нас промышление. Отправился я в Рим не потому, чтобы имел там в виду болышие выгоды и большие почести, как уверяли меня подававшие к тому совет друзья мои, чем и сам я конечно не пренебрегал в то время, но главным образом и почти исключительно побудило меня к перемене места то обстоятельство, что там, т. е. в Риме, как слышал я, воспитание юношества шло спокойнее и правильнее, и в школьной дисциплине больше было порядка и строгости, так что никто не мог входить в школу без ведома учителя, а допускались только те, которые имели от него дозволение. Напротив того, в Карфагене школьники отличались чрезмерным своевольством, доходившим до безобразия. Самовольно и без разбора вторгались они в школы с бесстыдством и наглостью, подобно горячечным и неистовствующим нарушали порядок, вводимый учителем между учениками для лучших успехов в науках. Много делали школьники оскорблений самых грубых, за которые надлежало бы преследовать их судебным порядком, если бы обычай не покровительствовал им; и тем гибельнее для них было то, что они смотрели на свои поступки, как на нечто позволительное, тогда как по Твоему вечному закону эти поступки никогда не могут быть позволительными, и считали их не подлежащими наказанию, тогда как наказывались за них самим ослеплением своим и гораздо более страдали, нежели действовали. Таким образом, сделавшись учителем, я должен был смотреть сквозь пальцы на такое поведение школьников, которое мне не нравилось и которого я избегал, будучи учеником26: это-то и заставило меня переменить место своего пребывания и перейти туда, где, по свидетельству очевидцев, подобных беспорядков не совершалось. Ты же, Господи, прибежище мое и доля моя на земле живых (Пс. 90, 2; 141, 6), при такой перемене местопребывания моего, имел в виду душевное спасение мое: с этой целью Ты оттолкнул меня от Карфагена и привлекал к Риму, – и все это делал Ты через людей, любивших только временную жизнь, но не помышлявших о жизни бессмертной, вечной, и оттого вращавшихся в суете суетств; для исправления путей моих Ты воспользовался и этими людьми и моею переменчивостью в мыслях и действовал с непостижимою для нас сокровенностью. Ибо и те, которые возмущали покой мой, были помрачены страшным сумасбродством; и те, которые манили меня к чему-то иному, помышляли о земной только суете. Что же касается до меня, то сам я, когда тяготило меня действительное горе на одном месте, проникался ненавистью к этому месту и стремился в другое, гоняясь за призраком счастья.
Но существенная причина, по которой я должен был оставить одно место и идти в другое, была известна только Тебе, Господи; Ты не открывал этого ни мне, ни даже матери моей, которая неутешно плакала при отъезде моем и провожала меня до самого моря. И когда она упорно удерживала меня
здесь, так что решилась или возвратить меня назад, или следовать за мною, то я обманул ее. Я притворился, что не могу оставить друга моего, доколе он, с наступлением попутного ветра, не отплывет; решившись солгать перед матерью (и какою матерью!), я ушел. И это Ты допустил из милосердия Твоего ко мне и матери моей, охраняя меня, преисполненного всяких нечистот, со дня плавания моего по водам морским до дня омовения моего от этих нечистот водою благодати Твоей в купели св. крещения; тем самым, по совершении сего таинства, Ты прекратил и потоки матерних слез, коими она ежедневно орошала землю при молитвах за меня перед Тобою. Так как мать моя не хотела без меня возвратиться домой и ни на минуту не решилась оставлять меня, то я едва убедил ее провести наступавшую ночь в ближайшем к кораблю нашему доме блаженной памяти Киприана. Между тем, в ту же ночь сам тайно уехал, а она осталась в слезах и молитве27. О чем же она молилась, чего просила у Тебя, Боже мой, с какою скорбью оплакивая меня? Не о том ли, чтобы Ты воспрепятствовал моему плаванию и не разлучал ее со мною? Но Ты судил иначе, Ты не внял тому, чего она просила в то время, творил со мною то, к чему стремились всегдашние ее желания. Подул ветер, понатужил паруса корабля, и берег скрылся от взоров наших. На следующее утро, узнав об отъезде моем, мать от печали пришла в такое расстройство, что с жалобными стонами и воплями непрестанно обращалась к Тебе в негодовании на меня; но Ты не внимал ей, ибо Ты и меня исторгал из омута страстей моих с тем, чтобы навсегда положить им конец, и ее вразумлял праведным наказанием скорбей за ее плотское пожелание. Она любила, как мать, видеть меня всегда перед собою, но любовь ее на этот раз превышала меру: она не знала, какую радость готовишь Ты ей из моего отсутствия. Не знала; поэтому плакала и рыдала, и этим обличала и в себе наследственное достояние Евы – в печалях и воздыханиях иметь то, что рождала в болезнях (см. Быт. 3, 16; 4, 1). Впрочем, принеся жалобу перед Тобою на мой обман и жестокий поступок с нею, она снова обратилась к Тебе с теми же мольбами за меня, как и прежде, и возвратилась в дом одна, а я был уже на пути в Рим.
Глава 9
Между тем, вскоре постигает меня тяжелая болезнь. Я находился уже на пути к праотцам, неся с собою все зло, какое совершил и против Тебя, и против себя, и против других, множество тяжких грехов моих, кроме первородного греха, от которого все мы умираем в Адаме. Ибо ничего Ты мне не простил, ни от чего не оправдал во Христе, не убил Он во мне на кресте Своем той вражды, в которую поставили меня грехи мои в отношении к Тебе. Да и как мог Он убить ее на кресте воображаемом только, а не действительном, посредством вымыслов и мечтаний, как я тогда думал и верил? Насколько ложною и невероятною представлялась мне смерть плоти Его, настолько истинною и несомненною была смерть души моей; и как действительна была смерть плоти Его, так фантастична и призрачна была жизнь души моей, которая не верила тому. И когда лихорадочные припадки мои стали усиливаться так, что со мною делалось хуже и хуже, то я стоял уже на пути погибели. Куда мне следовало бы идти, если бы я в то время отошел из сего мира, как не в геенну на адские мучения за свои дела, по непреложной истине Твоих уставов? Между тем мать моя ничего этого не знала, а только молилась за меня вдали от меня. Ты же, Вездесущий, и ее выслушал и меня помиловал на тех различных местах, где мы находились; телесные силы мои восстановились, но окаянная душа моя все еще оставалась больна и нуждалась в исцелении. Ибо и во время столь опасной болезни своей я не желал спасительного крещения Твоего; видно лучше был я в детстве, когда при подобных обстоятельствах настоятельно требовал себе от благочестивой матери св. крещения, как о том упомянуто уже мною в этой исповеди28.
Но я вырос на позор себе, в безумии своем издаваясь над средствами Твоего врачевания; дважды мог я умереть в таком душевном состоянии, но Ты не допустил меня до этого. Если бы сердце матери моей поражено было таким ударом, то она не перенесла бы его. Как горячо она любила меня, насколько предпочитала духовное мое возрождение рождению плотскому, как усердно заботилась о моем вероучении, – я не могу вполне высказать всего этого!
Не могу и представить себе, как перенесла бы она такой удар, если бы моя преждевременная смерть поразила любящую душу ее. Куда девалось бы столько слез и молитв, частых и почти беспрерывных? Им негде было быть, как только у Тебя; ибо все они к Тебе воссылались. И неужели Ты, Боже всякого милосердия, отринул бы сердце сокрушенное и смиренное вдовицы чистой и трезвенной, часто подававшей милостыни, покорно служившей святым Твоим, ни одного дня не оставлявшей жертвенника Твоего без приношения, двукратно в день, утром и вечером, посещавшей церковь Твою, не для старушечьих рассказов и суетной болтовни, но для того, чтобы слушать слово Твое и молиться Тебе? Неужели Ты, украсив ее Своими благодатными дарами, пренебрег бы слезы ее, коими она просила у Тебя не золота и серебра или какого-нибудь тленного блага, а спасения души сыну своему? О нет, нет, Господи! Ты никогда не оставлял ее, всегда внимал ей и отворил то, чему надлежало быть по предуставленному порядку Твоего предопределения. Быть не могло, чтобы она обманулась в тех видениях и ответах Твоих, о которых я рассказал выше29, и других, запечатленных молчанием и хранимых в преданной Тебе душе ее: в непрестанных молитвах ее вышеупомянутые видения служили для нее как бы залогом и рукоприкладством (chirographum) со стороны Твоей в неложности ее надежды. По бесконечному милосердию Своему Ты благоволишь даже в обещаниях Своих быть должником тех, коим Сам прощаешь все долги.
Глава 10
Итак, Ты воздвиг меня от этой болезни и сохранил жизнь сыну рабы Твоей, в то время пока только телесную, чтобы впоследствии даровать мне жизнь лучшую, духовную, вечную. Между тем, и в Риме я завязал знакомство с этими пустосвятами, обманщиками: я не только принадлежал к слушателям, в числе коих был и тот манихей, в доме которого я остановился, проболел и наконец выздоровел, но имел доступ даже и к так называемым избранным (electi). Мне все грезилось учение этих лгунов, что когда мы грешим, то это не мы грешим, а грешит в нас, не знаю, какая-то другая природа; моей гордости нравилось слагать вину с себя на что-то другое; и когда я делал какое-нибудь зло, то не признавал себя виновным, чтобы Ты исцелил душу мою, согрешившую перед Тобою, но любил извинять ее и обвинять, не знаю, что-то другое, что во мне было и не составляло меня. На самом же деле я представлял собою целое, а нечестие мое разделяло меня против меня; и тем хуже было для меня, что я не считал себя грешником, и Ты, Всемогущий Боже, вопреки Твоему всемогуществу, являлся как бы побежденным во мне к моей погибели, а не я – Тобою ко спасению моему30. Итак, Ты еще не полагал, Господи, хранения устном моим, и двери ограждения о устпнах моих, да не уклонится сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех, с человеки делающими беззаконие, и посему-то я до сих пор еще входил в общение со избранными их (Пс. 140, 3, 4).
Но, потеряв наконец всякую надежду на какой-либо успех в ложном учении манихеев, я стал уже относиться холодно и даже с пренебрежением к тому, чем прежде думал удовлетворяться за отсутствием чего-нибудь лучшего. Я стал думать, что едва ли не умнее всех были те философы, которые во всем сомневались, утверждая, что человек не может постигнуть иетины. Этих философов называют академиками. И я соглашался с ними, хотя детали учения их и не постигал; так, по крайней мере, чувствовал я себя тогда31. Тут открыто стал я сдерживать доверчивость хозяина своего к тем вымыслам, какими наполнялись книги манихейские и которым он вполне верил. При всем том, я более сближался с манихеями, чем с другими обитателями Рима – не манихеями. И хотя я уже не защищал манихейской ереси с прежним жаром и воодушевлением, однако близкое знакомство мое с манихеями, наполнявшими Рим, охладило во мне ревность к изысканию истины, особенно после того, как я, предубежденный манихеями, уже не надеялся найти ее в Церкви Твоей Православной, Господи неба и земли, Творец веего видимого и невидимого. Тем не менее все-таки казалось мне недостойным и постыдным верить, чтобы Ты, также как и мы, был человекообразен и ограничивался телесными очертаниями членов. Между тем, главная и едва ли не единственная причина заблуждения моего в том именно и состояла, что я, рассуждая о Боге моем, мыслил о Нем не иначе, как под условиями телесности, и никак не мог освободиться от чувственных понятий и представлений, потому что ничего не мог представить себе в другом виде.
И воображаемую мною субстанццю зла представлял я также облеченною в некоторое вещество мрачное и безобразное, или более грубую материю, как земля, или более тонкую, как воздух; злое существо, или этот злой дух (mens maligna), представлялось имеющим влияние на все в мире. Но по благоговейному чувству я не мог допустить, чтобы Ты, благой Боже, сотворил злое существо; поэтому лучшим казалось мне допустить две субстанции, взаимно от вечности противоположные, т. е. два вечных начала добра и зла, с тем различием (кроме существенной противоположности), что субстанцию добрую я представлял себе неограниченною и бесконечною, а субстанцио злую – конечною и ограниченною. И из этого-то пагубного заблуждения проистекли все другие. Так, когда я старался перейти в православную веру, то не мог, потому что не такова была православная вера по моему идеалу. На мой взгляд казалось более благочестивым думать о Тебе, Боже мой, внемлющий гласу вопля моего, что Ты, хотя и имеешь против Себя массу зла, но неограничен во всех других отношениях, нежели представлять Тебя всецело ограниченным в воплощении. Мне казалось лучше верить, что Ты не сотворил никакого зла, – зла, которое я представлял себе не только какою-то субстанцией), но притом вещественною, так как и саму мысленую силу я считал не чем иным, как тончайшею материей, могущей проникать всюду, – я хотел лучше ограничивать область Твоей творческой деятельности, нежели думать, что природа зла, как я понимал ее тогда, от Тебя происходит. Самого даже Спасителя нашего, Единородного Твоего, Которого Ты ниспослал нам для спасения нашего, представлял я себе не иначе, как протяжением или излиянием от массы светообразнейшего вещества Твоего; и не мог я подумать о Нем иначе, руководясь только своим суетным воображением. И такому естеству Его родиться от Марии Девы не иначе возможно было, полагал я, как только во плоти. Приобщиться же плоти и не оскверниться, – я не мог себе этого и представить и считал делом немыслимым. Поэтому я опасался верить рождению Его по плоти, чтобы не быть принужденным верить осквернению Его плоти. Теперь бесплотные Силы Твои кротко и с любовью усмехнутся надо мною, когда прочтут эту исповедь; но я таков был на самом деле.
Глава 11
После того я был убежден, что трудно бороться против манихеев, когда они что-либо порицают в Твоих Писаниях; но иногда у меня раздражалось желание проверить беспристрастно все спорные места с кем-либо из знатоков в Писаниях и узнать мысли об этом людей более меня сведущих. Так, еще в Карфагене меня занимали публичные беседы и прения некоего Гелпидия против манихеев; он высказывал такие суждения о Писаниях, что трудно было манихеям устоять против него, и ответы их казались мне слабыми. Правда, ответы манихеев были уклончивы и вообще они избегали публичных споров и давали ответы большею частью наедине; причем обыкновенно говорили, что Писания Нового Завета повреждены теми, которые хотели привить закон иудейский к вере христианской, а между тем сами никогда не ссылались на неповрежденные экземпляры. Но материальный мир сей и его чувственые формы, от которых я и в мыслях своих никак не мог отрешиться, до того подавил дух мой, что, задыхаясь под ними, я не мог уже дышать чистым воздухом животворной истины Твоей.
Глава 12
Итак, я решился приступить к тому делу, для которого прибыл в Рим, и стал заниматься преподаванием риторики, начав с того, что на первый раз стали собираться у меня в доме некоторые знакомые мне слушатели; в это самое время узнаю я, что в Риме водятся другие беспорядки, каких я не испытывал в Африке. Конечно, тех извращений (eversiones)32 в училищных порядках, какие допускались в Карфагене распутными юношами, в Риме не было33. Но за то здесь нередко случается, – стали говорить мне, – что многие молодые слушатели, чтобы не платить учителю за право слушания, вдруг сговариваются между собою и переходят к другому учителю; это уже своего рода изменники, которые для денег готовы жертвовать справедливостью, для которых деньги дороже честности. Возненавидела таких учеников душа моя, хотя не совершенною ненавистью; быть может еще более возненавидел бы я их, если бы и мне пришлось потерпеть от них тоже, что и другим учителям. Во всяком случае бесчестны те люди, заблуждающиеся вдали от Тебя, и постыдны дела их, когда они позволяют себе так легкомысленно издеватся над другими из гнусного корыстолюбия, которое, доставляя им временную выгоду, пятнает их навсегда; когда гоняются за скоропреходящей суетою мирской, а оставляют Тебя во веки пребывающего, призывающего к Себе отпадших и прощающего грехи возвращающейся к Тебе блудодействующей душе человеческой. И теперь я ненавижу таких испорченных и негодных людей, но в тоже время готов и возлюбить их, если только они исправятся и поставят себя так, чтобы изучаемая ими наука ценилась выше вознаграждения, вручаемого учителям, а превыше всякой науки воздавалась честь и слава Тебе, Боже, как вечному началу истины, неисчерпаемому источнику добра и подателю мира безмятежного; тогда же я более не терпел их злобы, из любви к себе, нежели из любви к Тебе желал им исправления.
Глава 13
Между тем, в это время явились в Рим из Медиолана к префекту римскому нарочитые послы с просьбою указать им хорошего наставника в красноречии, снабдив его и открытым патентом (impertita evectione publica)34. Тогда я сам начал стараться воспользоваться этим случаем, чтобы избавиться от учеников римских, неблагодарных к своим учителям; для получения желаемого места хлопотал я даже через тех самых манихеев, в суемудрии и лжемудрии погрязавших, от которых мне решительно уже хотелось отстать; а того и не знали мы, ни я, ни они, что тогдашний префект города Симмах уже дал ответ, в котором именно меня рекомендовал к отправлению в Медиолан. Таким образом я и отправился туда. Прибыв в этот город, я представился прежде всего Амвросию, епископу Медиоланскому, известному в числе знаменитых мужей целому миру, тому просвещенному и благочестивому святителю Твоему, красноречивые уста коего подавали в то время вдоволь алчущим пищу Твою духовную, жаждущим питие Твое духовное, и страждущим елей радости. Ты вел меня к нему, Боже мой, без моего сознания, для того, чтоб он привел меня к Тебе с моим сознанием. Отечески принял меня этот человек Божий и с пастырскою любовью отозвался о моем странствовании, чем и внушил мне к себе любовь и доверенность. На первый раз я смотрел на него, как на человека только приветливого и благорасположенного ко мне, ничего не ожидая от него, как благовестителя истины, так как я не надеялся уже найти ее в Церкви Твоей. Вскоре однако же стал я слушать поучения его к народу; но все внимание мое здесь ограничилось тем, что я как бы испытывал только силу ораторского его таланта, – действительно ли витийство его соответствовало той славе, какая о нем гремела, и таков ли он был на самом деле, не ниже ли и не выше ли того, как о нем говорили: мне казалось как бы решенным уже делом, что истины никто сказать не может, тем более епископ православный; и потому я, слушая его, обращал внимание не столько на сущность дела, сколько на оболочку его, не на содержание и смысл слушаемых проповедей, а на слова. И я восхищался приятностью и сладостью речи в устах Амвросия: в ней конечно высказывалось более образованности и учености, но не видно было той живости и увлекательности, какою отличалась речь Фавста по своей внешности. За то не было никакого сравнения между ними в отношении к содержанию самих предметов: Фавст, как зараженный лжеучением манихейским, и сам заблуждался, и других вводил в заблуждения; Амвросий же, как истинный христианин, и сам исповедовал здравое и спасительное учение, и других учил истинному пути спасения. И хотя грешники, каким и я был тогда, далеко отстоят от спасения; однако же я, слушая этого великого святителя, стал мало-помалу приближаться к своему спасению, сам не замечая того: вместе со словами невольно проникала в душу и сама истина, так что я становился к ней все ближе и ближе.
Глава 14
Когда я таким образом старался внимать не тому, чему учил он (Амвросий), но – как учил (ибо я уже решительно отчаялся было найти путь к Тебе, Боже мой, и потому бесполезным считал заботиться о том), тогда вместе со словами, которые мне нравились, проникали в душу мою и сами предметы речи, о которых я не заботился. Да иначе и быть не могло. Таким образом, открывая сердце для красноречия его, я в тоже время стал ощущать в душе своей более и более силу истины. И прежде всего мне представилось, что дело само за себя может постоять, то есть, что вера кафолическая, которую прежде я считал беззащитной против возражений манихейских, может бороться против них с честью; особенно стал я сознавать это в то время, когда многие трудные места (aenigmata) Ветхого Завета, особенно представленные в образах, одно за другим разрешались для меня проповедником; эти-то образы и убивали меня духовно, когда я понимал их буквально. Прослушав объяснение многих таких мест из книг Ветхого Завета, я стал уже упрекать себя за свое прежнее отчаяние и начал выходить из того безнадежного положения, в котором находился доселе, касательно достоинства закона и пророков, то есть я перестал уже верить, что порицателям Писания ничего нельзя противопоставить равносильного. Впрочем, это еще не значило, чтобы я решился уже принять кафолическую веру; она могла иметь ученых толкователей и защитников своих, которые в состоянии говорить много и разумно против возражений на нее, но отсюда еще не следовало, чтобы нужно было осуждать то, чего я держался, ибо доказательства и с той и с другой стороны могли быть равносильны. Таким образом, я не считал уже православной веры побежденною, но и не признанал еще ее победительницею.
С этого-то времени я стал напрягать все силы ума, чтобы найти непреложные доказательства против лживости манихейской и утвердиться в православном учении решительно победою над манихеями. И если бы я мог тогда правильно понимать субстанции духа, то все ухищрения манихейские тотчас разрешились бы в прах и я не медля выбросил бы из головы своей все эти вымыслы и нелепости: но я не мог еще достигнуть этого. Впрочем, что касается до мира чувственного и вообще чувственной природы, то об этом много находил я более вероятного у философов, когда прилежно размышлял сам с собою, читая и сличая их учения. Итак, дело кончилось пока тем, что, сомневаясь во всем, подобно академикам, я решился только оставить манихеев: предпочитая им в период своего скептицизма многих философов, я нисколько не колебался уже совершено отстать от секты манихейской. Но в тоже время и философам, не находя у них спасительного имени Христа, не хотел и не мог я всецело вверить врачевание болезненной души своей. Таким образом, я решился пребывать оглашенным в Православной Церкви, которой вверили меня родители мои и которой принадлежал я с самого детства35, до тех пор, пока что-нибудь не откроет мне пути верного и несомненного.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?




































