Текст книги "Наставники"
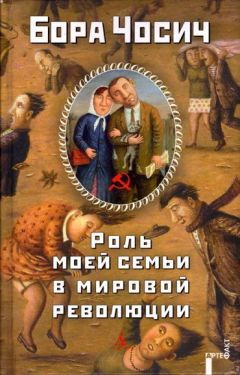
Автор книги: Бора Чосич
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
О забытом искусстве месить хлеб
Среди многих искусств, безвозвратно утерянных в сорок четвертом, перед самым концом войны, очень волнующим было искусство месить хлеб, в действительности не существующий. «Капитан речного пароходства опять кулачищами жену измесил!» – говорил дядя. Мама говорила: «Ты бы хотел и тесто замесить, и в печь поставить, и не обжечься, да?» Дедушка говорил: «Крутое тесто нам Сталин замесил, а сам сидит в надежном месте за Уралом!» Однако все это относилось к другим профессиям, хлеба же не было, как не было и людей, которые его месили, ставили в печь и которые, наконец, могли постоянно наслаждаться его теплым духом. Мама изобретала различные способы возмещения этого отсутствия, давила картошку сомнительного цвета, сушила и молола жалкие сморщенные фрукты и, кроме того, больше всего любила поговорить о довоенном тесте, о фильмах, в которых оно фигурировало, и об актерах, которые пожирали красотищу, выпеченную из этого теста. «Я не верю!» – говорил дедушка. «Но, папа, – говорила мама, – я своими глазами видела это в позапрошлом году в кинотеатре „Луксор", который в тот период времени был самым элегантным!»
Был год сорок четвертый, хлеба не было ни в киноленте о битве за Сингапур, ни у нас на столе. «Мне надо хоть что-то пожевать, а то с ума сойду!» – твердил дедушка. В этот момент, на пике переживаний, на пике военных невзгод, прискакали партизанские всадники, во главе их был Миодраг Вацулич, капитан, самый бесстрашный из них. «Наконец-то жратва будет!» – воскликнул дедушка, однако сразу стало ясно, что он ошибся. Кислый солдатский хлеб, захваченный у разбитой германской армии, тайные булочки, изъятые из кухонных шкафов проклятой буржуазии, были розданы освобожденным заключенным и товарищам, раненным в последней битве, а мы получили портреты Климента Ворошилова верхом на коне и жевательную резинку американского производства. Мы развернули позолоченные фантики с изображением ужасов Перл-Харбора и запихали во рты неизведанную субстанцию, серую, сладковатую, весьма сомнительную. «Жуйте сколько угодно, – учил Вацулич, – но ни в коем случае не глотайте!» Дедушка разозлился: «На кой тогда это надо?» Вацулич рассказал об употреблении жевательной резинки американскими солдатами во время атаки, с помощью чего преодолевается ощущение страха и в полости рта создается ощущение сладости. «Это только начало, – сказал Вацулич, – потом будет все остальное!» Партизанские всадники принялись перетряхивать сусеки антинародных пекарей – подлых людей, запустивших свое ремесло, тешивших себя исключительно добыванием неестественного количества денег. Освободители нашего города, освободители земного шара шныряли за остатками прежних питательных веществ, а мы сидели за длинным столом, аплодировали быстро наступившей свободе и жевали сладкую резинку, американскую. Потом мы стали ее растягивать. Драгоценную пищу необыкновенного типа, испытанную американскими солдатами во время победоносных атак, мы зажимали зубами, одновременно вытягивая ее за кончик пальцами на максимально возможное расстояние. Дядя, самый ловкий и самый долгорукий в семье, растягивал резинку длиннее всех, потом наматывал ее на ухо, на предметы мебели и тому подобное. Дедушка протестовал: «Все-таки это еда, хоть и несъедобная) – и добавлял: – А едой не балуют!» Однако дядя продолжал изобретать различные способы употребления американского средства для успокоения нервной системы. Большие количества этой приятной массы, полученной в подарок от наших друзей – товарищей из освободительного корпуса, дядя, предварительно прожевав, оставлял на стульях, дверных ручках, а кое-кому незаметно запускал в волосы. Тетки, которым после этого было никак не причесаться, рыдали, дедушка не мог подняться со стула, мама приклеивалась к кухонной двери, В сорок четвертом году мы, изголодавшиеся, были воодушевлены первым предметом питания, который получили от освободителей, но он мешал нам передвигаться, и вообще. Мама сказала: «После такой голодовки – всего-то!» Дедушка сказал: «Все, что в неразумных количествах, противно человеческой природе!» На том и порешили. Капитан Вацулич, его товарищи, люди, мобилизованные на помощь армии в трудном деле преследования врага, брали в кольцо пекарни, пекари отбивались от них черствыми булочками, отступая в муку, загубленную гнусными червями. Пекарей вытаскивали оттуда за ноги, они были как напудренные, трудно было разобрать, кто есть кто. Товарищ капитана Вацулича Строгий вытащил наган русского производства, построил напудренных людей и начал ругаться словами абсолютно нашими, сербскими. Пекари потихоньку дрожали на октябрьском морозе, мука с них неслышно осыпалась, ветер уносил ее. Товарищ Строгий стал чихать от муки, унесенной ветром, но тем не менее сумел громко сказать: «Если не скажете, кто из вас Милан Трандафилович, всех до единого перестреляю!» Пекари пошептались немного, потом вдруг, отряхнув муку, принялись разглаживать усы, произнося вслух: «А пошел бы ты, сморчок, так тебя и перетак!»
В сорок четвертом, переломном году нашей истории, Строгий принялся казнить антинародных месителей довоенного хлеба, а в это время люди набросились на остатки муки, из которой выволокли этих выродков, величайших ублюдков, какие только были нам известны. Люди кровавыми еще руками принялись месить тесто из муки, взятой из кучи, в которой прятались сбежавшие мастера пекарского искусства, и только потом заметили что в муке остался еще один, самый пугливый. «Когда-нибудь перестанут печь хлеб, даже обычный, и тем более перестанут запекать в него человечину!» – сказал Вацулич.
Дедушка спросил: «Как же без хлеба-то?» Вацулич ответил: «Тогда столько всякой жратвы будет, что ты о хлебе и думать забудешь!» – «Вот это здорово!» – ответил дедушка. Так думали и остальные. Как только товарищ Строгий закончил расстрел непослушной банды пекарей, товарищ Вацулич объявил: «Хлеб и тесто вообще будут использоваться нами только для исполнения скульптурных работ в виде голов самых заслуженных' товарищей, а также для строительства мест общего пользования, например Эйфелевой башни!» Дедушка сказал: «Кто бы мог подумать!» Остальные расхватали заступы и принялись закапывать банду пекарей, сваленную в кучу под стенкой. В сорок четвертом году у нас практически не было возможности месить тесто для хлеба и вообще месить муку, в тот год мы замешивали свою будущую жизнь, сияющую, полную невиданных, ослепительных картин, очень таинственную.
Об искусстве театра в невозможных условиях
Мама Рудики Фрелиха, моего товарища, шла по улице в деревянных башмаках, с желтой повязкой на рукаве, я сказал: «Госпожа Фрелих играет в „Лагерниках", фашистской пьесе!» Дедушка тут же замахнулся на меня, но не ударил. Мой отец переоделся и изобразил женщину, которая напилась и смешно кричит, рыдая, в знак памяти одного нашего родственника, сгинувшего в круговороте войны. Члены Союза коммунистической молодежи стучались в двери, изображая продавцов несуществующего мыла, они говорили: «За все фрицы заплатят!» Мы принимались было аплодировать, они говорили: «Только тихо!» Тетки сказали: «Мы смогли бы сыграть двух молоденьких сестричек, брошенных на необитаемом острове с красавцем капитаном, которого играет Альфред Метку, но не станем!» В сорок четвертом году, перед самым концом войны, дедушка наконец-то сумел создать черную ваксу для усов, искусственного происхождения. Дедушка нафабрил ею усы, посмотрелся в зеркало и сказал: «Эта жизнь в подметки довоенной не годится!» Мама вздохнула: «О чем ты говоришь! – и добавила: – Живем как в пьесе на тему из жизни бедняков!» Я сказал: «А я помню театральное представление с обнаружением таинственных теней и с пропажей каких-то бумаг, которые украли у принца, которому не отрубили голову, но потом зарубили отравленной саблей!» Мама печально сказала: «Забудь о всем прекрасном и сделай вид, что тебе на все наплевать!» Тетки принялись изображать веселье, правда, получалось у них плохо. Дядя постоянно пытался сыграть роль под названием «Господин, который отменно воспитан и лапает баб» – что-то вроде скетча из повседневной жизни, если не принимать во внимание крайне заношенный костюм. Отец после многолетних репетиций довел до полного совершенства роль «Я совершенно трезв!», только мама могла отделить его актерское мастерство от суровой действительности. Все в доме вели себя как-то необычно, неестественно, точнее, как в театре. Дедушка сказал: «Я вас не узнаю!» Мама сказала: «Во всем виновата эта жизнь, такая гадкая! – и добавила: – Я страстно желаю быть естественной, но сейчас это невозможно!» Был год сорок четвертый, много в чем фальшивый, то есть театральный. Адольф Гитлер появился в фашистском киножурнале в какой-то театральной униформе и с искусственными усами. Адольф Гитлер начал молотить руками и произносить декламацию о победе германских танков на всех фронтах. Все, едва завидев его, принимались аплодировать. На пустыре, за домом, народный престидижитатор, лауреат довоенной Парижской выставки по прозвищу Китаец, исполнял скетч про клептомана, ворующего на нервной почве в посудной лавке. Мы, то есть публика, были очень довольны. Фашистские агенты сидели по кабакам и рассказывали анекдоты о новом гитлеровском порядке. Дядя сказал: «Это они роль такую играют: если кто засмеется, того хватают и лупят!» Это соответствовало действительности. Офицеры-четники, очень бородатые, ездили на велосипедах – они играли довоенную роль под названием «Бородатые женщины на самокатах!» или что-то в этом роде. В сорок четвертом году накануне осени во всех европейских театрах давали спектакли «Сводки с фронта!», «Ужасы войны!»; «Гибель человечества!» и тому подобное. В представлениях участвовали люди, одетые в разные униформы, но это были не актеры, а солдаты, совершенно обыкновенные. Настоящие художники сцены, люди, произносившие когда-то потрясающие монологи, мастерски игравшие стариков, женщин и домашних животных, сидели у нас на кухне и декламировали жалостливый стишок Уильяма Шекспира о смерти девушки, утонувшей в пруду. Тетки говорили: «Это ужасно!» Артисты ответили показом процесса схождения с ума одного короля – по-театральному, актерски, и мама сказала: «Мороз по коже!» В пекле последнего года войны актерский люд нашей страны, нашего города, жрецы человеческого взаимопонимания, перестали играть трагические фигуры прошлого и перешли к обычному существованию, почти настоящему. Артисты грелись у плиты, топящейся фальшивым горючим из пропитанных соляркой тряпок, пытались произносить какие-то слова, собственные, личные, но это у них не получалось. Артисты подолгу молчали, потом кто-нибудь спрашивал: «А как дальше?» Или: «На чем я остановился?» Или: «Я что, не в форме?» Никто обычно не отвечал, потому что не знали как. Дедушка дивился: «Что с цими?» Дядя объяснил: «Они не знают, как дальше вести свою роль, то есть частную жизнь!» Мама добавила: «А это труднее всего!» Великие актеры моего народа, выбитые из седла, лишенные единственно известного им ремесла, пытались включиться в абсолютно новое для них действо – семейное, чуждое, то есть в нашу жизнь. Я прочел на память единственную известную мне пьесу о вручении подарка одному молокососу, который празднует день рождения любимой куклы. Дядя рассказал: «Люди перед расстрелом разыгрывают храбрецов, а в последний момент начинают плакать, когда уже поздно!» Отец сказал: «Каждому свое!»
Артисты были людьми совершенно обыкновенными, ничуть не отличающимися от нас, однако они реагировали как-то неестественно и очень громко. «Мы что, глухие, что ли?» – спросил дедушка, тетки ответили: «Но, пала, ты просто не разбираешься в этом!» Артисты произносили обычные вещи, обыденные, но все-таки некоторые слова звучали странно, некоторые буквы в этих словах подчеркивались ими – например, буква «П»: будто открывают бутылку пива или что-то в этом роде. Дедушка сказал: «Мне так в жизни и двух слов не выговорить!» Артисты говорили: «Это дело привычки, точнее, тренировки!» Мама сказала: «Слава Богу, мой муж не актер, а то бы я не знала, какие чувства он питает ко мне в действительности!» Тетки сказали: «Мы были бы счастливы, если бы все разговаривали так выразительно!» Дедушка сказал: «Ага, чтоб свихнуться поскорее!» Мама сказала: «Впрочем, лучше фальшивая красота, чем действительность, которая уродлива и ранит сердце!» – но слов ее, похоже, никто не понял. Мама сказала еще вот что: «Если бы я вдруг стала театральной актрисой, то обязательно в личной жизни придерживалась бы принципа скромности!» Артисты возразили: «Это вы так полагаете, госпожа, на самом деле это просто невозможно!» Мама ответила: «В таком случае прекрасно, что я не достигла профессионального уровня!» Артисты продолжали разговаривать громко, широко открывая рты, дедушка говорил: «От их речей только сквозняк, я в конце концов простужусь!» Однако не простудился. Артисты пробовали рассказывать самые обычные вещи, но в их исполнении все получалось торжественно и абсолютно фантасмагорично, тетки были просто вне себя от восторга. Мама сказала: «Нет, я не пойму, как в ваших головах умещается столько театральных пьес и как вы не путаете слова в самый решительный момент, то есть на сцене!» Тетки сказали: «Если бы мы овладели хоть ничтожной долей вашего мастерства, никто бы с нами не мог сравниться!» Один из артистов сказал: «Зачем вам это, дорогие девушки, может, после войны эта тяжкая профессия совсем исчезнет!» Тетки ответили: «Ну и пусть, все равно!» Дедушка сказал: «Делать не хрен! – и добавил: – Не было у бабы забот!» Тетки сказали: «Когда-то на школьном вечере мы исполняли сценку про парикмахера, который лижет искусственную мыльную пену из яичного белка!» Дядя сказал: «Я читал книгу с картинками о сущности актерского мастерства!» Дедушка сказал: «Ты, главное, детям не показывай, неприлично!» Артисты говорили: «О нас говорят много чего плохого, не соответствующего истине, ну и пусть!» Великие мастера искусства чревовещания, декламации стишат Уильяма Шекспира, в настоящее время безработные, принялись, собираясь вместе, выдумывать несуществующие происшествия и новости, чаще всего заведомо ложные, в которые сами почему-то начинали верить. «Там-то и там-то продают белый хлеб, как до войны!» – говорили они. «Мадемуазель Теофанович будет ждать тебя у кинотеатра „Луксор" в пять пятнадцать!» – сообщали они другому. Кто-то из них отправлялся покупать белый хлеб, но его посылали еще дальше. Другой шел к кинотеатру «Луксор», но там не было мадемуазель Теофанович и никаких женщин вообще. Они возвращались с руганью, остальные ржали как ненормальные, все это походило на комедию. Тетки канючили: «Прочитайте нам вступительную главу из поэмы о Фаусте, очень бородатом и умном человеке!» Артисты спрашивали: «Прямо сейчас?» Дядя говорил: «Можно подумать, очень им это надо!» Артисты говорили: «Загляните вот в этот конверт, мы по дешевке купили дорогой браслет!» Тетки, сгорая от любопытства, хватались за конверт, из него стремительно вылетала скрученная веревка, закрепленная резиной, тетки верещали от ужаса. Артисты просили: «Потрогайте мышцы, какие они твердые!» Дядя брался рукой за актерскую мышцу, из-под мышки актера вырывалась струйка воды, все ржали. Дедушка восклицал: «И его, оказывается, надуть можно!» Мама вздыхала: «Бедные наши артисты, на что вынуждены разменивать свой огромный талант!» Дедушка в этот момент менял тональность: «А то им плохо живется!» Мама продолжала: «Слону не вынести того, что выдерживает человек!» Я сказал: «А я видел человека, который играет сразу шесть разных животных с помощью переодевания в мешки, выкрашенные натуральной краской!» Мама сказала: «Люди пытаются бежать из лагерей, переодевшись овцой или собакой, но немцы хватают их и уничтожают, не сходя с места!» Дедушка спросил: «Откуда ты это знаешь?» Мама ответила: «Об этом мне рассказывала одна женщина, чье имя я не раскрою даже под самыми страшными пытками!» Дедушка успокоился: «Ну, это дело твое!»
В первые дни свободы все мы стали декламировать печальные стихи о прошлом наших народов, капитан Строгий аплодировал и говорил: «Точно!» Потом с помощью артистов, отчасти настоящих, мы попытались поставить пьесу «Освобождение Европы!», с многочисленными сценами убийств и поцелуев в губы, дедушка спрашивал-«Что, так оно и было?» Потом он сказал: «Только бы анархия в жизни не началась, потому что все тогда покатится!» Тетки сказали: «Но, папа, ведь это искусство которое всегда должно идти своим путем, пусть даже самым невероятным!» У бойцов Двадцать первой сербской мы одолжили автоматы русского производства для сцены взятия Берлина на тот момент еще не взятого. Я сказал: «Я бы сыграл Гитлера, но у меня нет усов!» Мама сказала «Сынок, ты слишком красив, чтобы играть эту скотину!» Скотину играл Мирослав, первый этаж, левый подъезд. Мирослав с помощью верхней губы зажал под носом расческу и стал орать как бешеный, все хлопали. Ему сказала: «Ты что-нибудь против нас говори, но только по-немецки!» Мирослав немецкого не знал, но напридумывал разные слова типа «шлауфенциммер», «шмерцгебит», «флайгеборген». В момент наивысшего напряжения гитлеровского языка, в действительности не существующего, артисты, игравшие русских освободителей, открыли огонь из позаимствованного оружия; патроны, в отличие от разыгрываемой сценки, были настоящие и абсолютно убийственные. Мирослав упал с улыбкой на губах, расческа тоже упала и сразу сломалась. Товарищ Строгий отнял взятые в долг автоматы, артисты принялись плакать. Строгий сказал: «Это не первый и не последний павший на ниве художественного строительства!» Что, как показала дальнейшая жизнь, было совершенно верно.
Наши златошвейки
Когда началась война, моя семья жила на третьем этаже старого здания, потом она так и осталась там существовать. В окрестностях, по соседству, обретались люди разных профессий – официанты, граверы, ремесленники вообще. Мой дядя пытался произвести перепись соседских профессий, но не смог и перешел к переписи своих успехов в любви; между тем люди продолжали заниматься своими делами, зачастую абсолютно ненужными. Дедушка спросил: «А где ж они деньги берут, чтобы мастерскую-то содержать?» Мама ответила: «Много ли надо девушке для того, чтобы сидеть у окна и вышивать узор под названием ажур-плиссе?» Дедушка спросил: «А что это такое?» Мама ответила: «Это название ручной работы французского происхождения, в настоящее время, на период войны, исчезнувшей!» Дядя добавил: «Это когда на рубашке вышивают монограмму, чтобы не украли!» Дедушка спросил: «А почему ж она исчезла?» Мама вздохнула: «Потому что это, как и многие другие работы по женскому платью в виде украшений, очень дорогая вещь! – и добавила: – Когда-то у меня на каждом платье было минимум по одному украшению, а сейчас ничего!» Дедушка сказал: «Хорошо еще не голая ходишь!»
В сорок третьем году вышивание как таковое, а также златошвейки и другие украшательницы дамских нарядов вроде как бы исчезли, растворились, однако в непосредственной близости от нас работала мадемуазель Бетти. Мадемуазель Бетти красила волосы в красный цвет, все это было изображено на вывеске – как имя, так и волосы. Дедушка спросил: «А чего это у них у всех иностранные имена, если это вранье?» Мама сказала: «Муж у нее был француз, пока не сбежал?» Дедушка удивлялся: «Как только хватает терпения вечно сидеть и ковырять иголкой!» Мама сказала: «Каково ей, бедняжке, приходится, знаю только я!» Потом она все же открыла тайну: «Однажды я была у нее, когда она встала и показала ногу, отрезанную трамваем!»
В сорок третьем году мало кто из соседских дам навещал мадемуазель Бетти для того, чтобы украсить платье вышивкой, но мадемуазель Бетти, несмотря ни на что время сидела и ковыряла иголкой, видимо, в силу трагического происшествия с ногой, ранее нам не известного Тетки сказали: «Мы можем исполнить небольшой гобелен с видом озера Блед, но с монограммой вряд ли справимся1» Дедушка сказал; «Хорошо хоть это понимаете!» До войны мадемуазель Бетти исполняла исключительно простые инициалы, в самом же начале войны появились немецкие унтер-офицеры, они требовали: «Ты нам сделать имья для жентшина!» – и это были совсем другие, трудные буквы. Потом, после поражения под Сталинградом, почти полностью прекратилось употребление немецких букв, дядя сказал: «Пора ей перейти на изготовление русских пятиконечных звезд!» Дедушка откомментировал: «Ага, чтоб ее на голову укоротили!» А отец добавил: «Так она и так снизу укорочена!» Дядя сказал: «Одноногие для этих самых дел, говорят, наилучшие бабы!» Мама сказала: «Боже спаси и помилуй!» Был сорок третий год, весьма странный, военный, в школе дали задание вылепить дом из пластилина под названием «Сельский дом», а также вышить свое имя на куске картона Дедушка сказал: «Эк они тебя в бабу превратить стараются!» Мама сказала: «У меня ниток нет тебе штаны зашить, а тут такие глупости!» Дядя сказал: «Я в детстве так прострочил палец машинкой, что еле-еле иголку из кости вытащил!» Отец сказал: «Русский пулеметчик строчит с крыши!» Последние слова были истинной правдой. Пулеметчик спустился по водосточной трубе и сказал: «Здравствуйте!» Мама на скорую руку принялась штопать ему рукав, прошитый немецкой пулей. Дядя сказал: «Вот сейчас мы Гитлеру жопу заштопаем!» Русский ответил: «Так точно!» К мадемуазель Бетти нагрянули люди, люди заявили: «Сейчас мы в бога, в душу и в жопу мать этой блядищи, которая немцам джемпера штопала!» То, чем грозили ее матери, проделали с самой мадемуазель Бетти. Потом они говорили: «Мы ж не знали, что у нее одна нога, а вообще-то она ничего!» Дядя сказал: «Ну, что я говорил!» Пришли в мастерскую и женщины, чтобы унести оттуда незаконченные монограммы, драгоценные нитки довоенного производства; нитки назывались английскими названиями и инициалами – например, «Е», «М», «С», это было непонятно, но очень дорого и годилось для того, чтобы утащить. Мадемуазель Бетти начала умирать вечером, утром уже сочувственно шептались: «Сколько их было, прямо пришпилили бедную!» Кто-то предположил: «А может, они ее просто пришили?» Дядя спросил: «Монограмму, случаем, не оставили?» Мама сказала: «Бедняжка, если б она знала только, что с ней приключится, так небось не сидела бы в уголке всю жизнь! – но, подумав, добавила: – А может, и сидела бы!»
В сорок четвертом году в наших окрестностях строго наказывалась дружба с немцами, в первую очередь это относилось к златошвейкам, официантам, парикмахерам, вообще к людям, занятым в сфере услуг. Капитан Вацулич сказал: «Должно быть чисто или никак!» Дедушка спросил: «А кто вам теперь будет звездочки вышивать?» Вацулич ответил: «Не важно, что в гербе, важно, что в душе!» А в душах – его, моей, моих родных – начал зарождаться абсолютно новый символ, эмблема будущего, монограмма череды предстоящих лет, о которых мы в тот момент не имели ни малейшего понятия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































