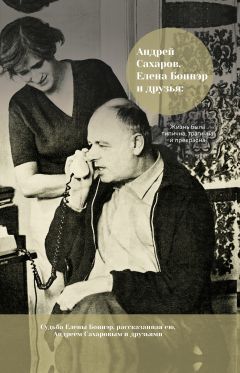
Автор книги: Борис Альтшулер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
А по поводу унылых разговоров о правозащитном «сотрясении воздуха» уместно дать слово Елене Георгиевне Боннэр (из статьи 1990 года):
«А «сотрясение воздуха» всегда помогало. Пока меня не заперли в Горьком, было опубликовано все, что Сахаров там написал (а что не опубликовано, то было спасено), в том числе и статья «Опасность термоядерной войны», без которой еще неизвестно, были бы сделаны те шаги по разоружению, которые мы имеем сегодня. И невестка наша уехала, и даже успела родить маленькую американскую гражданку. И героические усилия теоротдела ФИАН и его руководителя академика Гинзбурга оставить Сахарова сотрудником отдела увенчались успехом, потому что были поддержаны решением Национальной академии США прекратить сотрудничество с АН СССР и твердой позицией в этом вопросе ее президента д-ра Филиппа Хандлера.
«Сотрясение воздуха»: протесты тысяч иностранных ученых, «День Сахарова», голодовка в Вашингтоне напротив Советского посольства, единогласная резолюция Конгресса США, тост Миттерана в Москве, беспокойство государственных деятелей Запада, активные действия наших близких «там» и друзей «здесь», тревога, которую они сумели внушить западной прессе, – заставило правительство принять разумное решение (возвращение А.Д. в Москву. – Б.А.). А новое правительство или старое – дело второе.
Напомню: и при старом руководстве бывали победы, когда наша диссидентская «малая гласность» и Сахаров докрикивались до «города и мира», – освобождены Григоренко, Буковский, Кудирка, Гинзбург, «самолетчики» и еще многие. И докричалась она до того, что идеология защиты прав человека стала всемирной»[193]193
Е.Г. Боннэр, «Кому нужны мифы», – «Огонек», № 11, март 1990. – Сост.
[Закрыть].
Октябрь 2017 г.
Приложения:
1. К юбилею Елены Боннэр (15 февраля 2008 г.)
Поздравляя дорогую Елену Георгиевну Боннэр с полукруглым днем рождения, хочу сказать о масштабе личности этого человека, сознавая при этом, что для многих предвзятых, узко мыслящих либо неосведомленных людей говорю нечто нетривиальное.
В чем, как я понимаю, проявляется масштаб личности Елены Боннэр?
В том, что, будучи вовлеченной в материи, так сказать, глобальные, да еще при таком активном характере, она продолжает видеть за всем этим конкретного человека, в естественном внутреннем приоритете простых и понятных человеческих начал (уверен, что для нее было бы невозможно на замечание из зала, что у нас пенсионеры голодают и умирают, ответить «меня это не интересует» – эпизод из «лихих девяностых»). Дом Елены Боннэр всегда был пристанищем, и не только для репрессированных диссидентов и их родственников. Всё гораздо глубже. Для меня, как детского правозащитника, важно, например, такое свидетельство (из книги «Постскриптум», гл. 6, здесь Елена Георгиевна вспоминает о жизни в Ленинграде у бабушки перед войной, после ареста родителей): «… Мы живем в одной комнате – бабушка, брат, сестра и я. За стеной (все слышно) жил человек по имени Федоров, там его жена и четверо детей, он всегда пьян и бьет их. Когда они успевают убежать от него, то проводят ночь у нас, сидя на сундуке… Федоров никогда не врывался к нам в комнату – боялся моей бабушки; ее все боялись…». Да, в плане домашнего насилия идеализировать прошлое просто глупо, надо смотреть вперед и строить «мир, пригодный для жизни детей», чем мы с друзьями и стараемся в меру возможностей заниматься.
Еще цитата. Е. Боннэр (речь идет о второй половине 1960х, после переезда из Ленинграда в Москву в 1964 г.): «У меня большой опыт работы с подростками. В нашем медучилище большую часть учащихся составляли девочки из малообеспеченных семей, из неполных… И говорить с ними о высоком, о духовных ценностях было поначалу не так-то просто. Но все же… Если попытаться научить их что-то любить, то из этого «что-то люблю» всегда вырастает потом человек… Мы с ребятами в училище занимались поэзией, музыкой, словом, всем сразу. Причем в основном это были те учащиеся, кого по разным причинам собирались исключать. Они в уборной курили, под лестницей пили, и мы проделали довольно большой путь, прежде чем стали лучшим коллективом художественной самодеятельности в медсантрудовской системе Московской области, ездили по стране с большими представлениями, даже ставили «Голого короля» Шварца. Мы научились говорить друг с другом обо всем и уже не было равнодушных ни друг к другу, ни к тому, что происходит вокруг. Эти отношения сложились уже на всю жизнь. Я не боялась вводить их и в свой дом, и в дома наших друзей… Коротко говоря, всегда важно, чтобы нашелся хоть один взрослый, который отыскал бы то светлое в ребенке, за что можно зацепиться. Не важно, что конкретно это будет, – страсть к року или к абстрактному искусству. И так же не важно, любишь ли ты сам рок-музыку или предпочитаешь «Франческу да Римини»… У нас же достаточно неравнодушных людей, которые могут понять молодежь» (Из интервью А. Сахарова и Е. Боннэр газете «Молодежь Эстонии», 11.10.1988). Я подчеркнул здесь программные слова, это же и есть те самые «патронат» и «наставничество», за системное внедрение которых в России мы бьемся в последние годы.
Принцип такого «человеческого» подхода очень точно сформулирован в том же интервью газете «Молодежь Эстонии» – в ответе на вопрос корреспондента о содержании упомянутого А.Д. Сахаровым понятия «активная нравственность»:
А. Сахаров: «Активная забота о тех, кто рядом, и по возможности – активная забота о тех, кто далеко от тебя. Но первое условие является обязательным.» – Е. Боннэр: «У Кайсына Кулиева есть такие строчки: «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей!». Это я говорю в продолжение мысли Андрея Дмитриевича». – А. Сахаров: «В нашей совместной жизни Елена Георгиевна не раз цитировала мне эти слова, и я теперь считаю, что именно под ее влиянием такая мысль стала мне более близкой, чем прежде, когда я был, скажем так, несколько абстрактен».
Другой для меня немаловажный критерий масштаба личности – стихи, как способ жить и чувствовать, которые часто вплетаются в канву жизни неожиданно, но всегда к месту.
Елена Георгиевна рассказывала о забавном эпизоде во время ее выступления в одном из американских университетов в начале 90-х. Она по ходу речи заметила, что не любит Достоевского, чем привела профессорскую и студенческую аудиторию в состояние шока (американцы мыслят великую русскую литературу в понятии трех незыблемых икон: Достоевский, Толстой, Чехов). В ответ на недоуменную реакцию Елена Георгиевна спросила, а может ли кто-нибудь встать и прочитать стихотворение великого американского поэта Уолта Уитмена? Среди сотен присутствовавших ни одного такого, конечно, не нашлось, и тогда она сама прочла им Уолта Уитмена, естественно по-русски, а принимавший ее профессор перевел смысл под аплодисменты зала.
Удивительно описание ее встречи с Папой Римским Иоанном Павлом II (таких встреч было три – в 1979, 1985 и 1989 годах, третий раз – вместе с Андреем Дмитриевичем). Е. Боннэр: «Первая встреча была… вечером в том помещении, где Папа обычно принимает посетителей. Я была с Ириной Алексеевной Альберти. Папа подробно расспрашивал об Андрее, его родителях, детстве и юности, и сам вспоминал свое детство и юность. Рассказал, что у них в доме квартировал какой-то русский студент и занимался с ним немного русским языком, читая ему стихи Некрасова и Надсона. И потом мы (в основном я) читали стихи. Папа знал первые строки нескольких стихотворений, он начинал, я продолжала все стихотворение. И конечно здесь было «От ликующих, праздноболтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви». Мне казалось, что Папа очень радовался стихам. Пробыли мы с Ирой у него около часа…» (А. Сахаров, Е. Боннэр, «Дневники. Роман-документ», том III, стр. 42, «Время», Москва, 2006).

Флоренция, 9–10 февраля 1989 г.
И впечатляет преемственность поколений. Осенью 2007 года в США вышла книга Даниила Хармса – 272 страницы, с предисловием и в переводе Матвея Янкелевича, в связи с чем Елена Георгиевна написала друзьям: «Очень рада и горжусь моим первым внуком». Мы тоже радуемся вместе с ней, и, пользуясь случаем, снова поздравляю ее и Матвея с этим замечательным событием.
Заканчивая свой, далеко не полный, перечень признаков масштабности личности Елены Георгиевны Боннэр, хочу сказать о таком качестве, как способность взглянуть на себя со стороны, критически оценивать собственные слова и действия, переходить от весьма определенных утверждений к вопросам, что является необходимым условием развития понимания ситуации и определения задач на будущее. Качество это вообще не часто встречается, а у людей с таким бурным характером – это вообще уникально.
К дню рождения 15 февраля 2008 года Елена Георгиевна получила очень много поздравлений и потом ответила на них общим благодарственным письмом:
«Дорогие друзья!
Очень хотелось написать каждому, но сил не хватает. Простите. Горячо и искренне благодарю всех, кто поздравил меня с моим долголетием. И хоть ноша годов тяжела, но от ваших добрых слов вроде как стала легче. Спасибо вам за это. И больше всего за память об Андрее Дмитриевиче. А я как луна – отраженный свет.
Почему-то вспомнился Омар Хайам. И захотелось закончить мое «спасибо» его строками: «Бремя любви тяжело, если даже несут его двое. Нашу с тобою любовь нынче несу я один. Но для кого и зачем, сам я сказать не могу».
Будьте! Верьте! Надейтесь!
Елена Боннэр.»
2. Памяти Елены Боннэр
18 июня ушла из жизни Елена Георгиевна Боннэр. «Yih’e zikhra barukh! – Да будь благословенна её память!», – написал мне из Иерусалима старый товарищ. 21 июня состоялась церемония прощания в США и «параллельно» друзья почтили её память в Центре Сахарова в Москве. В основу своего выступления на этой встрече я положил написанную 3 года назад статью-поздравление «К 85-летию Елены Боннэр». Елена Георгиевна до последнего дня была чрезвычайно активна в общественном и даже политическом плане. Известны ее жесткие заявления по ситуации в современной России, выступления в защиту Израиля… По причине этой активности ее, в основном, и воспринимают именно в этом контексте. Моя же статья была о другом – о человеческом, а также, так сказать, культурном «лице» этого уникального человека. Что касается культуры, то Елена Боннэр и поэзия, стихи – две вещи нераздельные. В этом они с Андреем Дмитриевичем Сахаровым счастливо нашли друг друга (см., напр., «Пушкин, стихи, музыка в «Дневниках» Андрея Сахарова»).
Познакомился я с Еленой Георгиевной в 1972 году, после того как Сахаров поселился в знаменитой квартире № 68 в доме 48-Б на ул. Чкалова (ныне Земляной Вал). До этого я иногда, после нашего знакомства в 1968 году, посещал Андрея Дмитриевича на его «средмашевской» квартире на Соколе – по своим диссертационным, а бывало, и по другим делам. Наше знакомство тоже было не случайным, поскольку мой отец работал вместе с А.Д. в ядерном центре КБ-11, затем «Арзамас-16» (г. Саров), и их связывали давние дружеские отношения, а также единство позиций по многим вопросам. В вышедшей 2 месяца назад в издательстве Физико-математической литературы книге «Экстремальные состояния Льва Альтшулера» приводится такая выдержка из сравнительно недавно рассекреченного документа ноября 1950 года: «Такие заведующие лабораториями, как Альтшулер, Сахаров и другие, не внушающие политического доверия, выступающие против марксистско-ленинских основ советской науки, должны быть отстранены от руководства научными коллективами», – из Заключения важной московской комиссии, проверявшей работу КБ-11 и в том числе задававшей всем ведущим ученым дежурный, «для галочки», вопрос: «Вы согласны с политикой Коммунистической партии?». Все разумные люди ответили очевидным «да», однако два вышеуказанных «диссидента» не согласились с политикой партии в области биологии, стали защищать генетику. Как с юмором ответила мне Елена Георгиевна, которой я послал эти документы: «Если бы слушались этих идеологов, то никаких бомб никогда у СССР не было бы». В этой же книге «Экстремальные состояния Льва Альтшулера» – короткая заметка Елены Боннэр о моих родителях, очень я ей за это благодарен. И в этой заметке так наглядно о ситуации в 1973 году, когда А.Д. и Е.Г. случайно с моими родителями пересеклись.
Самое интересное в любых воспоминаниях – живые эпизоды, некие «фотоснимки» прошлого. Поделюсь некоторыми.
В марте 1969 года умирает от рака первая жена Сахарова и мать его троих детей Клавдия Алексеевна Вихирева. Я был на похоронах, помню, что Андрей Дмитриевич плакал. Смерть жены он перенес очень тяжело: «жил как во сне, ничего не делая ни в науке, ни в общественных делах». С Еленой Георгиевной он познакомился примерно через полтора года, поженились они 7 января 1972 года. И вот картинка, рассказанная моей жене Ларисе Миллер Валентиной Борисовной Монгайт (с ее мужем академиком А.Л. Монгайтом[194]194
Монгайт Александр Львович (1915–1974), советский археолог и историк Старой Рязани, академик АН СССР. – Сост.
[Закрыть] Сахаров дружил в течение многих лет): «Иду я по улице, это был 1971 или 1972 год, и вижу, как по противоположной стороне идут Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна. Но идут не просто, а взявшись за руки, и у обоих такие счастливые просветленные лица, как у 20-летних влюбленных юнцов. А ведь каждому из них тогда было в районе 50-ти».
Энергии Елены Георгиевны можно только поражаться. На вечере памяти в Сахаровском центре было много воспоминаний. Вот смешной эпизод периода ссылки Сахарова. Е.Г. постоянно совершала челночные поездки «Москва-Горький-Москва…». И в одну из таких поездок решила навестить по дороге жившую «за 100-м километром» – в Петушках Владимирской области – друга и правозащитника Мальву Ланда. Задача была нетривиальной, поскольку Е.Г. всегда в пути сопровождали сотрудники КГБ – молчаливые крупные мужики, дремавшие на соседних полках. Ехали они из Горького вдвоем, вместе с Лизой Алексеевой; поезд прибывает в Петушки примерно в 5 утра и стоит 1 минуту. Лиза потом рассказывала, что не поняла, почему Елена Георгиевна сказала ей не брать в дорогу никаких вещей, а спать в вагоне, не раздеваясь. И вот поезд подходит к Петушкам. Елена Георгиевна слезает с полки, толкает Лизу: «пошли». Та лишних вопросов не задает, а мужики поглядели – решили: «бабы в туалет отправились» (так рассказывала Е.Г.). А они тихонько сошли с поезда, и тот вместе со всеми сопровождающими уехал в Москву. Как было приятно «сбросить хвост», остаться одним. Утром они заявились к Мальве, это была радостная встреча. А после обеда другим поездом приехали в Москву. И, подходя к дому № 48-Б, увидели у своего подъезда толпу сотрудников КГБ – человек 50. Паника в ведомстве в связи с утерей «сопровождаемой» была великая. И, как рассказывала Е.Г., видно было по лицам, какое облегчение, счастье они испытали, увидев приближающихся к дому двух искомых женщин.
И в заключение – всерьез. Почему Елена Георгиевна Боннэр стала неразрешимой проблемой для тоталитарной системы? Наберите в поисковой системе интернета слова «зверюга в юбке», и вы сразу попадете на стенограмму исторического заседания Политбюро ЦК КПСС 29 августа 1985 года. На нем Горбачев поставил вопрос о том, что надо сделать так, чтобы Сахаров прекратил полугодовую голодовку: надо отпустить его жену на операцию. Андрей Дмитриевич бился за то, чтобы его жена не погибла, как любой мужчина должен был это делать. Они этот вопрос решали. Так вот, «зверюгой в юбке» члены Политбюро называли жену Сахарова. А Горбачев добавил: «Вот что такое сионизм». Но надо отдать ему должное: и разрешение Е.Г. на лечение в США он продавил через Политбюро, и потом вернул Сахарова и Боннэр в Москву. Вопрос: почему такое внимание к личности Елены Боннэр на высшем политическом уровне СССР? Тот же вопрос – про Андрея Дмитриевича Сахарова. У меня нет ответа. Думаю, что это вопрос для будущих историков.
И совершенно поразительно, что всё это актуально и сегодня. Месяц назад, в дни 90-летия Сахарова 21 мая 2011 года «Первый канал» ЦТ показал «юбилейный» фильм «Мой отец Андрей Сахаров», в котором слово в слово повторяется вся та грязь и клевета, которую «компетентные органы» распространяли о Сахарове и Боннэр четверть века назад. И, как это бывало и в прошлые годы, «инструментом» обличителей стал младший сын Андрея Дмитриевича, бывший для него пожизненным, и, как видно, и послежизненным, несчастьем. Но эту беду я обсуждать не буду. Известно ведь, что детей, как и родителей, «не выбирают».
Андрей Дмитриевич умер 21 год назад, Елена Георгиевна из-за болезни сердца более 5 лет не приезжала в Россию. Почему же их имена все так же невыносимы для «нечистой силы», унаследованной новой Россией от бывшего СССР? Странно всё это и тревожно.
Июнь 2011 г.
Софья Богатырева
Историк литературы, публикатор, мемуарист. Дочь писателя Александра Ивича (Игнатий Игнатьевич Ивич-Бернштейн, 1900–1978) и Анны Марковны Бамдас (1899–1984), вдова поэта-переводчика Константина Богатырева (1925–1976).
Гений дружбы
Если пытаться определить личность Елены Боннэр двумя словами, то я бы сказала о ней: гений дружбы.

Софья Богатырева
Елена Боннэр прожила замечательно насыщенную жизнь. В каждый данный исторический момент она находила свое место, для неё было характерно сознание собственной правоты, уверенность в правильности своих поступков.

Отец мемуаристки, писатель Александр Ивич, начало 50-х.
Как и другие замечательные женщины – я имею в виду Надежду Мандельштам и Нину Берберову, она оставила воспоминания, которые нам остается лишь дополнять – в моем случае, рассказом об одной стороне ее личности: таланте и умении быть верным другом. Елена Георгиевна, для меня «Люся», была в высокой степени одарена умением дружить: испытывать дружеские чувства и вызывать их у окружающих – талантом, редким, как всякий талант, и столь же драгоценным.
Подобная одаренность не всегда воспринимается обществом однозначно. В наши дни иные привычные нам оценки изменили смысл на противоположный, вот даже слово «эгоист» из отрицательного, чуть ли не ругательства, перешло в разряд одобрений. Помню буквально потрясший меня разговор, случайно услышанный в один из приездов в Москву на остановке троллейбуса, где некий молодой человек, чтобы не терять времени в ожидании, наставлял своего юного спутника, возможно, младшего брата: «Ты по натуре эгоист, это хорошо, но тебе недостает твердости, ты боишься навредить. Запомни, вся эта фигня: «дружба», «благородство», «жить для других» – трёп для дурачков, нет никаких «других», есть ты и твои интересы».
Для ровесников этих ребят стОит, пожалуй, напомнить, что значило понятие дружбы в советское время, время крушения естественных связей, родственных и социальных. В течение долгих лет связи родственные разрушались необходимостью держать их в тайне: не дай Бог на работе узнают, что бабка и прабабка у тебя дворянки; что дед владел фабрикой, а его сестра держала швейную мастерскую; что тетка была замужем за арестованным; что двоюродная сестра еще до 17-го года (того, прошлого века, а не нынешнего) вышла замуж за иностранца и уехала пусть не в Америку, а хоть в Польшу или, того страшнее, что у мамы в девичестве была еврейская фамилия. Скрывать – это еще не самое жуткое, в конце тридцатых людей заставляли отрекаться от близких! Отрекались от арестованных отцов, мужей, жен, какие уж тут «родственные отношения», само слово «родня» обесценилось. Отношения социальные, те, что не по выбору, тоже были извращены: добрососедские – уродством коммунальных квартир, уничтоживших приватность, выставлявших на всеобщее обозрение интимные стороны семейной жизни, отношения служебные – страхом доносов и разоблачений. Самый дух времени был отравлен недоверием, разобщенность, взаимная неприязнь правили бал.
Что нам оставалось? Великое счастье дружбы. Возможность обрести пусть не Alter Ego, но единомышленника. Найти того, кто говорит с тобой на одном языке, настроен на одну с тобой волну и понимает простые слова «хорошо» и «плохо» так же, как ты, – иными словами: испытать блаженное чувство доверия к другому представителю рода человеческого. В советское время, если люди находили свой круг друзей, это был бесценный подарок, которому радовались и который тщательно берегли. Помните у Мандельштама: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен»? Если для Пушкина естественно воскликнуть: «Друзья мои, прекрасен наш союз!», ибо лицейская дружба, сохранившаяся взрослыми людьми, для него – логичное и радостное продолжение детских игр и светлых переживаний общей ранней юности, то для Осипа Мандельштама дружба – это потрясение сродни удару, взрыву, это неожиданность, оглушающая подобно выстрелу. Нежданный дар.
Люся Боннэр была центром и душой многих дружб, складывавшихся и выживавших в недружественное время.
Дружба моей семьи с семьей Елены Георгиевны началась в шестидесятых знакомством Люси с моими родителями, старше нее почти на 20 лет, и продолжается на протяжении пяти поколений с её стороны и четырех – с нашей. Это не значит, что добрые чувства передавались по наследству, нет, все дружбы и малых и старых происходили одновременно. Мои родители были дружны и с люсиной мамой, Руфью Григорьевной, – замечательной личностью, необыкновенной красавицей даже в те преклонные ее годы, когда я её видела, и с самой Люсей. Дружили наши сыновья, люсин Алеша и мой Костя – Андрей Дмитриевич в «Воспоминаниях» говорит, что их отношения были похожи скорее на отношения братьев, старшего с младшим, у меня тоже сложилось такое же впечатление. Костя был двумя годами моложе Алеши и так увлекательно было наблюдать, как старший «воспитывал» младшего, а младший отстаивал свою независимость. В 12–14 лет иметь старшего друга – что может быть лучше!
Я не попадала ни в одну из возрастных групп, но меня дружеские чувства связывали равно со всеми поколениями этой замечательной семьи.

А.М. Бамдас, мать мемуаристки.
Глядя издалека, хочу отметить свойственную нашим отношениях взаимную честность и взыскательность. При самых теплых, даже нежных чувствах друг к другу у моего отца и Руфи Григорьевны были яростные споры и принципиальные разногласия. Они постоянно и горячо спорили – о чем? О личности Ленина! Руфь Григорьевна, которая провела 17 лет в лагере и ссылке, потеряла мужа в ходе репрессий, адекватно оценивала Сталина, но при этом считала, что Ленин вовсе не был таким же безнадежным чудовищем. Она полагала, что начало советской власти было многообещающим, и если бы всё пошло по ленинскому пути, страна достигла бы процветания. Мой отец, будучи ее ровесником, но прошедшим иной жизненный путь, приветствовавший в 1917-ом Февральскую революцию и скептически относившийся к октябрьскому перевороту, придерживался других взглядов: считал, что всё, начиная с октября семнадцатого, было единым трагическим процессом. В конце концов, отец и Руфь Григорьевна как-то пришли к консенсусу, нашли общий язык, и горячие споры, которые велись в начальную пору знакомства, со временем постепенно затухали, взгляды как-то сблизились. Моя мама иной раз позволяла себе высказывать Руфь Григорьевне неодобрение по поводу домашних дел, Люся осуждала мою покорность обстоятельствам и неумение постоять за себя, отец критически отнесся к вступлению Елены Георгиевны в партию (как известно, она не долго там продержалась) – при том никто ни на кого не обижался: пытались объяснить свою позицию, трезво оценить упреки, спокойно соглашались или так же спокойно оставались при своем мнении.
Как и принято было в годы «позднего реабилитанса», когда правда о убийствах, лагерях, инсценированных процессах открылась большей части населения страны (меньшая часть, люди нашего круга, никогда не верили официальной информации, но и они не знали многих чудовищных фактов), в кабинете моего отца, как на множестве московских и немосковских кухонь, рассуждали о политике. Стержнем бесед оставались преступления советской власти и подчас наивные мечты о крушении «империи зла», «тюрьмы народов», светлом будущем свободной России и, разумеется, постоянный обмен информацией: выпусками «Хроники текущих событий», сам– и тамиздатом.
Самый острый момент в нашем общении был связан с Эдуардом Кузнецовым. До «самолетного дела» Елена Георгиевна приводила его в наш дом, он всем понравился и ему, похоже, было у нас интересно. Когда выяснилось, что Эдик – как мы его называли – арестован и ему грозит смертная казнь, мы все, мои родители и я, помчались в Ленинград. Не в наших силах было ему помочь – то было желание быть ближе к человеку, находившемуся в опасности.
Позднее, когда Кузнецов был уже в лагере, Люся принесла нам полученные оттуда его записки. Мы читали их с огромным волнением, как весть с иной планеты, и я по сей день горжусь тем, что принимала участие в их передаче за границу. Как водится, трагическое и смешное любят являться вместе, и в истории связанной с «самолетным делом», не обошлось без анекдота. Некий весьма привлекательный молодой человек, которого я едва знала, неожиданно пригласил меня на ужин в элегантный ресторан (что тогда было не очень принято). Я была удивлена и, признАюсь, польщена его вниманием, принарядилась, настроилась на приятный вечер, а оказалась, что он выбрал такой способ сообщить мне, что его вызывали «в органы» и допрашивали: знает ли он что-нибудь о моем участии в передаче за рубеж «Дневников» Эдуарда Кузнецова, к тому времени они уже были там опубликованы. К счастью, он ничего не знал и от него отвязались. Вспоминаю этот эпизод как забавную иллюстрацию к нашей тогдашней жизни: молодой человек приглашает молодую женщину в ресторан лишь для того, чтобы предупредить: ею интересуется тайная полиция.
Гэбэшники не оставляли нас своим вниманием, мы и даже наши дети всегда находились под бдительным их присмотром, они нам не давали о себе забывать. Мой сын Костя увлекался фотографией и как-то – было ему тогда лет 13 – в выходной день отправился к Алеше показать свои новые работы. На подходе к сахаровскому дому на Чкаловской к нему привязались парни сильно старше и крупнее и выдрали из рук папку с отпечатками. Похоже, что Костю с его папкой приняли за курьера, доставляющего в дом Сахарова письма или иные важные бумаги диссидентского толка. Когда мне поручили передать Андрею Дмитриевичу от Юлия Даниэля коробку с записками заключенных, вывезенную тайком из зоны, – то был драгоценный груз и я, естественно, опасалась за его сохранность, помятуя тот случай, я сочла за лучшее попросить моего друга, Евгения Габовича, диссидента, человека смелого и физически очень крепкого, ни о чем не спрашивать, но подстраховать меня, что он молча и достойно выполнил, не без удовольствия побывав лишний раз в доме Сахаровых, где нас радушно приняли и угостили чаем с пирогом.
Дружба наших семей, разумеется, не сводилась к обмену литературой и размышлениями о судьбах новейшей истории: она была деятельной, эта дружба. В последние годы своей жизни мой отец часто болел, Елена Георгиевна, преподававшая в медицинском училище, выбрала из бывших своих студентов молодого человека, на которого могла положиться и которому могла доверять. По ее просьбе ее друг Женя Врубель, к тому времени дипломированный фельдшер, по первому зову приезжал к нам и был куда полезнее так называемой «Неотложки», городской медицинской службы быстрого действия. При тогдашнем состоянии медицины в СССР это было просто спасением для нашей семьи. После кончины моего отца Руфь Григорьевна оставалась верным другом моей маме, часто, не реже раза в неделю, навещала ее.
Познакомились мы на даче, в Мичуринце году, я думаю, в 1964-м, а позднее, подружившись, много лет снимали дачи по соседству в писательском поселке Переделкино – совсем рядом, на одном участке, так близко, что купленный в магазине «Детский мир» игрушечный, однако исправно работавший телефон (мобильных в те годы и в помине не было) удавалось протянуть от одного домика к другому, так что мальчишки, Алеша с Костей, когда разлучались ненадолго, могли им пользоваться, а если же случались помехи или птицы повреждали линию, Алеша в три прыжка преодолевал расстояние от своей двери к нашему окну и мигом перемахивал через подоконник. Жили практически одной семьей, мы с Еленой Георгиевной по очереди таскали туда провизию – в то время рядом с дачами не было возможности купить что-нибудь существенное. По выходным дням выносили столы наружу, расставляли их в одну линию между домами, собирали вместе и рассаживали своих гостей. Во время одного из таких застолий мои родители, мои гости, мой сын и я впервые увидели воочию Андрея Дмитриевича Сахарова. Все мы исподтишка его разглядывали, а владелец участка, обрусевший немец, когда подошел поздороваться и был представлен Андрею Дмитриевичу, осведомился: «Это правда, что ваша фамилия на самом деле Цукерман?», на что А.Д. с несколько извиняющейся улыбкой вежливо возразил: «Нет, неправда, Сахаров – это моя настоящая фамилия».

Софья Богатырева, 70-е годы.
О том, что Люся знакома с «Академиком», как в нашем кругу за глаза почтительно именовали Андрея Дмитриевича, и помогает ему в правозащитной деятельности, мы были осведомлены: хорошо помню вечер в 1970-ом, когда Елена Георгиевна не вошла, а словно на крыльях влетела к нам с сияющими глазами, только что вернувшись из Калуги, где в тот день проходил процесс Вайля-Пименова. Остановившись в дверях, она не сказала, она выдохнула восторженно: «Какой академик!». Задним числом можно сказать, что то была любовь с первого взгляда.
Я была моложе Люси, но смотрела на нее снизу вверх не только по этой причине, я восхищалась её красотой и, если можно так сказать, типом ее женственности. Её женственность была сильной, побеждающей, уверенной в себе, и мне это очень нравилось. Как-то в разговоре она упомянула, что имя Елена она сама себе выбрала вослед тургеневской Елене Инсаровой. И рассказала прелестную историю о том, что у неё долго не было имени, записанного в каком-нибудь документе: занятые переустройством мира родители не нашли времени выправить ребенку свидетельство о рождении. Девочку дома называли «Лусик», что означает по-армянски «лучик», луч света. Поскольку жили они в Москве, непривычное для русского уха «Лусик» окружающие постепенно перетолковали в «Люсю», сокращение от популярного в том поколении «Людмила». Когда Сева Багрицкий в школьные годы привел её в свой дом, Эдуард Багрицкий заметил неодобрительно, что имя «Людмила», значит – «любимая всеми», и что ему кажется ужасным: быть всеми любимой. Воспитанная девочка не стала спорить с чужим папой, однако в школе сумела настоять на своем: в классном журнале в нарушение правил «Людмилу» заменили Люсей. История о том, что она нашла для себя в тургеневской повести имя по вкусу, произвела на меня сильное впечатление, прежде всего, как пример смелости, осознания своего права на свободный выбор. Но тут проглядывает и глубинный смысл. Расхожее выражение «тургеневская девушка» предполагает нечто воздушно-поэтическое, воплощение нежности, мягкости, покорности и ранимости. Елена Инсарова – героиня иного типа: это женщина, для которой любовь к своему избраннику есть любовь к его делу. Этим именем Лусик Алиханова назвалась задолго до встречи с Андреем Сахаровым, но выбор оказался не только символичным, но и пророческим для последующей судьбы и деятельности правозащитника Елены Боннэр.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































