Читать книгу "Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х"
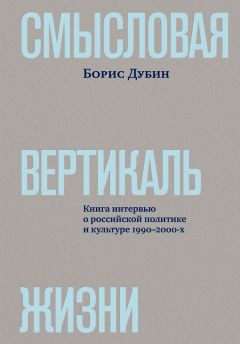
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Столь же несомненной была для участников августовских событий 1991 года связь этих событий и с победой в войне, и с «оттепелью». В коллективном сознании как будто бы могла, имела шанс сложиться символическая цепочка событий, выводящая из тоталитарного порядка.
Но уже в юбилеи победы в войне и подавления августовского путча в 2000–2001 и 2005–2006 годах связь между этими двумя событиями не отмечалась вовсе, была практически утеряна.
Избирательный склероз
И все это, фигурально выражаясь, из-за резкого подорожания колбасы?
Вы хотите сказать, из-за гайдаровских реформ? Нет, идеологический поворот в общественном сознании начался раньше – в 1990 году, который постепенно исчезает из нашей памяти.
Что в нем такого особенного?
Наша «Википедия» упоминает только восемь событий этого года, причем шесть из них – советские. В итальянской «Википедии» – 50, в англоязычной события распределены по месяцам, и в одном только январе их 16. Во французской европейские события разделены по странам, в СССР упомянуты 17.
А в коллективной памяти россиян практически не застряло общемировых событий – кроме объединения Германии и Войны в заливе. Не запомнили они ни ухода со своего поста Маргарет Тэтчер, которую сами же несколько лет подряд называли «женщиной года», ни Шенгенских соглашений, ни волнений в Косово, ни первых свободных выборов в Болгарии, Румынии, Польше, Сербии. Из событий в собственной стране советские люди не отметили ни принятия закона о частной собственности, ни программы «500 дней», ни провозглашения независимости Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии, ни Всесоюзной политической забастовки шахтеров; ни появления Соловецкого камня на площади Дзержинского в память о жертвах государственных репрессий советской власти, ни многого другого…
Событийный ряд этого года в сознании россиян беден. В нем – избрание Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР, объединение Германии, повышение пенсий, «табачный кризис», отмена шестой статьи Конституции о руководящей роли КПСС, принятие Декларации о суверенитете России, кризис в Персидском заливе (нападение Ирака на Кувейт), массовый выход из рядов КПСС, избрание Горбачева президентом СССР – остальные события не набрали и 10 % упоминаний. Обратите внимание: застрявшие в памяти россиян события или «низовые», касающиеся благ, которые «положены» каждому, но могут быть урезаны, – или «высокие», касающиеся власти, государства. Впрочем, и первые тоже, по сути, обращены к государству, которое может что-то «дать» или «отнять».
А ведь это – пространство согласованных представлений о том, что важно для сообщества. Эти представления передаются от поколений к поколениям механизмами репродукции, институтами общества, они входят в систему регуляции поведения, которая в данном случае отсылает к особо сконструированному прошлому как источнику значимости, авторитетности тех или иных оценок и способов действий в настоящем.
Такая всеобщая амнезия касается только 1990 года?
Нет. В 2006 году (35 лет со дня смерти Н. С. Хрущева) мы спрашивали у россиян, какие события, случившиеся за годы его пребывания у власти, им больше всего запомнились. Знаете, на каком месте оказалось «Разоблачение преступлений Сталина»? На шестом. Ну ладно, после полета Гагарина, – но и после кукурузы, целины, массового жилищного строительства, очередей за продуктами. Прекращение массовых репрессий, реабилитация жертв – седьмое место, всего на один пункт больше, чем обещание построить коммунизм за двадцать лет.
Мы из года в год спрашивали россиян о событиях пятилетней давности, которые они считают наиболее важными. Бросается в глаза растущее число тех, кто затрудняется с ответом. Конечно, часть наших собеседников за пять лет до опроса были детьми или подростками – но это значит, что опыт старших не был им передан в семье. Возможности семьи транслировать образцы и представления весьма ограничены, если в семейный обиход не включены более общие конструкции и значения культуры.
А что именно вытесняется из коллективной памяти в первую очередь?
Прежде всего то, что связано с людьми и институтами, которые инициировали перемены в конце 1980-х – начале 1990-х годов и оценки которых сегодня – задним числом – крайне негативны: Б. Ельцин, А. Чубайс, чуть меньше – М. Горбачев, парламент (Дума), конкурирующие между собой политические партии. Идет своего рода деполитизация памяти. Главное событие тех лет – распад СССР: символическое воплощение разрыва всех важнейших социальных связей. Катастрофа, осознанная ретроспективно, более того, сконструированная в этом качестве в середине и второй половине 1990-х.
Кем?
Не без участия массмедиа и политики новых, молодых и прагматичных менеджеров ТВ.
«Уже устали?»
Под таким заголовком в конце 1991 года вы со Львом Гудковым опубликовали статью, обращенную к интеллигенции. Вы считали, что она фактически отказалась от роли интеллектуальной элиты общества и вернулась к традиционной логике служилых людей, которые призывают власть навести порядок в стране, а ей предоставить всяческие преференции. Вы и теперь считаете, что дальнейшая трансформация общественного сознания связана с неготовностью интеллигенции к переменам?
Мы написали статью в 1990-м, а смогли опубликовать только в конце 1991-го, что само по себе симптоматично. В 1990 году я предлагал нескольким журналам перевод блестящего очерка Бруно Беттельхайма о психологии человека в концентрационном лагере[11]11
Имеется в виду статья американского психолога и психиатра австрийско-еврейского происхождения Бруно Беттельхайма (1909–1990) «Индивидуальное и массовое поведение в крайних ситуациях» (Individual and Mass Behavior in Extreme Situations, 1943). Перевод был опубликован в конце 1992 г. журналом «Дружба народов»: Беттельгейм Б. Индивидуальное и массовое поведение в крайних ситуациях [1943] // Дружба народов. 1992. № 11/12. С. 101–116.
[Закрыть]; знаете, как на это реагировали? «Опять про лагеря?! Ну сколько можно…» И власти, и приближенная к ним интеллигенция именно тогда впервые заговорили о том, что «народ» необходимо успокоить и развлечь, «не будоражить население». Прежде всего надо говорить о неготовности власти анализировать события и принимать решения в такой нестандартной ситуации. Накануне августовского путча все «знаки судьбы» были уже предъявлены, достаточно было всего лишь пристальнее всмотреться: волнения в Баку и в Оше, в Молдавии и на Украине, война в Карабахе, провозглашение независимости одной республики за другой, убийство отца Александра Меня – все это к тому моменту уже произошло. Постоянно повторяющаяся модель поведения советских реформаторов у власти: каждый шаг вперед полон страха слишком далеко зайти. Так было во времена «оттепели», когда любое хрущевское послабление тут же сопровождалось окриками и устрожением. Та же модель сработала и позже, когда Ельцин отшатнулся от реформаторов…
Но в эту модель вписывается и поведение советской интеллигенции. Степень ее готовности к объявленным властью свободам, а главное – к собственной ответственности перед свободой, оказалась чрезвычайно невелика. Смена героев общественной сцены за 1990-е годы (вспомните победу на выборах 1993 года Владимира Жириновского) выявила ограниченность, даже убогость человеческих, идейных, ценностных, этических ресурсов образованного слоя, да и российского населения в целом.
Значение советской эпохи как «нашего прошлого» для коллективного образа «мы» в середине 1990-х обеспечивали и поддерживали именно продвинутые группы населения: люди с высшим образованием, жители Москвы и Санкт-Петербурга, крупных городов, электорат «Яблока», НДР, «Женщин России», партии Святослава Федорова. Большинство из них уже считало, что с 1991 года россияне утратили «гордость за свою большую и сильную страну», «ведущую роль в мире, мировое лидерство». Одновременно они тосковали и по утраченным «идее монархии, духу аристократии», «офицерской чести», «православной вере» и «великой культуре». Соединение подобных еще несколько лет назад взаимоисключающих представлений стало основой символики позднеельцинской, а потом и путинской власти.
Все-таки даже и в 1996 году Ельцина – пусть вынужденно, пусть с оговорками – поддержали, мне кажется, все те же «продвинутые» группы населения, которые в 1991 году защищали Белый дом.
Вы правы, и в 1991-м, и в 1996-м за него голосовали в основном более образованные россияне, жители крупнейших городов, люди 30–49 лет. Но в 1996-м лидерский ресурс этой группы, ее влиятельность пришлось напрячь до предела. Группа потеряла свою роль и авторитет источника образцов, и не только в политике, где у нее и до сих пор нет своих кандидатов, но и во всех других сферах, включая образование, культуру, медиа, стандарты образа жизни. Нынешняя безальтернативная роль двух главных огосударствленных и подцензурных каналов телевидения означает уход и вытеснение с публичного поля и из сферы политики этих групп, включая интеллектуалов.
И с чем мы остались в результате?
С нарастающими в массе изоляционизмом и ксенофобией («У России свой путь», «У России всегда были враги, нам и сегодня никто не желает добра»).
С отказом от изменений, примирением с собой такими, какие есть, и с советским прошлым как «своим собственным» («За годы советской власти наши люди стали другими, и это уже не изменить»).
С тем, что большинство приняло роль дистанцированных зрителей, самоустранилось от ответственности за происходящее и будущее. Роль как бы отсутствующих, нечто вроде алиби – едва ли не преобладающая форма социальности в нынешней России. «Не знал, не участвовал, не успел разобраться» – так сегодня отвечает большинство на вопросы о событиях 1989–1991 годов. Но точно так же отвечали сограждане и на «внезапно открывшуюся» при Хрущеве информацию о массовых сталинских репрессиях. И так же они отвечают на вопросы о процессе над Ходорковским и Лебедевым: доля воздержавшихся от суждений на эту тему доходит до 60 %, хотя в 2003-м процесс вошел в первую десятку важных событий года (теперь не входит). Ничего не слышали о процессе раньше 3–4 % россиян, теперь – 18 %. При этом никаких сомнений в том, «кому выгодно», ни у кого нет: 63 % опрошенных отвечают – предпринимателям, близким к власти, продажным судьям. Это не маргинальное, а одно из центральных событий, и именно как главное оно замалчивается и вытесняется.
Область «высокого» задается и принимается массой как предельное по масштабам национально-державное «мы», противопоставленное столь же предельному «они» (чужаки – этнические, расовые, политические, цивилизационные и т. д.). Другие формы больших общностей воспринимаются как «низкие» и служат или для выражения сиюминутной реакции на нечто, или для адаптации. Принадлежность к такой общности предполагает некую социальную стигму: бедные, пенсионеры, бюджетники, инвалиды, обманутые вкладчики, жертвы дедовщины в армии и т. д.
Но разве именно с таких объединений не начинаются горизонтальные связи в обществе, взаимопомощь, первые признаки гражданского общества?
Нет, не начинаются. Эти общности существуют вне политики, здесь не происходит соединения идей, коллективных интересов и символов – то, что могло бы придать им социальную форму и устойчивость.
Фактически централизованная власть приняла форму привычной для большинства россиян иерархической пирамиды с единоличным (в крайнем случае двуликим) начальником во главе. За двадцать послеперестроечных лет ни руководители бизнеса, ни политические партии, ни выборные власти, ни менеджеры медиа, ни академические сообщества, ни так называемые деятели культуры не стали сколько-нибудь независимыми и авторитетными силами, которые могли бы ограничивать нынешнюю правящую группировку в ее поползновениях целиком сосредоточить в своих руках основные ресурсы и полностью контролировать любые проявления чьей бы то ни было коллективной воли.
Установка власти в этом совпадает с установкой населения, которое с большим недоверием относится ко всякой общественной (и особенно общественно-политической) деятельности и убеждено, что главная задача таких организаций – сотрудничать с властью, помогать ей (только 20 % россиян сегодня считают, что общественные организации должны защищать права и интересы граждан). Сами они в трудной жизненной ситуации рассчитывают в основном на помощь родных и друзей (около 60 %); на помощь родного предприятия – 5–2 %, на поддержку государства – 3–4 %, на помощь общественных организаций – меньше 1 %. В деятельности таких организаций принимает участие не более 3 % взрослого населения страны. Для сравнения: в середине 1990-х годов 82 % американцев, 68 % граждан ФРГ, 53 % британцев и 39 % французов, по их заявлениям, состояли членами какой-то общественной организации. Работали в них бесплатно 60 % в США, 31 % – в Германии, 26 % – в Великобритании, 35 % – во Франции.
Значит, все мы вместе только как граждане великой державы – не то бывшей, не то будущей?
До 40 % взрослого населения России хотели бы сейчас видеть свою страну великой державой, которую уважают и побаиваются другие, 55 % считают, что она действительно является сегодня великой державой (40 с лишним процентов с ними не согласны). Вместе с тем до двух третей россиян полагают сейчас, что их страна не занимает в мире того места, которое заслуживает, а значительная доля чувствует, что их стране угрожают извне другие, переживают уязвимость нынешнего положения России.
Иными словами, великодержавные представления компенсируют сегодня явную неуверенность большинства россиян в настоящем и будущем собственной семьи и своей страны. Этническая неприязнь и агрессия в нынешней России – не национализм, а ксенофобия и изоляционизм, растущие вместе с осознанием отсутствия у страны перспектив и потерей коллективных надежд немедленно, чудом войти в «большой мир». Тем временем служилые элиты, напротив, педалируют риторику национальных интересов и заклинают симулятивную державность. Это один из многих примеров расхождения власти, обслуживающих ее кадров, с одной стороны, и пассивно-адаптивных масс – с другой. Идеология великой державы противостоит импульсам и тенденциям реальной модернизации России, трансформациям основных институтов общества, появлению новых автономных, влиятельных и авторитетных групп в публичном пространстве.
«Мы по-прежнему живем в тени тоталитарного режима»
Впервые: Фонд Егора Гайдара. 2012. 15 мая. Беседовал Кирилл Гликман.
Фонд Гайдара запускает цикл материалов по горячим следам проекта «Гибель империи». Директор «Левада-центра» Борис Дубин ответил на вопрос, заданный в теме лекции Татьяны Толстой, и объяснил, почему советское не только не ушло в небытие вслед за СССР, но и набирает силу в российском обществе начала XXI века.
Что такое советский человек с точки зрения социолога? В чем его отличие от человека западного было тогда, когда империя еще существовала, и какие трансформации с ним случились с тех пор?
Прямое сравнение с тем, что было во время СССР, практически невозможно, потому что опросов, подобных нашему, тогда не проводилось. Советские исследования (прежде всего работы Бориса Андреевича Грушина) были все-таки очень сильно зацензурированы. Поэтому когда Юрий Александрович Левада во Всероссийском центре изучения общественного мнения (тогда еще – ВЦИОМе) в самом конце 1980-х придумал проект «Советский человек», стояла задача реконструировать прошлое по нынешним данным, по открывшемуся на разломе, как бы по следам и обломкам прежнего.
Тут есть один принципиальный момент: и тогда, и сейчас мы не имели в виду какого-то конкретного человека или даже обобщенный образ, который изучает антрополог, работающий в докультурных условиях. Мы (прежде всего – Левада) создали под наш проект исследовательскую конструкцию, и она подразумевает, что мы сосредоточены на тех чертах, которые объединяют нынешнего человека, живущего уже в России, с тем, каким он был в СССР. Весь этот конструкт заточен на выявление повторяющихся устойчивых черт, на фоне которых мы оцениваем отклонение в какую-то сторону. Левада в целой серии статей, которые составили раздел в его книжке «От мнений к пониманию» и в последней книге «Ищем человека», рассмотрел отдельные грани этого человека: человек ограниченный, человек недовольный, человек приспосабливающийся, человек лукавый, человек особенный, человек в новых условиях и т. д.
Прежде всего, принципиальным для этой модели человека является его отношение к власти как к власти патерналистской, обязанной во всех отношениях заботиться о населении: и в смысле занятий, места в системе разделения труда, и в плане уровня дохода, пенсий, дополнительных выплат, обеспечения его безопасности и т. д. При этом бо́льшая часть российского населения полагает, что власть свои обязанности исполняет плохо, и постоянно выражает претензии и неудовлетворенность.
Второй момент – в этих представлениях власть строится по иерархической модели и возглавляется одним человеком. Этот человек не является реальным политиком, его программа неважна, и никто не оценивает его действия в категориях полезности или эффективности. Предполагается, что у этого человека сосредоточена самая большая власть и никакой ответственности он за нее не несет. Соответственно, поскольку у него есть вся власть, он может навести шорох на любых людей, находящихся ниже его, поэтому время от времени он совершает (и это обычно одобряется населением) выволочки или какие-то жесткие меры по отношению к чиновникам. С другой стороны, он вездесущ и своими непосредственными действиями восстанавливает нарушенный порядок. Такое представление о первом лице подразумевает, что еще есть сидящая ниже этого первого лица бюрократия, которая отвечает за все минусы.
Царь хороший, бояре – плохие…
Да. Растут цены, не увеличиваются зарплаты и пенсии, есть угроза безработицы, нет порядка и защищенности, грязно на улицах, напряженные отношения между людьми разной этнической принадлежности – во всем этом виноваты, условно говоря, бояре, а это не царское дело. Как ни парадоксально, чем дальше, тем больше эта патерналистская составляющая была выражена в массовом сознании.
Представление о том, что должна быть сильная рука, которая наведет порядок, становилось год за годом все сильнее. Если в самом начале наших исследований, в 1989–1990 годах, мы фиксировали, что бо́льшая часть населения была против того, чтобы сосредоточивать власть в руках одного человека, то сейчас большинство это поддерживает. Напротив, представление о том, что инициатива человека многое решает, убывало со временем, притом что большинство людей на вопрос: «На кого вы можете рассчитывать в сложных обстоятельствах?» – отвечают: «На самих себя», второй ответ: «На близких родственников».
В сегодняшней России жестко выражено недоверие по отношению к другим людям: непонимание, зачем нужно кооперироваться и интегрироваться с другими людьми. И тогда, и сегодня крайне низок процент людей, которые реально вовлечены в деятельность каких-то общественных организаций, добровольных объединений, политических партий. Взрослый российский человек не мыслит себя соединенным с другими людьми в какие-то устойчивые формы ассоциаций, союзов, движений, партий. Даже если в каких-то конкретных случаях возникает необходимость с кем-нибудь объединиться, это, как правило, ad hoc – объединения, которые кончаются вместе с поводом, который их вызвал.
Третий важный момент: советский человек и раннепостсоветский человек вырос в условиях закрытого общества. Он настороженно относится к окружающему миру и видит в нем враждебную силу, которая если и не находится в состоянии открытой войны с Россией, все равно спит и видит, как нанести ей ущерб. В самом начале опросов мы фиксировали сильное ослабление непременного присутствия образа врага в сознании человека, но к концу 1990-х и на протяжении 2000-х у России снова «появились» враги. Эту точку зрения разделяет по меньшей мере две трети населения, а временами и до 80 % (например, когда ситуация обострялась в дни трехдневной кавказской войны в 2008 году). Основным противником в военной, экономической, политической сферах, пусть и в латентной форме, продолжают оставаться США. Все это происходит на фоне того, что свыше половины россиян не считают себя европейцами, а еще большая доля (до двух третей) считают, что западная культура разрушительным образом действует на сознание и ценности россиян.
По правилу двойственности всего, что относится к советскому и постсоветскому, большинство россиян не против жить на уровне развитых стран, не против того, чтобы пользоваться западными благами и продуктами (работать – как у нас, получать – как у них). Отсюда принципиальный момент, который не раз исследовал Левада: мы как будто бы фиксируем черты, которые противоречат друг другу и должны взаимоуничтожаться, но этого не происходит. Для россиянина некоторым образом естественно иметь в виду одно, а с другой стороны, иметь в виду нечто совершенно противоположное.
Мне кажется, что это как раз коренной советский принцип.
Конечно. Я думаю, эта двойственность на самых разных уровнях сознания связана со всегдашним для советского и постсоветского человека противопоставлением общественного личному – того, что надо говорить, и того, что ты делаешь на самом деле. Зато советский человек как бы не отвечает за то, что у него происходит в городе, в стране. В лучшем случае он отвечает за то, что происходит у него на работе, и главным образом, – у него дома. Поэтому для постсоветского человека модель нормальных отношений – отношения с ближайшими родными (не реальными, а идеализированными, конечно), но не другие, более формальные типы отношений: профессиональные, политические, связи солидарности поверх родовой, этнической, территориальной принадлежности. Психологи скажут, что это последствия или синдром «травмы».
Когда мы начинали наши опросы в 1989 году, это было на волне тысячелетия принятия христианства на Руси, которое впервые праздновалось на официальном уровне в стране. Тогда соотношение верующих и неверующих было примерно такое: около 20–25 % называли себя православными; очень маленький процент, в соответствии с долей мусульманского населения в населении России, называли себя мусульманами и примерно 60–65 % населения называли себя неверующими. Уже к концу 1990-х годов пирамидка перевернулась, и сегодня мы имеем примерно 72–75 % взрослых людей, которые называют себя православными, 4–5 % относящих себя к мусульманам и 12–14 %, которые решаются назвать себя неверующими. Казалось бы, произошла сильнейшая перемена. Но когда мы это разбираем, мы видим, что бо́льшая часть этих 75 % почти не бывает в церкви, систематически не молится, не отправляет основные обряды, не читает священные книги, и в этом смысле отнесение себя к православным выполняет функцию коллективного «мы», которое они иным образом не знают, как назвать. Слово «россияне» пытался внедрить Б. Н. Ельцин, а отношение к Ельцину резко отрицательное, поэтому люди иногда говорят «россияне», но произносят такие интонационные кавычки – как будто они цитируют Ельцина.
Важный параметр модели советского и постсоветского человека – это его негативное отношение к основным институтам общества. Негативное отношение не распространяется на институт президента, армию и РПЦ. К ним близко ФСБ, в принадлежности Путина к которому большинство населения не видит ничего настораживающего. Чем институты новее, чем они более формальные, непохожие на коллективную семью, тем в меньшей степени им доверяют. В самом низу находятся суды, правоохранительные органы, партии, профсоюзы, которые в нормальной развитой стране являются опорой коллективного поведения, дают возможность влиять на ситуацию в стране. Раз нет доверия к этим институтам, то нет и каналов, через которые человек мог бы выразить свое отношение к происходящему, и он выносит это просто в недовольство, бурчание, которым сопровождает повседневную жизнь.
Мне кажется, то, о чем вы говорите, имеет отношение к ностальгии. Можно ли сказать, что фактически 1990-е породили эту ностальгию? И почему они не смогли, наоборот, перевернуть сознание?
Отчасти так, но, мне кажется, тут более громоздкая картина. Да, мы имеем дело с некоторыми ностальгическими чувствами. Но, во-первых, почти что арифметическое большинство уже не знало в своей сознательной жизни советского образа существования – по чему же им ностальгировать? Во-вторых, мы знаем, что в конце 1980-х – начале 1990-х большинство населения относилось ко всему советскому скорее отрицательно, и чем образованнее и урбанизированнее были эти слои, тем в большей степени критично они относились к советскому. Иначе говоря, мы знаем, что многим, если не большинству нынешнего населения, не по чему ностальгировать, с другой стороны, мы знаем, что в недавнее время большинство населения держалось другой точки зрения.
Я думаю, что тут, конечно, важен опыт реформ, которые шли безо всякой разработанной программы, вне оценки потерь и последствий (к тому же и в разъяснения своих действий людям реформаторы особенно не вдавались). Это, кстати, вообще одна из особенностей российской истории: Левада, на которого я все время ссылаюсь, говорил, что история России в XX веке строится на коротких перебежках – пробегаешь, пока тебя не подстрелили, до куста, ложишься и ждешь возможности перебежать под следующий. Всё небольшой кучкой людей (спасаться, как считают в России, лучше поодиночке), быстрее-быстрее, потом происходит сильнейший слом – Левада в самом начале 1990-х назвал это французским словом avalanche (обвал, лавина).
Невозможность осуществления долгих, систематических изменений связана с тем, что нет никаких сил, способных на протяжении долгого времени удерживать контроль над ситуацией, убеждать или другими ненасильственными средствами доносить до населения смысл перемен, убедить его понять и по возможности поддержать происходящее. Поэтому в роли реформаторов выступает как бы кучка «заговорщиков», которая пытается, пользуясь моментом, сделать всё. Все предыдущее сразу разваливается, и до того, как осела пыль и все пришло в старое инертное состояние, удается кое-что сделать. Но уже не удается передать это следующим поколениям и вывести это за пределы этой кучки инициаторов, иначе говоря – создать институциональную основу для изменений.
В этом смысле (это я уже излагаю то, как пытался и пытаюсь думать сам) можно говорить о том, что в политической, экономической, социальной истории России XX века, даже в быту людей у нас экстраординарные моменты чередуются с моментами рутинными, инерционными. И в этих двух режимах российская история и существует. Никак не удается выйти на некое плато институциональных изменений, имеющих историю и перспективу в будущем и механизмы реализации программы, которые бы выходили за рамки одной группы людей, инициировавших реформаторский сдвиг. Институты – по определению – никогда не могут быть апроприированы какой-то одной группой людей и ограничиваться действиями какого-то одного поколения. А значит – люди вынуждены ориентироваться на некие общие правила, общий язык, систему права, которые бы индивидуальный эгоизм и групповые пристрастия вводили в общий порядок и не давали бы им разрушать социальное целое.
Так что мы имеем дело с реакцией масс на непродуманные, плохо проведенные, быстро оборвавшиеся реформы, одновременно ударившие по многим группам населения. Кстати сказать, и не по самым бедным. Бедные готовы приспосабливаться, и у них особых надежд на то, что можно что-то изменить, нет. Важно, что реформы ударили по слою интеллигенции, которая была во многом лишена источников средств к существованию, а она единственная имела возможность и навык рефлексировать происходящее, транслировать предметы своей рефлексии.
Характерно, что уже с середины 1990-х в СМИ тоже начал восстанавливаться порядок, отчасти похожий на прежний, – сначала они стали принадлежать большим частным собственникам, потом государство стало возвращать эту собственность себе, и встал вопрос о контенте. Поначалу эфир заполнялся диким количеством купленных по дешевке зарубежных сериалов, потом пошла отечественная продукция, ориентированная на ностальгическое представление о советском. При этом с экранов все менее осторожно стали негативно высказываться по отношению к реформаторам, идее реформ, возможности России быть реформированной.
А после 2000–2001 годов основные каналы телевидения стали государственными и либо официальными, либо официозными и начали поддерживать и развивать картину 1990-х годов как страшных, «лихих», а по контрасту с ними показывали позднесоветскую картинку, картинку брежневского времени как золотого века. Это сформировало у большинства российского населения представление об истории, о прошлом: прошлое начинается с революции, кульминацией его является Победа в Великой Отечественной войне и полет Гагарина, предвестием конца является Чернобыль, а распад Союза является концом истории.
Если не у Горбачева, то у Ельцина и его команды была твердая установка на разрыв с советским. Это был, скорее всего, компонент (но лишь один компонент!) правозащитной, диссидентской картины мира: советское – это тупик, с ним надо порвать и выйти на общую дорогу для всего человечества. В будущем смутно представлялся какой-то особый капитализм: то ли с человеческим лицом, то ли это был шведский вариант, то ли объединение Китая со Швецией – что-то такое мыслилось тогда. Но установкой 2000-х стало уже примирение с советским, по крайней мере, на символическом уровне.
Сегодня все силы, которые работали на разрыв с советским и преодоление советского, как бы они ни назывались: Горбачев, Ельцин, реформаторы, либералы, Гайдар, Чубайс, – большинством населения оцениваются отрицательно. Хотя бывают и моменты послабления, скажем, со смертью Ельцина был момент смягчения оценок и его, и реформ, и того, что произошло в 1990-е годы. По отношению к реформам Гайдара тоже постепенно растет доля тех, кто считает, что реформы а) были необходимы и полезны и б) были болезненны, но без них было нельзя. Впрочем, тут не всегда можно отделить сознательную смену оценок от характерного российского феномена привыкания ко всему. Среди прочего привыкают и к тому, что элементов нынешнего относительного благополучия не могло бы быть вообще, если бы не был запущен механизм рынка и тот механизм реформ, как его понимали реформаторы в 1991–1992 годах.
Давайте предварительно резюмируем: нельзя сказать, что не произошло никаких перемен. Они были – в политике, экономике, культуре, общественном сознании, религии, церкви. Но в конечном счете получилось, что эти изменения либо были отодвинуты, забыты, переоценены, либо повлияли скорее на архаизацию общественного сознания, его стереотипизацию и примирение с советским, как бы на возвращение к предыдущей модели сознания. Конечно, это не возврат, никакой возврат в историческом времени невозможен. Но большинству населения удобно так думать о себе, о власти, о Западе, о странах, которые вчера были советскими, а теперь стали независимыми и вызывают сильную враждебность.









































