Текст книги "Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х"
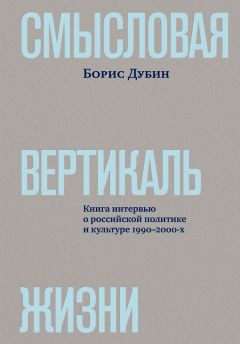
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
«Учеба – одно, жизнь – другое»
Впервые: Знание – сила. 2013. № 9. С. 28–39. Беседовала Ольга Балла.
Так есть ли сегодня в России «средний класс»? Чтобы это понять, надо ответить и на вопрос: если такая общественная группа существует, каковы ее образовательные стратегии? Это тем более важно, что образование не сводится к передаче знаний: оно всегда – укоренение моделей поведения, ценностей и в конечном счете – культивирование некоторого типа человека. Чему же сегодня намерены учиться сами и учить своих детей те, кого иногда – отдельный вопрос, справедливо ли – отождествляют с «образованной публикой»? Какими эти люди хотят быть? С такими вопросами наш корреспондент обратился к переводчику и социологу Борису Дубину, работавшему в Аналитическом центре Юрия Левады (до 2004 г. – ВЦИОМ), преподававшему социологию культуры в Институте европейских культур РГГУ и Московской высшей школе социальных и экономических наук.
Прежде всего, Борис Владимирович, давайте уточним: что вы вкладываете в понятие «среднего класса» и есть ли в нашем отечестве явление, которое было бы корректно обозначить именно так?
Мы с коллегами Львом Гудковым и Натальей Зоркой несколько лет назад написали по этому поводу целую статью – «Средний класс as if». В этом была известная ирония.
Мы думаем: представление о «среднем классе» – есть, заказ на понятие – тоже. Он исходит из разных сегментов социума – в основном от власти и ориентированных на нее СМИ. Видимо, с точки зрения власти, наличие такого класса – это же ведущая черта демократических, динамично развивающихся обществ – должно свидетельствовать о ее успехах и о стабильности. И если нет других доказательств того, что наше общество – развивающееся, динамичное и демократическое, – вот вам признак, который вроде бы никто не оспорит.
А явления – нет. Начнем с тривиальных признаков: это класс с хорошим денежным достатком и с соответствующим образом жизни, с толерантностью к другим, интересом к «большому миру», к тому, чтобы туда ездить, учиться и работать там, детей туда посылать учиться и работать и вообще вписываться в глобальное пространство. Мы опрашивали молодых людей от 24 до 39 лет в полутора-двух десятках крупнейших городов России, начиная с Москвы и Петербурга. Брали по уровню дохода на душу: полторы тысячи евро в Москве, не ниже тысячи в Петербурге и 800 евро в других крупнейших городах страны. Опросили тысячу с небольшим человек. И что же?
По нашей экспертной оценке, людей с таким доходом тогда (2008–2009) в структуре взрослого населения было 2–3 %. Уже по этому признаку они не «средний класс». Все-таки средний класс – это относительное большинство общества, почему и задает этому обществу, с одной стороны, мобильность и динамичность, с другой – стабильность, ибо составляет большинство тех, кто а) работает, получая за это хорошие деньги, и б) активнее всех потребляет. То есть он – главный сегмент, действующий на рынке – любых товаров, благ, услуг; он создает основную часть капитала страны, составляет основную часть голосующих. Он – квалифицированный работник, взыскательный потребитель и сознательный избиратель. Это определяет его социальную значимость.
Таких людей у нас крайне мало. Может быть, сейчас их доля увеличилась процентов до четырех – но вряд ли больше. Чуть смягчив признаки, наберем процентов восемь-девять. Все равно не получится большинства, способного влиять на экономическую, потребительскую, политическую ситуацию. Хуже того: эти люди не осознают себя как отдельную группу со своими интересами, возможностями и инструментами влияния. В этом они не слишком отличаются от основного взрослого населения страны, которое на две третьих – три четвертых представляет собой людей, признающихся в том, что они влиять на свою жизнь не могут.
Исходя из этого, мы фиксировали в нашей работе явную слабость того, что при динамичном, активном развитии, солидарных связях, мотивации на высокие достижения и так далее – могло бы в свое время стать зачатками среднего класса в стране.
Второе, что важно для самооценки этих людей, – они совсем не уверены в том, что их положение хоть сколько-то надежно; что оно продлится в следующем поколении. Поэтому они ориентированы на то, чтобы учить детей за границей, посылать их туда работать, а то и оставлять их там навсегда.
Нынешнюю ситуацию они осознают – по крайней мере, осознавали на момент исследования – как ненадежную, и их взгляды и высказывания о том, что хорошо бы уехать, тем более вывезти детей, – во многом определялись чувством незащищенности, неготовности отстаивать свои права в здешнем суде, неуверенности – как и у большинства населения – что это удастся.
Притом большинство из них тогда все же не было намерено уезжать. Доля думавших об этом выше, чем в других группах социума, но не приближается и к половине, тем более – к большинству этой группы. Процентов 20, в более мягких формулировках – 30, из нее с той или иной степенью настойчивости думают об отъезде. Но среди них тех, кто всерьез что-то для этого делает, – несколько процентов. В пересчете на группу в целом – величина весьма незначительная. Она, правда, может расти, если будут нарастать неопределенность ситуации и чувство угрозы. С другой стороны, при этом возможны и другие выходы. Скажем, начиная с декабря 2011 года эти люди не проявляли растущего желания уехать. Такие голоса раздавались, но в основном в СМИ, ориентированных на этот, условно говоря, потенциальный средний класс. Напротив, установка была на то, чтобы оставаться, работать здесь и добиваться изменения ситуации.
Насчет детей доля куда больше. Особенно если речь не о том, чтобы их оставить за границей навсегда, но чтобы их там учить, чтобы они там прошли по крайней мере начальные стадии профессиональной социализации и в этом смысле вписались в большой глобальный рынок, разделение труда, в мировые требования к профессии. Однако, напомню, это – 2–4 % взрослого населения. Из них 60 % хотят (по крайней мере, так они говорят), чтобы их дети за границей поучились, 40 % – чтобы их дети там поработали, – но это же меньшинство меньшинства. Вряд ли намного большее, чем доля населения.
И если взять среди них тех, кто более-менее твердо намерен либо уехать, либо вывезти детей и что-то для этого делает, – это опять же будут доли процента.
Среди людей этого уровня дохода, этой степени относительной успешности (обязательно одна машина на семью, у многих две, загородный дом и т. д.) доля тех, у кого очень высокий уровень образования: два высших или высшее плюс аспирантура или что-то к ней приравненное, – всего 9 %. Это повыше, чем в населении в целом. Но если взять учащуюся (или студенческого возраста) молодежь, – среди них всего 8–9 % озабочены качеством своего образования и думают о повышении этого качества.
Идея качественного образования в большинство населения не вошла. Даже в сознание тех, кто имеет высокое образование, сумел его конвертировать в доход, в относительное положение, в образ жизни и т. д. Идея качественного образования, понимание его ценности, готовность за него платить, а ради этого – рационально относиться к своим доходам, копить деньги на образование детей и так далее – обнаруживается у сущей доли процента. Даже среди тех нескольких процентов, которые мы изучали как возможный средний класс.
Значит, отождествление «среднего класса» с «образованным» – неправомерно?
Ну… Если взять людей социально активных, – а они в основном все-таки в этом слое или близко к нему, – тех, кто выходил в 2011–2012-х на улицы, – среди них доля имеющих высшее образование (даже два) будет куда выше, чем в стране в целом, даже чем в крупных городах страны, даже чем в столице. Если в Москве высшее образование имеет до половины взрослого населения, то среди выходивших на улицы таких 70–75 %. Если добавить к ним тех, у кого два высших, получится: высокое образование имеют четверо из пяти митинговавших.
Связь между уровнем образования, относительным успехом – доходом, социальным положением, образом жизни – и социальной активностью и заинтересованностью в политике есть. Но не прямая. Если иметь в виду людей с высоким уровнем образования, живущих в крупнейших городах и в одной из столиц страны, добившихся известного успеха, – среди них, скорее всего, будет высока доля занимающих руководящее положение либо в государственных, либо в частных структурах. Да, они больше других интересуются политикой, ибо понимают связь своего положения, успеха, перспектив не только с тем, кто «крышует» их фирму или предприятие, но и с общей политической ситуацией в стране и в мире.
Это вопрос реального положения в структуре власти – неважно, руководящего или нет – плюс уровень образования, которое вообще расширяет кругозор и ориентирует человека на большее количество источников информации. Все это в сумме влияет на заинтересованность в политике – но вовсе не обязательно протестную. Это может быть и та часть среднего и более высокого руководства, что ориентирована на статус-кво и не хочет ничего менять.
Как видно из другого нашего исследования, большинство людей с относительно высоким положением считает, что а) модернизация – это правильно, б) что она идет, но в) плохо и г) самое важное – чтобы только перемены происходили не при нас: чтобы, пока мы занимаем нынешнее положение, ничего не менялось.
Теперь об образовании. Да, в сравнении с населением и даже просто с образованной частью населения среди этих успешных людей, сумевших конвертировать образование в положение и образ жизни, довольно высока доля тех, кто ориентирован на получение образования за рубежом и на то, чтобы дать его детям.
Какие же предпочитаются страны?
Прежде всего Германия. Меньше, но тоже заметно – США (особенно среди москвичей), еще меньше – Англия. Остальные отстают. Есть разные варианты, включая экзотические, вроде Австралии. Но их немного.
Германия и для большинства российского населения в целом, и для образованного, в том числе успешного, – заповедная райская земля. Объяснения этому есть: страна большая, открытая (хотя в последнее время она поставила определенные фильтры для желающих туда приехать); может быть, наиболее дружественно относящаяся к России (неважно, насколько реально, – в сознании это есть); не входящая в число стратегических соперников – в отличие от США (традиционный советский антиамериканизм, довольно сильный, в этом слое смягчен, но все-таки есть).
Растут шансы Канады, той же Австралии. Видимо, в этот слой понемногу проникает представление о странах относительно открытых, широко принимающих новые кадры – особенно если эти кадры ориентированы не на «нижние» занятия уличных рабочих, мусорщиков и так далее, а на получение тонких, сложных, современных специальностей, позволяющих хорошо вписаться в сегодняшний и завтрашний рынок труда. Думаю, что здесь и информация слабее, – она идет в основном по межличностным каналам. Кое-что стал в этом смысле давать интернет (особенно в Москве) – эти люди по нему оживленно лазают, в том числе в поисках работы и сведений о том, где лучше учат, за какие деньги, каким специальностям…
А здесь… Есть представление – во многом еще с позднесоветских времен – о престижных вузах, бывших тогда флагманами в системе образования и дававших сравнительно неплохое образование. Диплом об этом образовании, особенно в некоторых специальностях, был надежной основой для того, чтобы найти хорошую работу. Чаще всего это были вузы технические (доля таких специалистов и сегодня высока среди руководителей разного уровня) и экономико-финансовые. В 1990-е, отчасти в 2000-е годы все это рухнуло или сильно пошатнулось.
В принципе, ведущая ориентация у всех групп населения, включая этот условно протосредний протокласс, такова: хорошее образование – это то, которое дает хорошие деньги; а хорошие деньги позволяют получить хорошее образование. По крайней мере, две трети опрошенных считают, что деньги решают всё. Они – единственный универсальный эквивалент, отмычка к любым дверям: они обеспечивают образование, образование должно обеспечивать хорошую работу; хорошая работа – это та, где получают много денег, и так далее – замкнутый круг.
Если у человека два образования или что-то в этом роде – высшее образование плюс аспирантура и так далее – такая установка снижается. Рядом с ней – иногда даже превышая ее по значимости – оказываются способности, трудолюбие, понимание того, что ты хочешь получить от системы образования. Но престиж денег все равно чрезвычайно высок. Это говорит о том, что даже в сознании продвинутых и сравнительно успешных людей социум устроен крайне просто, и единственная сила, которая пронизывает все его группы, слои и уровни, – деньги. Для людей, которые действительно могли бы активно участвовать в модернизации страны – экономической, политической, правовой… – это слишком большое упрощение.
Мифология больших денег в этом слое чуть ниже в сравнении с населением в целом. Вообще, закономерность такова: чем менее успешна группа населения, чем больше она оттеснена к социальной периферии, тем сильнее ее вера во всевластие денег. Все же у людей, выросших в семье с хорошей библиотекой, где оба родителя с высшим образованием, где отношения, с одной стороны, внутри семьи, и между членами семьи и внешним миром, с другой, – были гармоничнее, чем в других группах, – безудержной мифологии денег не то что нет, но она скромнее выражена. Хотя эта установка, повторяю, сильна.
Это говорит о том, что российское общество пока медленно усложняется – и в сознании людей, и в реальности.
Вот что еще важно. В этом слое тоже – по крайней мере, среди людей с высшим образованием (даже с двумя) и ориентированных на дальнейшее повышение квалификации – устойчиво мнение, что советская и наследующая ей российская система образования – хорошая и дает массу преимуществ. Особенно когда говорят о прошлом: нет, мол, уж что-что, а образование в СССР – и естественно-научное, и техническое, инженерное, и гуманитарное – точно было. Так многие думают до сих пор. Даже иные преподаватели, работающие половину срока в России, половину – за рубежом, – имеющие опыт и здешней, и тамошней высшей школы, – говорят, что в смысле специализации, обучения современным, сегодняшним и особенно завтрашним профессиям в России сейчас, может быть, не так хорошо, но уровень и надежность знаний, которые дают здесь в высшей школе, – в сравнении с мировыми хорошие, и в целом российская система высшего образования, в общем, пока работает. Это – едва речь заходит не о престиже, не о сравнении с Западом, а о реальной ситуации в нашей системе образования, – не исключает высокой критичности у тех же людей: с педагогами плохо, с обновлением педагогических кадров плохо, с обеспечением библиотек современной литературой плохо, с возможностью стажировок за рубежом в развитых центрах по данным профессиям плохо… Но в целом наша система образования, дескать, работает.
То есть при сравнении нас с Западом включается компенсация: как, неужели мы и в этом уступаем?..
Это осложняет и размывает картину. Мы слабо представляем себе, что реально знают наши люди, в том числе из этого слоя, о западной системе образования; насколько точно они себе представляют, что хотели бы там получить. Здесь много и мифов, и старой и новой идеологии, и желания уверить себя в том, что ситуация такова, какой ее хочется видеть.
Все это работает вместе, притом в условиях комплекса униженности, неполноценности, чувства того, что нас не уважают. Это сложно, особенно когда относится к людям, живущим не в Москве и Петербурге, где все-таки другие информационные условия, где больше возможностей работать в зарубежных фирмах, стажироваться за рубежом. В нестоличных городах, даже крупных, возможностей меньше, а мифология сильнее. Хотя в последние годы возможности некоторых городов заметно растут: Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, некоторых волжских городов… Но все же ситуация меняется медленно, в основном – в отдельных точках.
Говорить о российской системе высшего образования сегодня как об устойчивой, перспективной, динамичной, по-моему, нельзя. Она скорее в состоянии полураспада и, как часто бывает в России, пытается в этой ситуации перестраиваться. То есть адаптируется к нынешнему положению; пытается усвоить – часто по методу карго, то есть заимствования символа, а не реального инструмента, – элементы системы образования, характерные для развитых стран Запада – притом что там они тоже разные. В итоге мы имеем заимствование, соединенное с комплексом неполноценности, с относительно слабой информированностью, с внутренним сопротивлением переменам, если те угрожают статусу, достигнутому людьми за последние годы.
Этот сложный набор действующих сил, мотивов, критериев оценки делает любые мнения, получаемые от наших респондентов, ненадежными. Во всяком случае, к ним надо относиться осторожно и работать с ними деликатно – в том числе с помощью качественных методов, внутри определенных групп, а не закидывая большой невод на все население; обязательно работать с возможностями сравнения, год за годом и на одних и тех же аудиториях; сравнивать нашу ситуацию с ситуациями в других бывших республиках СССР, в странах Центральной и Центрально-Восточной Европы и т. д. Короче, нужна огромная серия сравнительных исследований, разных по типам, по методам, чтобы через несколько лет, в горизонтах десятилетия, получить надежную, динамическую информацию. Она позволяла бы ответственно говорить о том, что происходит с высшим образованием и с представлениями о нем, в том числе – в продвинутых группах населения, которые в принципе, при других удачно складывающихся обстоятельствах, могли бы стать мотором модернизационных – пусть запоздалых – изменений.
А что бы вы сказали о среднем образовании? Какие типы школ для своих детей предпочитают люди с финансовыми возможностями?
За двадцать с лишним постсоветских лет альтернативные системы образования – и среднего, и высшего – серьезного развития не получили. Настоящих альтернатив у государственного образования, по сути, нет. Есть несколько – в том числе успешных – негосударственных университетов; есть лицеи, гимназии, заметно отличающиеся от «средних» средних школ, – но альтернативных систем и самой идеи соревнования, выбора и построения рациональной образовательной стратегии даже в этих продвинутых слоях нет. Родители в основном ориентируются на ту школу, что ближе к дому. И хорошо, если процентов 10–15 из них стараются выбрать менее социально опасную, чем другие, где пьянство, наркомания, преступность в старших классах были бы заметно меньше. Настороженность родителей по отношению к школе сочетается с традиционной идеей о том, что ребенок должен быть пристроен – пусть лучше в школу ходит, чем на улице болтается. (Это все – старая советская система образования.) Люди собирают информацию по межличностным каналам, в интернете. Но и это характерно в основном для Москвы и Петербурга, где есть из чего выбрать.
Мы снова упираемся в негибкую, внутренне неразвитую систему социума, где мало возможностей выбора. А значит, и возможностей построения рациональной жизненной стратегии – профессиональной, образовательной. Тем более что ресурсы для этого у большинства скромные, а мифология денег очень сильна. Все-таки даже среди городских и образованных людей считаные проценты ориентированы на качество образования, на его эффективность, с тем чтобы человек мог потом вписаться в мировой рынок и мировое разделение труда, в тенденции к глобализации. Рост и сдвиг в сторону более распространенных образовательных представлений, технологий, опирающихся на реально работающие институциональные системы, пока ненадежны, и идея о том, что детей лучше отправлять учиться за рубеж, чаще связана с мнением, что внутри страны ничего хорошего в этом смысле все равно не будет. Престиж престижем, но реально – лучше туда.
Вообще, и у этого слоя представление о том, что можно получить образование раз и навсегда и прожить с ним всю жизнь, потихоньку размывается. Рождается понимание: хорошо, если человек получает первоначальные навыки и толчок к тому, чтобы учиться и переучиваться дальше. Но это пока – доли процентов. Это не стало сколько-нибудь мощной тенденцией, тем более что нет реального опыта свободы системы образования, возможности выбирать и набирать себе учебную программу, строить эффективную образовательную стратегию, проверяя ее эффективность на каждой стадии образования. Пока все это в основном фантазии.
Но установка на получение высшего образования становится все более общепринятой. С точки зрения самих молодых людей и их родителей, образование, дающее диплом, – как бы гарантия, что ты можешь претендовать на хорошее место. Без такого социального свидетельства надеяться на приличную работу уже нельзя. Пусть этот диплом не из самого престижного вуза, пусть он даже купленный! – но он должен быть.
С другой стороны, у работодателей – опять же не в большинстве – крепнет установка: хорошо, если у нового работника есть высшее образование. Оно считается свидетельством его амбиций, известной развитости, уровня его социальных умений; того, что человек «не пьет, не курит, не матерится, не употребляет наркотики», менее конфликтен, менее туп, более гибок… Я думаю, это неправда. Но работодатели часто считают именно так.
Во всех этих случаях представление об образовании как жизненной стратегии, как о том, что во многом определяет, где и как человек будет работать, на какой образ жизни он будет ориентирован, кем он будет как потребитель, избиратель, гражданин и так далее, – слабо связано с идеей образования как такового. Пока образование – это то, что дает право на хорошую работу (по крайней мере, дополнительный козырь, когда ты на нее устраиваешься), а хорошая работа – это та, которая дает хорошие деньги.
Это адаптационная стратегия: стремление в неопределенной ситуации уменьшить риски от вхождения в профессиональный мир. Но это еще не философия образования в том смысле, в каком западная образовательная система пережила важные сдвиги в начале и во второй половине XIX века, после Первой и Второй мировых войн, в конце 1960-х, каждый раз отвечая на вызовы времени усложнением и динамизацией системы образования.
В России система образования пока не вошла в сложную, динамическую взаимосвязь с системой общества, перспективы перед нею и перед обществом в целом не стали общими. По сей день живо представление о том, что «учеба – одно, жизнь – другое».
Недуги социальной раздробленности, недоверия, низкого уровня солидарности, свойственные российскому социуму, характерны и для системы образования. Соревновательный импульс внутри нее невелик; соединение соревновательности с солидарностью удается и того реже и не стало собственной философией даже для тех, кого мы именуем «средним классом».
От социума в целом он при этом кое в чем отличается. Уровень установки на солидарность здесь несколько выше: люди понимают, что своими успехами они во многом обязаны связями с теми, с кем они вместе учились, работали и т. д. Но это пока не перешло в самосознание слоя: понимание того, что твои преимущества не только твои, но и преимущества твоей группы, что ты движешься вместе с нею. Соединения индивидуальных усилий с групповым статусом, с установкой на партнерские, солидарные отношения с другими в большинстве населения в этом слое тоже пока нет. А ведь именно оно решает проблему социальной динамики и ее соединения с высоким уровнем и образом жизни, который есть у группы, обладающей многими ресурсами и возможностями: образовательными, финансовыми, культурными, информационными.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































