Текст книги "Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х"
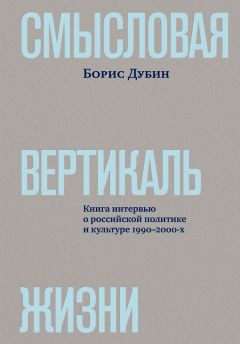
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Пока все идеи, которые заставляют людей сплачиваться, – негативные. Это – не дать, чтобы тебя затоптали. Сопротивляться самим придуманному образу врага.
Основы для позитивной консолидации я пока не вижу.
Вот просто факты: 2003 год – нет движений, партий нет, независимых кандидатов нет. Нет таких движений даже в культуре: нет школ, нет течений. Вроде обычно в культуре бывают движения, направления, полемика между ними – нет ничего. Может, время больших движений действительно закончилось – хорошо, пусть групповые, пусть школки какие-то – ничего этого нет. Есть только тусовки. Тусовки противопоставляют себя только нетусовке, у нее нет своей аудитории вне ее границ. И такая же ситуация в политике.
А может действенная солидарность, в которой рождаются лидеры и элита, появиться вообще не в отношениях с властью? Я имею в виду простую вещь: матери детей-инвалидов, не сдавшие своих детей в интернат, объединяются.
Ну, пока они не объединяются.
Почему?
Конечно, есть самые разные принципы объединения. В Америке и прочих развитых странах, например, есть объединение больных диабетом. Или другими характерными болезнями, требующими, например, пересадки органов, – они работают как структуры взаимовыручки, страхующие структуры. Там и формальные структуры такого рода довольно развиты, но появляются и такие для дополнительной страховки.
Но это в странах, где общество воюет с властью веками, отвоевывая свое общественное пространство. Где оно, общество, будет решать свои проблемы и в некоторых случаях привлекать к этому власть, тем самым давая ей опору в обществе.
Но посмотрите по нашим данным: 0,6 %, 1,5 % так или иначе вовлечены в работу всякого рода добровольных объединений. Никто не хочет. Не видят в них ни силы, ни власти, боятся, что обманут, начнут деньги брать. Сама способность к ассоциации, к объединению с себе подобны-ми, а тем более к взаимодействию с другими очень сильно поражена. Уже забыли, что родственники зарыты где-то на Колыме, но осталось недоверие к другому, нежелание с ним соединяться. Все-таки школа позитивной социальности почти не пройдена. Может быть, мы только в начале, может, наши дети…
Все же есть прекрасные профессора в университетах, есть авторы замечательных книг и статей. Все они так или иначе воспроизводятся в своих студентах, читателях…
А вы поговорите с этими профессорами и авторами, узнайте, как они живут и как себя чувствуют. Это не самочувствие элиты, вот что я хочу вам сказать. Элита не может жить в таком состоянии: ах! пришел новый начальник! что-то теперь будет?!
За элитой стоят довольно мощные механизмы, которые позволяют хотя бы такого рода изменения: один начальник, другой – не относиться слишком серьезно. На этом стоит и система в конечном счете. А здесь любое изменение, заболевание начальника – все становится фактором, ухудшающим ситуацию, причем быстро и неотвратимо. Системы так работают только в условиях распада.
Я думаю, это главная характеристика происходящего: распад – и стремление уцепиться за эти кусочки социальной ткани. Зацепились за какой-то крючок – тут же попытаться его обжить. Окружиться своими, создать какой-то режим возможного благоприятствования. И тут – бум! – опять провалились на этаж ниже, ну что это такое!.. Но кто-то все-таки остался. Нащупали друг друга, опять попытались что-то такое воссоздать. И мы видим, как эти проседающие и опадающие структуры через какое-то время опять находят себя, что-то такое воссоздают. Но это – выживание, а не рождение движений или новой элиты…
Какие-то ветерки, сквознячки, указывающие, что что-то может появиться.
Хорошо, но любому человеку нужно на что-то ориентироваться.
Так они и ориентируются.
На что?
Уф! Каждый себе слепляет – что может. Кто-то лепит из того, что увидел на Запале, увидел в журнале, поглядел, нюхнул, успел за эти десять-пятнадцать лет окружить себя кем-то – вот из этого что-то и возникло. Они же могут выступать объектом ориентации для тех, кто подальше от Москвы, но с большими поправками, потому что там нет таких ресурсов и время упущено, то, что называется «снижение образца», его упрощение, уплощение и превращение во что-то инструментальное, не моральное, а инструментальное: добиться, схватить, получить для продвижения, уцепиться за эту связь. Опять же все время включаются адаптивные механизмы. Они глушат силы автономии и силы развития. Все время адаптация как бы съедает социальное движение. Климат борьбы сил адаптации с силами развития очень вялый.
«Два канала телевидения и единичная фигура президента – вот что соединяет население»
Впервые: Дубин Б. Наше общество не способно держать само себя // Московские новости. 2006. № 29. Републикация: Борис Дубин: Два канала телевидения и единичная фигура президента – вот что соединяет население // Шаповал С. Беседы на рубеже тысячелетий. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 598–609.
Борис Владимирович, вы согласны с распространенным утверждением, что в России сегодня политики нет?
В общем, да. Но при этом у нас есть политические партии, избранные президент, парламент и т. д.
Это всё вывески. Политика подразумевает наличие самостоятельных групп со своими программами, с возможностью вынести их в публичное поле, отстаивать свои интересы и цели, при этом апеллируя не только к своему интересу, а к более общему благу.
У нас же, по сути, существует только одна политика – политика власти. А уж выражается она разными средствами: символической политикой – работой в массмедиа, программами праздников, установкой памятников, национальными проектами и т. д. Есть политика закулисная, есть политика административная, выстраивающая систему кадров, их продвижения, замены и т. д. Существует один политический актор, как говорят социологи, это собственно группировка, которой сегодня принадлежит власть. Из кого персонально она состоит и как она устроена, разговор для политологов. Мне это не очень интересно.
Для пущей наглядности предлагаю обратиться к примеру Америки. Избран президент, он привел во власть свою группировку, которая принимает важные для мира решения, не особенно оглядываясь на раздающиеся протесты. Почему в Америке есть политика, а у нас нет?
Давайте начнем с самого верха. В Америке 11 сентября произошло катастрофическое событие, президент страны был на экране телевизоров через семь минут. Почему? Может быть, у него есть сотня соображений, но как политик он не может поступить иначе, потому что от этого зависит его судьба. Наше первое лицо после трагических событий может несколько дней не появляться на экранах, потом, выступая по третьему поводу, между прочим скажет что-то о том, что интересует всю страну. Он знает: ему ничего за это не будет. Иначе говоря, политика в строгом смысле слова – это подотчетность политиков другим политическим группам, избирателям, средствам массовой информации и т. д. В Америке вышел фильм Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», у нас снять подобный фильм даже в голову никому не придет, хотя все знают, как делаются дела. Я думаю, мало кто из людей пишущих и снимающих кино сомневается в важности этой проблемы, но никто не хочет взяться за это дело. В таком случае знаком отсутствия политики становится политический цинизм. Я не хочу сказать, что в Америке нет политических циников, но система в целом за несколько столетий выстроилась так, что политический цинизм, подкуп, политическое убийство, слив дезинформации имеют место, однако их значение не может быть решающим. Мы отсюда смотрим на Америку как на единое целое, внутри очевидно различие между штатами, у них разные законы, разное представление о достойном и недостойном, разные герои, а это очень полезно. Политику составляют действия самостоятельных групп, а если их нет или они существуют на уровне подвала, тогда нет и политики. Вернее, она превращается в каток, который всех выравнивает, а его водитель наблюдает за тем, чтобы никакое растение не пробилось сквозь уложенный асфальт.
Один американец убеждал меня, что, если бы в Нью-Йорке провели референдум по поводу учреждения прописки, большинство жителей эту идею поддержали бы, потому что пресловутое «понаехали тут» живет и побеждает и там. Если говорить о низовом уровне, чем американцы отличаются от нас?
В уборной и в постели люди мало чем отличаются друг от друга. Чем выше уровень, тем в большей мере их поведение зависит а) от них самих и б) от того, кого они вынуждены принимать в расчет. Живешь один в квартире – хоть без трусов ходи, но если присутствует второй-третий, с ними надо считаться. Уровень не доктринальной, а низовой, бытовой ксенофобии (все эти «понаехали», «человеческого языка не понимают» и т. д.) более или менее одинаков в схожих ситуациях. Важно, что над низовым уровнем надстроено и с чем простые люди – хочешь не хочешь – вынуждены считаться. Школ и университетов, где учатся одни только белые европейцы или американцы, давно уже нет. В основе западной культуры лежит идея разнообразия, множественности, которая и придает динамику. С одной стороны, именно эта идея стимулирует этническую и культурную множественность. С другой стороны, это разнообразие вынужденное, потому что целый ряд социальных мест уже не хотят занимать коренные жители, поэтому туда подтягивается всякий другой народ. В первом поколении человек будет мыть посуду в ресторане, но следующее поколение будет получать образование и бороться за место под солнцем, опережая многих, потому что ему нужно зарабатывать социальный капитал. Если у нас есть будущее, то оно именно такое. Надо к нему привыкать уже сейчас.
Обнаружилось, что нам нужно не только выяснять, что есть политика, необходимо наведение порядка в категориальном аппарате практически во всех отраслях гуманитарного знания. Из-за отсутствия этого порядка у нас легко бросаются терминами «фашизм», «национализм» и т. д.
Конечно, надо стараться в разговорах быть более строгим. Фашизм – это тип политического режима. Какое-то одно событие, каким бы страшным оно ни было, не может свидетельствовать о природе, конструкции, ведущих частях и программе того или иного политического режима. Из истории XX века известно, что характеризует такого рода режимы: единение партии и государства, монополия на насилие, монополия на информацию (цензура), жесткий контроль над образованием, социальным продвижением, подбором кадров и т. д. Когда говорят о фашизации общества, имеют в виду комплекс превосходства – будь то расового, будь то идеологического. Этот комплекс обернут своей агрессивной стороной против любых других.
То, с чем мы имеем дело сегодня в России, в строгом смысле слова не есть фашизм, за исключением узких группировок, которые впрямую стилизуют свое поведение под фашистское. С другой стороны, мы сегодня не имеем дела и с тем, что строго можно определить как национализм. У нас точно нет национализма конструктивного, того национализма, на котором взошли в Европе национальные государства на протяжении XIX века. Сейчас национальное государство как конструкция трещит по швам. Например, что делать в Германии, где уже 20 % населения – не немцы? Немцы привыкли жить с ощущением, что Германия – это страна немцев: так устроена их конституция, их самопонимание, культура и т. д. Более того, сегодня в развитых странах почти что не приходится говорить о национальных культурах. Скажем, в Германии сосуществуют литературы на нескольких языках. Утверждать, что они не немецкие, язык не повернется, хотя в строгом смысле они – не немецкие. Есть писатели, которые существуют на двух или даже трех языках, сами себя переводя. Похожая история во Франции, в Англии, уж не говорю о США.
Нынешняя Российская Федерация на уровне официальной идеологии приняла наследство Советского Союза. А Советский Союз был образованием наднациональным. Все зависит от того, какие формы примет эта наднациональность. Пока что – вслед за советской – она принимает формы державные или симулирует их. У Юргена Хабермаса есть термин «постнациональная констелляция». Что сегодня может связывать немцев, которые на одну пятую уже не немцы, а половина нынешнего населения выросла в условиях «другой Германии»? О каких национальных проявлениях здесь можно говорить? Мы явно живем под созвездием постнационального, а это значит привязанность не к истории, земле и крови, а к политическим или религиозным институтам и т. д.
В России сейчас нет конструктивного национализма, поскольку нет ни национального подъема, ни задач национального строительства. Нет у нас и фашизма. Я говорю о них как о явлениях массовых, явлениях, характеризующих социальные группы, которые находятся на подъеме. С одной стороны, в России существует огромная бытовая ксенофобия, а с другой – попытки некоторых политиков использовать ксенофобные настроения, налепив на них наклейку национальных чувств и национального самоопределения. Национализм в России, во-первых, очень запоздалый, эта проблематика была пройдена в 1870–1880-е годы, во-вторых, номенклатурно-бюрократический. Определенные фракции бюрократии, которые ощущают себя недостаточно сильными, начинают нажимать на национальную тему. Они не имеют других идей и символов общего, поэтому реанимируется (симулируется) архаическая идея национальной принадлежности – к крови, земле, общему прошлому. Опять же пример Германии: о каком общем прошлом там может идти речь, если на протяжении последнего столетия прошлое Германии – явление, раскалывавшее страну по самым разным основаниям? Поэтому там идет такая мощная работа по освоению прошлого, его просветлению. В России в последние двадцать лет ничего подобного нет.
Значит, по-вашему, о фашистской угрозе в нашем обществе говорить не приходится?
В нашем обществе наличествует фашизоидный синдром. Несколько слов о предыстории. Фашизм как мировоззрение и система символов возникает и распространяется в специфических условиях. Прежде всего для него необходима чрезвычайная раздробленность общества. Человек становится одиноким и беспомощным, он может рассчитывать либо на себя (в очень узком круге проблем), либо на самую высокую власть. Он зависит от власти, но при этом ей не доверяет. Мы провели опрос о том, насколько часто россияне контактируют с различными государственными и общественными учреждениями. Самое популярное учреждение – поликлиника. За год наши опрошенные ни разу не обратились к своему депутату или в депутатскую комиссию, которые они выбирали. Около 3 % россиян проводят время с людьми своей церкви, синагоги, мечети. Около 5 % – состояли в течение последнего года в какой-то партии или общественном движении. Над этой раздробленностью стоит телевидение. Ни газеты, ни радио, ни интернет не делают погоды. Два канала телевидения и единичная фигура президента – вот что соединяет население сверху. Внизу сообщество раздроблено на мельчайшие группы. Соединение раздробленности с зависимостью от власти и с готовностью апеллировать напрямую к воле вождя – это тот тип устройства общества, в котором могут возникать и, уж извините, как вонь, распространяться фашизоидные взгляды и настроения.
Например, сейчас 52 % нашего взрослого населения так или иначе поддерживают лозунг «Россия для русских». За 1990-е годы число его сторонников возросло очень сильно. Важно, что 60 % россиян не считают этот лозунг фашистским.
Как вы относитесь к обсуждаемому сценарию на 2008 год: убийства инородцев и прочие фашизоидные проявления достигнут такого масштаба, что люди с воодушевлением выступят за продление полномочий нынешней власти?
Я думаю, такой сценарий – один среди прочих – имеется в виду, но вряд ли он понадобится. Ситуация находится под контролем. С другой стороны, на протяжении 1990-х годов в ход пускался козырь опасности и врага. Чаще всего это были коммунисты. Возможно, возрастающая неопределенность примет некоторые массово организованные формы. Этого не исключают и наши опрошенные, но они подразумевают другое. Они считают, что в ближайшее время могут быть массовые выступления в связи, например, с реформой ЖКХ. Характерно, что до 40 % россиян допускают, что они будут участвовать в этих волнениях. Если вдруг возникнет призрак того, что появляется организованное массовое сопротивление, я не исключаю, что в качестве угрозы такой козырь может быть выхвачен из рукава. Появится образ врага в виде национал-радикалов. Но, повторяю, вряд ли такой ход будет реализован. Если вдруг это произойдет, будет очень противно и совершенно бессмысленно: что-то вроде поджога Рейхстага.
Я не очень верю в осмысленные массовые выступления, потому что у нас патриотизм имеет странное свойство оборачиваться любовью к власти. А ведь даже американцы, которые признаны у нас едва ли не эталоном тупости, любят родину как-то по-другому.
Не берусь читать в сердцах, но могу обратиться к данным массовых опросов, проводимых в течение многих лет. То, что вы называете патриотизмом, в России 1990–2000-х годов чаще всего имеет такую форму: люди ощущают свою принадлежность к стране, но не видят оснований гордиться этой принадлежностью. Мы задавали вопрос: «Россия – великая страна?» – значимое большинство ответило положительно. Что должно быть у страны, чтобы она считалась великой? Большая территория, сильная армия, высокий уровень благосостояния населения, богатые полезные ископаемые, великая история и т. д. У нас оказалось, что, кроме гигантской, хоть и уменьшившейся, территории и полезных ископаемых (в первую очередь нефти), больше ничего и нет. Что движет американцем? Американец, мне кажется, прежде всего живет в своем регионе, в котором чувствует себя дома – он здесь что-то значит. Помимо этого, он гордится высоким уровнем жизни, политическими институтами, правовыми достижениями своей страны и т. д. Есть основания для позитивной гордости. Материал, из которого шьется тамошний патриотический костюм, иной, чем у нас.
Иногда складывается впечатление, что в выяснении этих проблем нужно опускаться до анатомического уровня. Американец чувствует – и небезосновательно, – что это его город. У нас во многих деревнях, в которых живут поколениями, мужики отрезают провода, сдают в скупку металлов, пропив деньги, сидят без света и считают, что это их земля.
Дело, конечно, не в анатомии. Дело в социальном опыте, в самих представлениях о социальном, а в конечном итоге в антропологии – в другом человеке. XIX век впрямую уже не влияет на нынешнее российское состояние, о нем говорить не стоит. Возьмем XX век: в России нет ни одного поколения, которое прожило бы свою жизнь в мире. Или это была война, или это был террор, или надо было затягивать пояса до такой степени, что жизнь никакой радости приносить не могла. Тоталитарная машина была ориентирована на то, чтобы связи между людьми, их взаимное доверие и уважение были разрушены. Только при их отсутствии можно было подчинить людей вождю, единой программе и повести весь народ воевать, казалось бы, в безнадежной войне, а после победы похвалить его за терпение.
Дело в разном понимании, что такое человек, что такое твоя страна, что ты в ней можешь. Дело и в наборе идей, символов, социальных приспособлений, которые в одном случае помогают осуществить себя, не теряя связи с другими, а в другом – это осуществление происходит в формах бандитских, самоуничтожительных. Среди блатных всегда есть готовые к членовредительству, это означает: он ни перед чем не остановится. Утверждение «я» происходит в форме демонстративного ущерба самому себе. Приведенный вами пример с обрезанием проводов и пропиванием полученных денег отчасти демонстрирует такого типа поведение. Самоосуществление происходит за счет разрыва связей с другими и нанесения вреда себе самому.
С одной стороны, в России явственно обозначилась угроза антропологической катастрофы, с другой – жестокий кризис элиты, которая напоминает образ писателя у Борхеса: «Он судил о других по их произведениям, но хотел, чтобы о нем судили по замыслам». О других странах у нас принято судить по их поступкам, но о нас – пожалуйста, по нашим замыслам.
Так это и есть комплекс исключительности, он принял такую форму. В чем суть «русской идеи»? Ее невозможно обнаружить, но для всякого, кто ею клянется, она в данный момент есть. Предъявить ее никому невозможно, но только этим тайным знаком мы оказываемся объединенными. Об этом у Блока: «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Навредить себе и за счет этого почувствовать себя особенным – это очень тяжелый комплекс. Иногда он разворачивается в облагороженную тютчевско-блоковскую сторону, а иногда становится просто блатным: отвали, а то в глаза плюну, а у меня сифилис. Но сам комплекс очень устойчив, он развернут во всем устройстве целого. Пока никак не удается выйти на социальное, культурное многообразие, подконтрольность одних групп другим, реальную выборность власти и ощущение у человека, что эта власть тобою же нанята. Путь к этому очень долгий и чрезвычайно тяжелый.
Результатом нашего разговора стало нечто вроде истории болезни. Эта болезнь, по-вашему, излечима?
Исторический опыт XX века показывает, что от аналогичных бацилл можно избавиться. Есть, например, поляки с историей еще более сложной. Правда, у нас нет тамошнего костела, нет шляхетства, а это чрезвычайно важно. Там на протяжении веков выращивались люди особого качества, из которых и складывались элиты, гордость нации. Но они не замыкались в рамках одного сословия, в элиту могли попасть и другие люди, хотя к ним были особые культурные и социальные требования. Кроме того, есть путь Японии. В конце концов есть путь Финляндии, которая за последние двадцать лет из периферии превратилась в страну с высочайшим уровнем жизни, развитой промышленностью и интересной культурой. Теоретически говоря, из подобных коллизий выход был и есть.
В нашем случае: громадный масштаб страны, чрезвычайная запущенность болезни, очень слабое социальное устройство. У Мариэтты Шагинян был роман, в котором главный злодей обладал странной болезнью: его позвоночник не держал тело, он всегда ходил в корсете. Так и наше общество не способно держать само себя, нет социального костяка, сложной системы нервов и т. д. Сказать, что это навсегда, язык не поворачивается. Но обнадеживающих симптомов, к сожалению, не так много. Прогнозов делать не буду. Все зависит от нас. Если рассчитывать на то, что все само собой как-то образуется, такая ситуация будет существовать веками. В классической теории модернизации есть понятие «локомотивы развития», речь о группах, которые связали свою судьбу с изменением ситуации и сумели свои программы сделать осуществимыми и привлекательными, в результате резко двинув развитие страны вперед. Людям сегодня как будто уже понятно, что это возможно за пределами их жизни, но такая мысль еще больше убеждает наших соотечественников в том, что шевелиться особенно нечего: не при нас там что-нибудь да образуется. Увы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































