Читать книгу "Смысловая вертикаль жизни. Книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х"
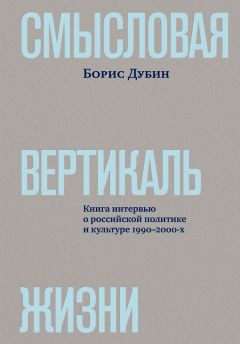
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Это не будет кодексом правозащитников, это не будет кодексом отцов-основателей американской демократии, это не будет идея американского призвания: «Мы пришли, чтобы эту пустыню сделать цветущей страной». Сегодня основные ориентиры и у власти, и у населения не в будущем, а в прошлом, хотя это, в общем-то, сконструированное прошлое, хорошо нарисованное прошлое. Если посмотреть данные нашего центра о том, какие характеристики в понимании конструкции идентичности (что такое Россия, российский народ, особый российский путь?) выросли в общественном мнении за последние двадцать лет, то это «наша земля» и «наше прошлое». Никакие другие. Самосознание таково, что российский народ – самый потерпевший от событий XX века. Если сказать, что поляки или евреи потерпели не меньше (и разве тут бывает больше или меньше?), найдется что вспомнить и у грузин, и у абхазов, и у прибалтов, то российского человека это, похоже, не проймет, потому что он считает: он – самый пострадавший. Эта способность терпеть и все-таки дожить до периода «оттепели» как будто является национальной чертой. Но принадлежит ли она людям реально? Скорее нет. И все же флажок, который выкинут, говорит о «русском терпении». Терпение, конечно, вещь хорошая, но оно никак не связано с модернизацией, с тем, что ты что-то делаешь, ставишь цели, и эти цели объединяют тебя с другими людьми, а связано со страданиями, свалившимися сверху. Наше «вместе» – это те, кто вместе претерпели, а не вместе что-то сделали. Таково российское «мы».
Качественная политика невозможна без взаимодействия власти и общества. Но в российском политическом пространстве невозможно найти наиболее удаленных друг от друга субъектов. Какие ценности, на ваш взгляд, способны сблизить общество и власть?
Власть за последние пятнадцать лет многое сделала, чтобы, с одной стороны, удалить хоть какое-то политическое многообразие, а с другой стороны, провести резкую черту между собой и населением. В этом смысле ни сегодняшняя власть, ни население не видят перспективы сближения. Такую перспективу, как план или проект, могут ставить перед собой оппозиционные силы, если они сформируются. И тогда единственная для них возможность получить кредит доверия – не ходить в Кремль и добиваться, чтобы что-то выделили из средств на выборы, а принять во внимание интересы каких-то частей общества и пытаться эти интересы артикулировать, сделать основой своей программы и заручиться поддержкой населения для реализации этих целей. Без соединения идей и интересов, как учили классики социологии, институты не рождаются, а без институтов модернизации не будет. Без ценностного посыла, без идеалистического проекта это невозможно. Поэтому нынешнюю ситуацию я оцениваю скептически, хотя и не совсем безнадежно. Сверху что-то может сдвинуться, внизу что-то делается, какие-то группы чего-то добиваются.
Какие ресурсы для прорыва вы видите?
Ну, вряд ли прорыв – скорее сдвиг, сдвиги. С одной стороны, молодежь. Она все-таки другая по сравнению с молодежью моего поколения, тем более – поколения моих родителей. В чем-то она больше привыкла к готовому, что-то досталось ей даром, но она другая, реально. С другой стороны, страна, хочешь не хочешь, вынуждена считаться с тем, что происходит не только в Америке, но и в Литве, в Грузии, других маленьких странах. Нынешняя власть считается не только с Китаем и Соединенными Штатами, но и с Польшей. Это тоже влияет на ситуацию. Но никакого проекта модернизации здесь нет, эти процессы носят общецивилизационный характер. Что-то просачивается, какое-то вещество другой жизни, других ценностей, других типов поведения, даже другого внешнего облика. Но это просачивается так, как дождь просачивается в землю. Пока это не очень направленные, осознанные, принятые процессы. Если дело пойдет так, то это будет очень долго. Ни одно поколение не может про себя сказать, что оно реализовало что-то из тех целей, которые перед собой ставило. Мераб Мамардашвили говорил, что советских людей отличает то, что никто из них никогда не сталкивался с последствиями своих поступков. Поэтому что-то может произойти, но это произойдет через два поколения, и ты даже и не знаешь, что это ответ на какой-то прошлый импульс. Очень важно, чтобы что-то произошло уже при этом поколении, чтобы оно увидело плоды своих трудов, реализацию своих идей. Это в корне меняет отношение человека к делу. Пока у большинства в России нет позитивного опыта достижения успеха в преследовании своих целей. А именно на этом строится модернизация, это ее путь, а не лозунги власти.
Согласны ли вы с утверждением А. С. Панарина, что в России народ остался без элиты? Возможно, по этой причине трудно увидеть базовые для модернизации группы?
Что значит «остался»? Как будто она когда-то была, эта элита. Социально-политический и экономический порядок выстраивается в России сверху именно так, что он прерывает процессы элитообразования. Начальники, номенклатура появляются, а элиты все-таки нет. Потому что элита – образование сложное. Это и заявка на какую-то роль, и вместе с тем большой кредит доверия со стороны других групп. Это компетентность, но и ответственность. Это заинтересованность в других и готовность с ними сотрудничать при очень развитой индивидуалистической этике, чувстве чести, достоинства. Элита сама по себе и по велениям сверху не возникает. Элиты современных западных обществ получались в очень длительных исторических процессах, и нельзя сказать, что там была программа их «выращивания». Рано или поздно кровь переставала литься, люди начинали договариваться, строить формы совместной жизни. Условное начало – с идей, идеалистических проектов и ощущения личной заинтересованности в этом, связи твоей личной судьбы с судьбой других людей. В западных обществах (в меньшей мере в Японии) каким-то образом исторически соединились идея самостоятельности, индивидуализма, а соответственно, чести, достоинства, которые за ней стоят, с идеей соревнования, кто лучше, а значит, идеалистических проектов ценностей, ориентиров, и с формами солидарности. Для российского ума самостоятельность исключает солидарность, соревновательность также исключает солидарность. Соединение этих несовместимых для российского ума элементов – та почва, на которой возникают и держатся модерные формы даже в нынешние постмодерные времена.
Сегодня говорят или о деградации интеллигенции, или даже о ее полном исчезновении. На ваш взгляд, интеллигенция существует? Есть ли на нее общественный запрос? Если интеллигенция существует, то на что она способна в современной России?
Что касается исторических истоков интеллигенции, то это феномен закрытого общества и особых отношений, которые складываются между группами и слоями в закрытом обществе. Поскольку в таком обществе нет форм коммуникации, представления о собственных интересах в универсалистской форме вроде суда, парламента, политической борьбы, открытой прессы, там появляется этот феномен – особый слой людей, которые отличаются не столько своим положением в системе статусов, сколько функцией: они претендуют на то, что именно они связывают в этом обществе разные группы – крестьянство и город, власть и народ, Россию и Запад и т. д.
В 1930-е годы сталинская власть стала заинтересована в том, чтобы у нее был свой слой, с одной стороны, образованный, с другой стороны, верный ей и привязанный к ней. Интеллигентам тогда присуждались премии, для них строились дачи, их отправляли в дома отдыха. Интеллигенция 1960-х, «оттепельная» интеллигенция, которая родилась после того, как умер Сталин и стали возможны некоторые степени свободы, – совершенно другая и по тому, из кого она формировалась, и по идеям. Интеллигенция 1970–1980-х, интеллигенция подполья, второй культуры, интеллигенция вынужденных соглашений с властью за то, чтобы хотя бы на кухне можно было говорить о своем и читать на папиросной бумаге перепечатанный «Архипелаг ГУЛАГ». Это разные формы, и я думаю, что ни те, ни другие, ни третьи в сегодняшней ситуации не присутствуют. Есть воспоминание о том, чем была интеллигенция, есть какие-то формы, которые она породила, но которые выступают в совершенно другой роли. Простейший пример: толстые журналы, которые всегда создавались интеллигенцией и для интеллигенции, были знаменем, визитной карточкой интеллигенции. Они сегодня существуют, но стали площадкой «для своих» и не выходят за пределы того, что на Западе называется «little review», что имеет небольшой тираж. Здесь можно дебютировать, получить первичное признание, «засветиться», но это не то, что делали толстые журналы в России XIX века или в 1960-е годы века двадцатого. Ю. А. Левада вообще считал, что интеллигенция была в России только в XIX веке, потому что в Советской России началось фантомное существование интеллигенции, когда само слово «интеллигенция» и какие-то обломки представлений о ней натягивались на другие исторические, социальные, экономические реалии. Сегодня если и происходит некое воскрешение понятия «интеллигенция», его ореола, то это тоже натягивание осколков воспоминаний о том, какой была интеллигенция, на другую реальность. Что делать интеллигенции в сегодняшней России? Остаточный контур, на котором она могла бы держаться, – это идея гуманности, внесения толерантности, терпимости, широкого взгляда, ненасильственности, какие-то остатки кодекса правозащитников или экологов. Но на какой социальный слой это сегодня ляжет, если среди молодого поколения доминируют идеи успеха, денег, статуса, свободы передвижения в мире? Идея широты взгляда, толерантности, интереса к будущему и к другому человеку – это радикалы, остатки от интеллигентского кодекса. Я не думаю, что их можно сейчас реально положить на какой-то слой, на какие-то коммуникации или формы. Хотелось бы, чтобы это, по крайней мере, было растворено в атмосфере, как аромат, как холод или тепло. А чтобы это стало знаменем, флажком для какой-то группы, чтобы возникла партия или клуб интеллигентов – маловероятно.
Современная интеллигенция способна вести за собой?
Мобилизационный, объединяющий, поднимающий характер интеллигенция потеряла. Есть остатки желательного морального кодекса. Но бо́льшая часть населения пожмет плечами, если что-то сказать про интеллигенцию: они занимаются другими делами, выживанием. Можно попробовать найти что-то из кодекса интеллигенции среди образованной молодежи, у которых родители с двумя высшими образованиями. У нас и у наших коллег есть данные, что среди столичной молодежи негуманитарного образования находятся реликты интеллигентских представлений – скажем, о чтении, о книгах, о писателях. Причем они демонстрируют это в интернете – заносят это в свою визитную карточку «ВКонтакте», обсуждают там эти вещи. Какие-то символы общности, оказывается, дошли до них от поколения интеллигентных родителей. Даже не сама интеллигенция как слой или программа, а элементы ее поведения, ее мысли, символы могут встретиться в обиходе небольших групп. Эти символы не могут быть для них главными, увлекающими, направляющими, а могут быть знаками, по которым узнают «своих/чужих». При таком уровне недоверия общества, как сейчас в России, важны символы, сигнализирующие о том, что ваш собеседник не будет слишком агрессивен по отношению к вам, что он отнесется к вам с уважением, что с ним возможен диалог. Так что сегодня роль интеллигенции, воспоминания об этой роли имеют совсем другую функцию. Черты, на которых когда-то хотел себя сформировать и репрезентировать целый социальный слой, сегодня становятся распыленными, растворенными, эфирными символами возможной взаимности в обществе раздробленном, бедном доверием и бедном реальными коммуникациями. Реликты этого кодекса выступают в роли ритуала знакомства. Это тоже важная роль, но другая. Хотя ее уже знаменем не сделаешь, но способность наладить контакт важна, особенно в российском обществе, где с недоверием относятся к другим, не очень заинтересованы в других. Эти значки играют теперь не мобилизационную, а цивилизационно склеивающую роль.
О «Манифесте» Н. С. Михалкова. Нашел ли он отклик в обществе?
В широкие слои он все равно не пойдет: слишком большой, слишком много всего сказано. Обычный человек заснет на пятой минуте. Но если Н. С. Михалкову дать на пять минут озвучить что-то из основных идей, которые он там изложил, тогда значительная часть населения услышит нечто патриотическое, отсылающее к дореволюционной России, почувствует имперский пафос. Но тут и граница. Идея империи как синонима завоевания, агрессии и подчинения, думаю, вряд ли будет иметь поддержку. А империя как сознание общности, того, что наши рубежи укреплены, как мы никому не отдадим ни пяди своей земли, – это да. Но империи, которая пятой наступает на своих жителей, россияне сегодня не хотят. Они ни за что не хотят отдавать жизнь, не хотят ни за что воевать. Но в то же время они чрезвычайно чувствительны к тому, что отличает их от других народов, и хотят, чтобы другие это уважали. Когда задевается периметр «это – мы» на спортивных или политических полях или, скажем, в культуре, к этому относятся очень болезненно. А в целом, мне кажется, довольно демонстративное, пафосное и широковещательное сочинение. Но ничего другого от Никиты Сергеевича никто и не ждал. Значительно более мягкий, более интеллигентный вариант – то, что пишет его старший брат. Он тоже выступает со своего рода манифестами и даже опередил в этом младшего, но там имперская идея до предела сглажена, там тоже про особый путь, но без железного кулака, там чувствуется готовность услышать другого и установить диалог. Все-таки есть какая-то прививка западной цивилизации.
Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»?
Впервые: Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Паин Э. А. Беседа на тему: Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»? // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия. М.: Три квадрата, 2010. С. 300–317.
Э. Паин: Заканчивая подготовку нашей книги к публикации, я вспомнил об одном коротком выступлении на Шестых Старовойтовских чтениях, которое отличалось «особым взглядом» на проблему «особого пути» России. Бо́льшая часть выступлений на чтениях, равно как и бо́льшая часть статей этой книги, показывают, что где бы ни появлялась идеология «особого пути», она всегда отражала защитную и антимодернизационную направленность. Но вот писатель Александр Мелихов полагает, что эта же идеология при определенном ее развороте может служить и целям модернизации. В этой связи он высказывает несколько идей. Во-первых, о том, что понятие «особый» в индивидуальных оценках всегда имеет скорее позитивную, чем негативную коннотацию, характеризуя незаурядные способности, возможности личности («особая личность», «особые заслуги», «особое качество»). Встает вопрос, каким образом идеология «особого пути» сочетается с этой идеей индивидуальной незаурядности.
Во-вторых, писатель говорит, что идеология «особого пути» возникает как сопротивление навязанному кем-то извне однообразию, жизни по чужим правилам. Наверное, можно поспорить с гипотезой о таком происхождении этой идеологии, однако меня больше занимает вытекающая из этой мысли Мелихова проблема взаимосвязи идеологии «особого пути» с современными версиями теории модернизации. Они отказываются от былого эволюционистского взгляда на историческое развитие, предполагавшего один для всех единственно верный и при этом еще и прямолинейный путь к всеобщему счастью. Напротив, в новых версиях теории модернизации культурное многообразие человечества рассматривается как конкурентное преимущество того или иного народа или страны. Так вот и возникает еще один вопрос для нашего обсуждения: о том, как соотносится идеология «особого пути» с идеей культурного многообразия.
И наконец, третий вопрос, пусть и не поставленный прямо в выступлении писателя, но вытекающий из него. У какой-то части нашей интеллигенции есть нонконформистское стремление найти, разглядеть нечто позитивное в том, что обычно маркируется как негативное. Понятно, что ныне идеологию «особого пути» защищают державники, имперцы всех мастей, так было и раньше на протяжении по крайней мере двух последних веков российской истории. Но, может быть, можно найти такой поворот особого пути, который будет позитивным отнюдь не для консерваторов, а для людей с демократическими взглядами?
Л. Гудков: Давайте начнем с категорий «особенный», «особый». В принципе, это оценочные суждения, которые сами по себе не содержат ни позитивной, ни негативной коннотации. Термин «особый» не является характеристикой универсального свойства, не содержит признаков многовариантности и, соответственно, не позволяет установить специфичность какого-то одного варианта в сравнении со многими другими или с некой универсальной моделью, схемой. Для оценивания необходимо принимать во внимание мотивацию того, кто выносит оценку, к кому он обращается, к каким партнерам и по отношению к чему он устанавливает такую демаркацию или оценку. Когда мама говорит: «Ты особенный!» – она выделяет ребенка и оценивает его вполне позитивно («особый для меня среди многих»), не давая при этом негативных оценок другим детям; она не исключает своего ребенка из универсального ряда. Когда А. Дугин или еще кто-то из консервативных идеологов говорит «особый», он, конечно, работает с компенсаторно-защитным комплексом. Оценка здесь направлена против включения страны или субъекта в универсальное поле. В этом смысле изоляция исключает субъекта из шкалы, в которой он мог быть оценен как недоразвитый или недомодернизированный или еще недо– какой-то. То есть снимает негативную оценочность. Поэтому сама по себе особость как признак еще не содержит в себе мотивацию. Я поэтому и говорю, что надо всегда брать во внимание мотивы квалифицирующего субъекта.
Э. П.: Хочу подхватить мысль о двух типах оценок: одна – в рамках универсальных критериев, а вторая – через исключения из них и противопоставления. Когда мать оценивает своего ребенка как особенного, незаурядного, она, как правило, делает это по универсальным критериям. Если в обществе ценится ум, то мать и оценивает по этому критерию своего ребенка («мой самый умный, способный»), если ценится сила, воинственность, ловкость, то по этим же критериям и мать выделяет своего ребенка из ряда других детей, оцениваемых по тем же критериям. В этом смысле такая оценка принципиально противоположна идеологии «особого пути», которая пытается противопоставить эту особость неким универсальным требованиям. «Мы принципиально не такие». Кстати, и в индивидуальных оценках заметно различие двух типов оценивания. Если бы мать сказала: «Мой сын дурачок, зато тихий (или сильный)», – то в такой оценке явно проявлялась бы защитная реакция психологической компенсации. И еще одно. Даже мать оценивает своего ребенка как внешний наблюдатель, а представьте себе, что сам сынок или дочка начнет превозносить себя как незаурядную личность. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что такой человек ощущает некую внутреннюю неуверенность и стремится компенсировать ее самоутверждающим возвеличиванием. Вот и идеология «особого пути» – это всегда самооценка «нас», это форма болезненного самоутверждения.
Б. Дубин: Мне не кажется, что сегодня большинство российского населения – ну, может быть, за исключением студентов твоего, Эмиль, университета, Высшей школы экономики, которых обучают тому, что они самые-самые, и всячески стараются разбудить в них честолюбие – сверхпозитивно оценивает значение слова «особый». Скорее наоборот. Юрий Левада писал о том, что никакого среднего класса нет, а средний человек есть. В этом смысле – и наши данные это подтверждают – бо́льшая часть населения вполне готова быть такими, как все, и позитивное скорее видит именно в этом.
Э. П.: Да, это подтверждается и другими исследованиями, например Н. Лапина. По его данным, для двух третей современного российского населения характерен конформизм. Нормативным, «правильным» считается поведение, не выделяющееся из среды, – «быть как все», «не выпячиваться».
Б. Д.: Поэтому возможность позитивного перенаполнения категории «особый», ее исторического переформатирования здесь и сейчас, в наших условиях, мне не кажется реальной.
Л. Г.: Говоря о переформатировании, Борис вводит другое измерение – конкуренции, состязательности, сравнения. Там, где «особый» наполняется смыслами «лучшего качества».
Б. Д.: Это совсем другой угол рассмотрения. Если мы говорим, что все особые, почему бы и России не быть особой, как особая Албания, Германия, США и т. д.? Это меняет весь контекст рассуждений. Потому что значение категории «особый» в публицистике наших фундаменталистов, консерваторов – это, конечно, «один, единственный, неповторимый и лучший». А если мы говорим, что «особый» – это механизм соединения нового и старого, чужого и своего для всех обществ, проходящих процесс модернизации, и в этом плане он особый, но каждый раз конкретный и неповторяющийся, то мы предельно деидеологизируем это понятие, что, естественно, вызывает сопротивление со стороны консерваторов, фундаменталистов и так далее, которые хотят считать слово «особый» не подлежащим универсализации. Ну и маленький комментарий к особости как антимодернизационной идеологии. Я немного мягче стал смотреть на эту проблему. Мне кажется, что это не контрмеханизм, а адаптационный механизм. Механизм смягчения и приведения к уровню возможного для населения, с одной стороны, власти, с другой стороны, и каких-то околовластных групп, с третьей стороны. Иначе говоря, как писал Левада, «все подневольно втягиваются в изменения». От бабушки до ее правнучка. Правнучек просит шоколадку, и хочешь не хочешь оба включены в процессы изменений. Но каждая группа для себя вырабатывает механизм смягчения требований этого самого процесса модернизации, перестройки и т. д. Для власти нужны такие механизмы. Ей удобна в этом смысле идеология «особого пути», потому что она позволяет то, что позволяет: уворачиваться от Запада по логике «не учите нас жить», и бесконтрольно развязывает руки внутри страны, поскольку, дескать, «ситуация экстраординарная». Для массы тоже это удобно потому, что дает возможность не слишком сильно втягиваться в происходящее и не увеличивать требования к себе. Кто-то недавно сказал, что у нас есть единственная национальная идея – Великая Отечественная война. Но я думаю, что есть другая национальная идея. Она состоит в том, что мы особые. Без объяснения, в чем эта особость заключается. Потому что само ценностное наполнение этого понятия состоит в том, что оно не должно быть конкретизировано. Это момент такого преимущества и превосходства, что он не терпит дальнейших интерпретаций. Мы перестаем быть особыми, когда начинаем рассказывать о том, что же, собственно, нас отличает от других.
Э. П.: Мы ведь оцениваем не просто словосочетание «особый путь», а конкретную идеологию, имеющую традицию как в Германии, так и в России, и у этой традиции вполне четкие критерии. Критерии противостояния нескольким элементам. Прогрессу как идее совершенствования, которая вроде бы противостоит некой самобытной духовности. Это идея противопоставления власти народа другому типу политического режима – власти персоны. Авторитаризм выступает в качестве неизменного элемента и германской, и российской традиции «особого пути». В российском же варианте к нему добавляется совершенно очевидная традиция имперскости, на которой сходятся, как это ни парадоксально, и этнонационалисты, и чистые державники. И лишь одна группа – скинхеды (неонацисты, исходящие из идеи white power) – ее не принимает.
Л. Г.: Термин «особый» лишен самостоятельного смысла и наполняется в зависимости от задачи. Мы почти одни и те же цифры получаем при разной формулировке вопроса об особенностях России. «У нас особенное прошлое?» – «Да!» «Русский такой же народ, как все?» – «Да!» И так далее. Шестьдесят–шестьдесят пять процентов устойчиво. Это значит, что эти ценностные радикалы блуждают, не будучи помещенными в силовое поле какой-то идеологии, каких-то интересов власти. Идеология либо включает Россию в общее поле модерна, конкурентных отношений и тогда формирует соответствующие оценки населения, либо исключает Россию из этого конкурентного поля и тем самым работает на интересы самосохранения власти. За «особым путем» стоят не представления населения, а интересы той или иной системы власти, консервирующей всю систему отношений, прежде всего собственные социальные позиции.
Э. П.: Ну не только власти. Я бы сказал, элит.
Л. Г.: Об элите трудно говорить в России. Скорее, речь может идти о некой интеллектуальной обслуге власти. Sonderweg[8]8
Особый путь (нем.) – термин, обозначавший представления о своеобразии исторического развития Германии и ее исторической миссии. Впервые употреблен немецкими консерваторами-империалистами конца XIX века и имевший влияние вплоть до окончания Второй мировой войны. Здесь и далее примеч. ред.
[Закрыть] возник в ситуации фиксации отсталости Германии, немодернизированности, раздробленности, несостоятельности как государства. А у нас он появляется всякий раз, когда встает задача перехода от рывка («догоним – перегоним») – к ситуации консервации положения вещей и возведения защитного барьера по отношению к Западу. В России идеология «особого пути» возникла в 30-х годах XIX века, после Крымской и Русско-японской войн. Потом сталинская идея построения социализма в одной отдельно взятой стране. Следующая фаза – момент краха советской идеологии. И сегодня – опять-таки в ситуации неудачи реформы. Никакой в этом идеи особости снизу нет. Это продукт околовластных кругов.
Б. Д.: Давайте подытожим. Мне кажется важным то, что Эмиль сказал про империю. Так или иначе, за идеологией «особого пути» стоит имперский, великодержавный комплекс. Эта попытка надставить недостающий рост до представлений о себе как великой державе. Особый путь – это те котурны, на которые человек нормального роста встает, чтобы быть повыше. И оказывается, что это для всех очень важно. По «происхождению» это, конечно, элитная, или, лучше сказать, номенклатурная идеология (в России национализм номенклатурный и идеология «особого пути» номенклатурная). Но, видимо, со временем, и сейчас как раз такое время, какие-то остатки этой идеи становятся механизмом согласования между верхами и низами. На каком-то этапе это становится способом закрепления статус-кво, который устраивает всех – и верхи, и низы.
За всеми этими вещами прочитывается соревнование с одной конкретной державой. До поры до времени это была Германия, потом Соединенные Штаты. И в ситуации, когда оседает пыль после битвы, когда начинают разбирать то, что на поле боя, видимо, одним из инструментов согласия является вот эта самая мифологема особого пути. В этом смысле о верности ей две трети населения говорят так же свободно, не задумываясь, как в другом отношении – желая такой же жизни, как у всех на свете (кто же откажется!), – говорят: «Да нет, мы, русские люди, такие же, как все. Мы хотели бы жить, как на Западе. Мы только не хотим работать и отвечать за свои поступки».
Л. Г.: Это и есть структура русской традиции. Я имею в виду организацию исторического, государственного сознания. Все ключевые точки такого сознания связаны с критическими моментами соприкосновения России как неоформленного множества с каким-то универсальным целым. Если по нашим данным смотреть, то первые точки начала истории, те, которые выступали как моменты идентификации, – это Крещение Руси (племенное сознание входит в орбиту крупную, православную, имперскую), Петр I (попытка включить Россию в Европу) и 1917 год. Это реперные точки. Важно, что каждый раз это соприкосновение некой аморфной, неставшей, несозревшей общности с чем-то более высоким, более организованным, более универсальным. Уравняться с ним это аморфное множество может только в форме империи, потому что другой тип организованности здесь не мыслится. Поэтому имперское сознание является здесь эквивалентом универсального целого.
Э. П.: То есть, анализируя общественное мнение, ты приходишь к выводу о том, что все признаки, символы русской идентификации строятся на противопоставлении «нас» некоему «конституирующему иному». Но ведь все общности так складывались?
Б. Д.: В нынешние времена это, конечно, противопоставление империи и демократии. Поэтому демократия «у нас» всегда будет (если будет) «особая», потому что для нас важнее держава. Ну и потом понятно, что демократии (не тогда, когда они формировались в XIX веке, а сегодня) – это же не национальная вещь. А внутри империи еще решается вопрос о том, кто мы – русские, российские, или советские, или вообще всеобщие универсальные, мировые.
В идее того, чему противостоит российское как державное, вот еще какой важный признак скрывается: то, что «они», которым «мы» противостоим как особые, уже «готовые». Их время прошло. А мы еще в пути. У нас все впереди. У нас будущее. И Томас Манн, кстати, так и писал примерно до 1918 года: немецкий юноша, вечный студент, который скитается от страны к стране, ходит по всей Европе, – это же немцы, которые ищут себя. А они-то на Западе все уже давно сложились, они на закате. Отсюда «Закат Европы» и т. д.
Э. П.: Это во всех случаях идеология «виноград зелен». Компенсаторная. В поисках этой компенсации ищется противовес. То есть так или иначе люди, использовавшие эту идеологию, признавали неявно превосходство некоего «конституирующего иного». Более высокий уровень организации, более высокий уровень достижений. И искали в своей особости некую компенсацию. Да, мы отстаем в оружии, проигрываем войны, проигрываем в экономике, но зато у нас есть длинная история, которая у них почему-то уже закончилась, и великая духовность в противовес их унылому прагматизму.
Л. Г.: У Гейне уже это приобретает иронический смысл. Он издевался над этим. В поэме «Германия. Зимняя сказка» он пишет:
Французам и русским подвластна земля,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтательных грез
Немецкая мощь бесспорна.
Здесь в наших руках гегемония; здесь
Мы все нераздельно слились,
Не так, как другие народы, – они
На плоской земле развились.
Б. Д.: Вот что мы еще не сказали. Вернее, сказали, но надо назвать это одним словом. Слово «особый», видимо, надо понимать в рамках данной идеологии как некую аналогию избранного народа. Особый – значит избранный. В этом смысле он лучший, неповторимый. И у него особые отношения. Вот только с чем или с кем? А дальше надо социологически прорабатывать, с чем – с историей, с другими странами, между народом и властью. Кстати, что чаще всего в «особость» закладывает российское население? На наш вопрос: «Когда вы говорите об особом пути, что вы имеете в виду?» – люди в первую очередь указывают на особые отношения между властью и народом. У власти вся власть. Зато она опекает население. Население предается власти, но зато может делать то, что хочет.









































