Текст книги "Еврейская лимита и парижская доброта"
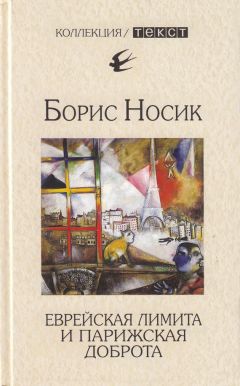
Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Нью-Париж
На счастье Шагала, его собственная комиссарская карьера не удалась и была недолгой, так что он уцелел. В том, что он уцелел, он, скорей всего, не повинен – уцелел чудом, вследствие неудачи (молиться б ему за всех этих Пуни-Малевичей до конца дней!).
Вербуя преподавателей для витебской школы искусства, он пригласил Лисицкого, Пуни, Богуславскую и двух-трех соучеников (конечно, был приглашен и старый добрый И. Пэн, но одного живописца было мало, к тому же бедняга Пэн был «академик»).
Из центра Шагалу прислали в помощь Веру Ермолаеву. Она была на шесть лет моложе Шагала, но уже успела много: окончила гимназию и Археологический институт, писала гуаши в Сибири, на берегах Белого и Баренцева морей, организовала кружок «Бескровное убийство» и выпускала футуристический журнал, создала книгоиздательскую артель «Сегодня», где у нее работали Альтман, Анненков и др. Теперь она возглавила в Витебске художественную мастерскую, замещала Шагала во время его отъездов. Надо напомнить, что расцвет русского авангарда приходится на дореволюционные годы, на 1913–1915, Вера Ермолаева и пришла оттуда… Вскоре она и Лисицкий пригласили в витебскую школу одного из главных лидеров русского авангарда, знаменитого создателя супрематизма Казимира Малевича. Тот согласился поехать в Витебск, потому что в провинции выжить было легче, чем в голодавших столицах.
Конечно, против этого великого теоретика авангарда Шагал не тянул. Шагал был гений, но еще не все знали об этом, а он был нетерпимым, не умел сходиться с людьми. К тому же он был не чета Малевичу: он не был лидером авангарда, теоретиком, педагогом, оратором, он годился лишь для домашней работы перед мольбертом и за столом. В так называемый «витебский период» своего творчества Малевич превращает белорусские Васюки-Витебск в Нью-Париж. В 1920 году он создает там знаменитое объединение УНОВИС (Утвердители нового искусства), первой целью которого было объявлено «утверждение новых форм искусства, под каковыми разумеются кубизм, футуризм и супрематизм». Как видите, есть команда разобраться по группам…
У Малевича были своя педагогическая система и большой опыт преподавания – в Москве и Петрограде. Он был крупный теоретик нового искусства, лихо писал, да и как художник он успел пройти все этапы авангардного искусства, прежде чем пришел к своему «белому квадрату на белом фоне» или даже к «черному квадрату». И конечно, он и его ученики знали все слова, которые положено было (или безопасно было) говорить при военном коммунизме. Можно отметить, что разные группы тогдашнего русского авангарда, не проявляя никакой терпимости и широты взглядов, люто боролись друг против друга, доказывая реввластям, что вот они-то и есть самые революционные, самые левые, партийные и авангардные. При этом они не гнушались, конечно, никакой партийной службы, а левый искусствовед Брик, к примеру, до смерти служил в органах и, в отличие от Пунина, Левидова и многих других, даже не угодил в лагерь. Увы, многие практики, а особенно многие теоретики авангарда «за что боролись, на то и напоролись». В «Энциклопедии авангарда», не так давно вышедшей в нынешнем пуганом Минске, и в той скромно мелькает Вельзевулова дата – 1937. Упокой, Господи, их неистовые души.
Смерть раввинам, война дворцам
В Витебске 1920 года ученики Шагала очень скоро встали на сторону нового лидера-максималиста Малевича и один за другим покинули певца хасидских окраин. Более того, они приняли постановление, чтобы Шагал в 24 часа покинул созданную им школу. Даже десятилетие спустя, когда Шагал стал издавать свою автобиографию, горечь его русских обид еще не выветрилась, хотя уже ясно было, что боевой русский авангард был обречен. Как ни странно, Шагал винит во всех своих неудачах не коллег по левому искусству, а бедную растерзанную Россию… Похоже, он не понял, что предательство и донос становятся в ней условием выживания и успеха. Кстати, в «левом мире» Франции тоже. Арагон без колебаний предал сюрреалистов, а уж предать русских-то «истов», очень скоро объявленных Сталиным «уклонистами» и ставших зэками, ему, «Арагоше», и сам Маркс велел…
Из Витебска изгнанный Шагал уехал с женой и дочерью в Москву, где ему были обещаны заказы в театрах. Он был гений, он был главный; в Москве состоялась выставка художников, членов еврейской Культур-Лиги, Шагал был одним из них. Известные критики А. Эфрос и Я. Тугенхольд уже написали о нем книгу.
Работа над оформлением спектаклей и зрительного зала в Еврейском театре А. Грановского увлекла Шагала, заставила обратиться к своим корням. Вот как писали об этом авторы книги «Бецалель», вышедшей в 1983 году в Иерусалиме:
«Погружение в искусство еврейства Восточной Европы оказалось у еврейских художников настолько глубоким, что у некоторых из них оно даже принимало форму отождествления с анонимными народными мастерами. Красноречивые свидетельства этому можно найти в признании Шагала: “Евреи, если им это по сердцу (мне-то – да!), могут оплакивать, что исчезли те, кто расписывали местечковые деревянные синагоги (почему же я не в одной могиле с вами!), и резчики деревянных “шул-клаперов” – ша! (увидишь их в сборнике Ан-ского – испугаешься!). Но есть ли, собственно, разница между моим изуродованным могилевским предком, расписавшим могилевскую синагогу, и мною, расписавшим еврейский театр (хороший театр) в Москве?.. Я уверен, что, когда я перестану бриться, вы сможете увидеть его точный портрет”».
Многие ценители считают, что панно Шагала для московского театра Грановского было новым блестящим его достижением: он бил супрематистов Малевича на их поле, их средствами… Однако при оформлении спектаклей ему приходилось сражаться с этими ничтожествами-режиссерами, которые свое мнение ценили выше, чем его мнение (все эти Вахтанговы, Грановские, Таировы, жалкие ученики ничтожного Станиславского). Шагал потерпел поражение… На счастье, работы его уцелели в запасниках, но театру они не пригодились, и денег художнику не заплатили…
Наконец ему достался совсем маленький пост – учителя рисования в детдоме сирот в подмосковной Малаховке. Шагал печально описывает в своей повести подробности тогдашнего быта, которые могут ужаснуть западного читателя, но никак не русского: комната для семьи мала, паек приходится тащить в мешке самому, в подмосковном поезде – толчея, вонь…
Ах, Малаховка, березы и сосны, и песочек, и малаховский климат, который считался целебным для хилых городских деток. Я помню Малаховку военных лет, когда там была общемосковская толкучка, вшивый рынок. Помню тихую послевоенную Малаховку, дядиванину дачу, Костю с мопедом, Вадика Сегаля с сыном, Шурочку Суязову, Ирочку Жданову…
Конечно, я видел только мирную Малаховку моих детства и юности, когда социальные бои были уже на исходе. Впрочем, может, они не вовсе забыты. Помню, как почти через полвека после отъезда Шагалов поэт-переводчик Володя Микушевич, постоянно живший в Малаховке, рассказывал мне у стойки (пронзительный голос его звучал на весь буфет Дома литераторов):
– Вчера иду вечером с электрички, стоят трое. Один сказал: «Сегодня будем бить икроедов». Другой ему говорит: «Этого не надо бить. Это наш. Володька-шизик…».
Впрочем, Шагал и этой широты бы не оценил. Его витебскую душу ни подмосковная глушь, ни малаховская мансарда, ни березки не затронули: он уже сформировался к тому времени как гений и автор «России с ослами». Конечно же, ему нужно было срочно бежать на Запад, кто мог усомниться в этом, кроме французских коммунистов, вроде Жоржа Садуля. Сам народный комиссар Луначарский в этом не усомнился. Он отпустил Шагала с семьей (и даже с двумя десятками картин) на выставку в Каунасе, может, специально для этого бегства и устроенную литовским послом, поэтом Юргисом Балтрушайтисом. Луначарскому понятно было, что Шагал с выставки не вернется, и Шагал, естественно, бежал из Каунаса в Берлин. Отчего-то он все же стеснялся этого столь естественного желания сбежать на свободу – сбежать и увезти семью от опасности, от голода, холода, насилия, смерти в лагерях и подвалах НКВД (той, что позднее настигла и Веру Ермолаеву, и многих других лидеров авангарда). Причем убежать с комфортом, без опасности, не ночью, не по льду Финского залива, как бежали из Петрограда другие художники… И все же он без конца объясняет в своей малодостоверной повести, что уехал лишь оттого, что его не оценили, не поняли коллеги, заняли его комиссарское место (а позднее и его место на нарах или у стенки в подвале), так что лучше ему, наверное, жить в Париже… Но может, он все же стеснялся того, что не выполнил своих комиссарских обещаний о лучшей жизни. Или просто ему неловко было перед парижской интеллигенцией, которая в ту пору толпой валила к коммунистам. Вот ведь и акробата-фокусника Ленина со своей единственной политической картины («Революция»), написанной в 30-е годы, Шагал позднее убрал, заменив Ильича ни в чем не повинным Христом (известный ход, уже опробованный А. Блоком). Опасался. Чего же? Понять можно. Его и жены Беллы знакомые и родственники остались в России, ходили под богом. (В 30-м уже исчез брат Беллы, исчез муж ее сестры, и даже безобидный учитель Шагала И. Пэн умер именно в 1937-м.) А все же надо отдать Шагалу должное: ни сусальных портретов Ленина-Сталина, ни коминтерновских «голубков мира» он, в отличие от Пикассо и Леже, никогда не писал. Даже террор, его вдохновителей и славное ГПУ не воспевал – в отличие от Арагона, Элюара и прочих друзей из парижского бомонда…
После гостеприимной Германии Шагалы приехали в Париж. Там к художнику очень скоро пришли слава, богатство, заказы книгоиздателей, выставки, роспись самых знаменитых помещений, витражи, керамика, гравюры… И картины, картины, картины, на которых доминируют сцены из Библии и цирковая арена. Еще шестьдесят с лишним лет успеха и славы. Библейский музей в Ницце… Великий Шагал…
В годы немецкой оккупации семье Шагала пришлось бежать в США. Отважный Вэриан Фрей, посланный американскими благодетелями и знаменитым Комитетом спасения в Марсель для сбережения французской культуры и ее звезд, сумел с помощью американского консула спасти от смерти и вывезти в США многих французских гениев: еще один солидный кирпич в стену французской ненависти ко всему американскому (опять они нас спасают, да что, мы сами не можем, что, у нас нет Виши и полиции?..).
За океаном, как в Витебске
Прожив семь лет в Америке, Шагал так и не заговорил по-английски, хотя после смерти Беллы в 1944 году подругой его стала американка Вирджиния О’Нейл-Хэггард, родившая ему сына. Шагал говорил в США по-французски, по-русски, а еще чаще – на языке идиш. Среди его новых собеседников, помнивших этот язык, были знаменитый историк-медиевист, писатель, скульптор, искусствовед. Окраина Витебска и родное местечко проступали теперь в памяти Шагала, как «книга, повернутая лицом к Богу». Это последнее сравнение придумал не Шагал, а человек, который приплыл из Франции в США чуть раньше его и в поисках работы взялся в соавторстве с американским этнографом за солидную книгу о восточноевропейском местечке (штетл). В Париже человек этот, беженец с Украины Марк Зборовский, был агентом НКВД, где он трудился под кличкой «Тюльпан». Представ позднее перед комиссией Маккарти, он рассказал, как сумел снискать доверие Троцкого и его сына, как похитил архив Троцкого из музея и т. п. Его хотели присудить к году тюремной отсидки, но поклонники книги о штетлах взяли его на поруки…
Много-много чудных лет
Вернувшись в 1948 году во Францию, Шагал поселился сперва в Оржевале, потом на Лазурном берегу Франции. Там-то шестидесятипятилетний художник и встретил свою новую супругу, уроженку Киева Валентину Бродскую (по семейному Baby), вместе с которой он счастливо прожил на Ривьере еще тридцать три года в неустанных трудах.
Мой приятель-скульптор Алексей Оболенский, живущий в Ницце, рассказывал мне, как вместе с гостившей у него знаменитой московской поэтессой, звездой русских 60-х годов, он навестил девяностолетнего Шагала в его мастерской в Сен-Поль-де-Вансе. Автоматическое кресло поднимало старенького художника под потолок и перемещало перед огромным холстом, и он все писал, писал, писал по эскизу. Картина, еще картина, еще. И в девяносто три года, и в девяносто пять…
(Это были самые дорогостоящие картины на свете. Не слишком, впрочем, отличные от тех, что были написаны двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят лет назад. – Б. Н.)
Московская красавица-поэтесса захотела прочитать великому художнику свои стихи о Мандельштаме. Он даже мог бы лично знать нашего дерзкого Мандельштама, еще в тогдашней России. В 30-е годы Мандельштам погиб в ГУЛАГе… К тому же Мандельштам был тоже еврей…
Зазвучал в ателье чудный, ломкий голос поэтессы (да уж, стихи Ахмадуллиной – это тебе не Сандрар, это музыка. – Б. Н.). Голос звучал, переливался, прерывался, потом захлебнулся, смолк… В ателье воцарилась тишина. Девяностолетний гений понял, что он должен сказать что-нибудь ободряющее, что-нибудь гениальное… И он сказал с присущей ему шагаловской простотой и честностью:
– Что я понял? Я понял, что Вы очень волнуетесь…
Не много сказал, но точно.
Может, Шагал вспомнил при этом, как, едва научившись говорить по-русски, он написал русские стихи, хотел показать их Блоку, но не решился. Семьдесят лет тому назад. В 1907-м…
Еще минуту спустя он вспомнил, что работа ждет, и тогда чудо-кресло вознесло его под потолок, к холсту…
Он дожил до девяноста восьми лет и был похоронен в прелестном Сен-Поль-де-Вансе, над долиной, лимонными и оливковыми рощами, над виллами, бассейнами, загорелыми наядами… Группы туристов толкутся у ограды маленького горного кладбища, часто слышна русская речь. Я сам слышал…
– Гляди, Вась, и Бродский с ними. Иосиф Бродский. Чего это он?
– Они любят, чтоб все вместе… У них так… – объяснил почтенный Вася.
Еще один И. Бродский нашелся. Какой-нибудь Вавин родственник…
Улей, улей… Когда ж это было?
Когда парижские власти надумали ломать ротонду «Улья», художники взбунтовались. Они создали комитет по спасению «Улья», почетным председателем которого попросили быть Шагала. Он приехал в Данцигский проезд, постоял у старинной полузабытой ротонды, собравшейся пережить его самого…
Стоял, смотрел на окна, вспоминал, где кто жил из тех, невеликих… Фотографы роились вокруг него, щелкая затворами… О чем думал старый художник? Может, удивлялся тому, что можно было жить в таких тяжелых жилищных условиях…
О чем он думал? Как нам угадать? Я-то, глядя на эти окна, вспоминаю красотку-художницу, которая родилась и выросла в «Улье», вышла замуж за красавца-художника, поселилась сперва в бывшей студии Шагала, потом в бывшей студии Сутина, ждала рождения детей и золотоносных шедевров. Детей родила…
О чем думал старый художник? Мне ни в жисть не догадаться. В поисках догадки звоню парижскому соседу-художнику, иду в гости. Самый ближний из моих соседей-художников – Макар, Володя Макаренко. Мне он симпатичен уже тем, что учился в России, что родился на Украине. Симпатия к Украине – это на всю жизнь: я родился в тот год, когда у великого мясника закружилась головка от крови, пролитой на Украине. Он даже объявил об этом своим подручным: «Головокружение от успехов»…
Макар рассказывает истории о художниках, о студенческих годах, о том о сем. Я слушаю рассеянно. Красивая, интеллигентная жена Макара Виктория (а как еще могут звать интеллигентную женщину?) подает очень грамотные реплики. Я слушаю рассеянно – при чем тут Мухинское училище, знаменитая «Муха»? И вдруг до меня доходит, что это все про «Улей», про скопище непризнанных (еще не признанных) гениев.
А Макар увлекся рассказом, и умница Вика наливает ему еще рюмочку, и еще…
– Вот послухай. Сижу я у себя вечером в трущобе. Стучит друг Гена: «Выпить ничего нет?» – «Ни грамма. И денег ни копейки…» Гена смотрит: «Работал сегодня?» – «Писал немножко…» Но все картины к стене повернуты. «Ну давай хоть чайку попьем. Ставь чайник…» Возвращаюсь из кухни, он уже повернул и разглядывает, что я сделал сегодня. И старые от стены повернул. Ну, пошли, говорю, к тебе чай пить. Пришли – посылаю его ставить чай. Мне тоже любопытно. Но все к стене повернуто. Я отвернул, поглядел. Ого, что-то новое. Откуда ветер дует? Поглядел на столе – новые вырезки из журналов: Дали, Пикассо. А это еще что? Поллок… Из Америки… Попили чайку, пошли к Васе. Та же история…
Я слушаю и мне вспоминается юность, моя квартирка в Рублеве, дружба с молодыми художниками, их открытия, так украсившие детские книжки в «Детгизе». Иногда по большой дружбе Витя показывал мне их заграничные находки, вдохновившие их московские находки. Беды в этом не было. Чтоб вдохновиться чужими находками и их переварить, тоже нужен талант. Может, и не гений первооткрывателя, но все же талант искателя, открывателя. Однако уж свое готовое все же лучше повернуть лицом к стене в общаге…
Мне вспоминаются читанные мной многочисленные истории о жизни героев «Улья». Пишут о «скрытности» Шагала, о старом Кремене, не забывавшем все полотна повернуть к стене, о Сутине, не выносившем, чтоб видели даже, как он глядит (и не только на свою картину глядит, но и на музейную стену, на Рембрандта…). А Шагал уже тогда понял свое выигрышное амплуа певца экзотического «штетла», открывателя неведомого хасидского Витебска, «таинственной России», демонстрирующей миру кипение страстей… Зачем же он станет показывать работы парням из настоящего «штетла»?.. Вот Сандрару с Аполлинером можно…
Но тогда, вероятно, и жить по соседству не совсем удобно. Нет, не совсем. Они ведь и съезжали из «Улья» при первой возможности – не только умеренно бедные, вроде Шагала и Цадкина, но и бедный Кремень, даже и обремененный семьей Кикоин съехал в 1927-м (а мальчонка-то его Жак-Янкель, рожденный в «Улье», всю молодую жизнь тосковал о покинутом рае, как тоскуют все эмигранты об оставленной стране детства). Да и вспоминало большинство из них позднее о брошенном «Улье» без особой нежности, особенно те, что побогаче, – как Шагал, Цадкин…
И вот теперь решили ломать «Улей», а художники позвали Шагала. Вот он стоит, смотрит на окна уцелевшей ротонды, старый, очень знаменитый и очень богатый Марк Шагал.
Все же странно, что он не упомянул в своей мемуарной повести никого из русских, живших с ним рядом. С другой стороны, он ведь писал о своей жизни, а в его жизни эти люди не играли никакой роли. Кроме того, ни один из них не достоин упоминания. Ни один из них не был гением. Так чего ж рассказывать?
Но я-то и о них расскажу, потому что каждый из них считал себя гением: как иначе выжить художнику? А может, каждый и был гением – рано решать, еще не вечер…
Много-много гениев
Иногда днем или ночью из открытого окна ротонды былого винного павильона доносился торжествующий крик:
– Гениально! Ура! Я гений! Я гений!
Чаще всего это был голос Сэма Грановского по кличке «Ковбой» или, если верить свояченице Воловика, по кличке «Грано». Конечно, дома, в былом Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске) и потом в одесской «художке», его звали не Ковбой, не Грано и даже не Сэм, а просто Хаим, но раз человеку хотелось быть Сэмом, носить на Монпарнасе ковбойскую шляпу и сапоги, кто мог запретить ему это в свободном Париже. Он уже и с Великой войны вернулся отчего-то в галифе жандарма. Потом слонялся по Америке, ездил на заработки, снимался в вестерне – не разбогател… А потом вот ходил по Монпарнасу в ковбойской шляпе, в кожаных штанах, с лассо на поясе, словно там не шлюхи бродили по Монпарнасу, а необъезженные кобылы или мустанги…
А в общем, он был неплохой парень, этот Сэм, и ничуть не дурнее, чем его вполне в ту пору просоветские друзья-авангардисты, борцы за советский авангард – и те, что были из парижского Союза русских художников, и те, что были из группы «Через», на заседания которой ходили вместе с ним из «Улья» и Лазарь Воловик, и Хаим Сутин, и Пинхус Кремень, и еще многие…
Союз русских художников во Франции основан был в 1920 году, о создании же группы «Через» объявлено было в ноябре 1922-го на банкете в честь Маяковского, где присутствовало много русских и французских авангардистов. Создателями группы «Через» были Илья Зданевич и Сергей Ромов. Последний и объяснял в своем журнале «Удар», что целью группы является создание тесной связи с молодыми французскими и советскими поэтами и художниками. («Через географические, культурные и языковые барьеры группа должна была донести до французов достижения русского авангарда…» – так объясняет название группы историк Л. Ливак.) Так вот, Маяковского как раз и посылали в Париж для укрепления упомянутых связей – чтоб он наглядно демонстрировал зарубежным коллегам процветание авангардного искусства в Советской России и вообще всяческое процветание и «достижения». Тогда-то Сэму Грановскому и посчастливилось написать портрет самого Маяковского.
В 1925 году в Союзе русских художников произошел раскол в связи с принятием резолюции о лояльности к советской власти, и ту часть Союза, которая была за лояльность и неустанную пропаганду советского искусства во Франции, возглавил авангардист Илья Зданевич (Ильязд). Сэм Грановский делал обложку для книги Зданевича «Лидантю фарам» (Ле Дантю был друг Зданевича, левый авангардист), а вместе с Соней Делоне и Виктором Бартом оформлял благотворительную постановку дадаистской пьесы Тристана Тцара «Воздушное сердце». Вообще, он был человек деятельный, бедный Сэм, и наверняка успел бы доказать (если не между войнами, то после новой войны), что он гений, если б французская полиция не свезла его летом 1942 года в концлагерь, где он и погиб пятидесяти с небольшим лет от роду. Но французской полиции, ей, как и гестапо, с которым она душевно сотрудничала, было все равно, какие у тебя художественные планы: с них спрашивали план по евреям, а Сэм, он хотя и был истинный ковбой, согласно отметке в паспорте был как раз тот самый, каких надо было жечь. Их сгорело в лагерных печах больше восьми десятков художников с Монпарнаса (точнее восемьдесят два)…
Несмотря на всю его лихорадочную деятельность, мало что от него осталось потомству, от ковбоя Сэма, только вот историки Парижской школы дружно вспоминают, что очень был колоритный тип, этот днепропетровский ковбой из Данцигского проезда Сэм (Хаим) Грановский.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































