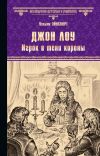Текст книги "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт"

Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
– Благодарю.
– За что же, Полин? За то, что не уследил за вами?
– Думаете, вас благодарю? – вдруг тихо сказала она. – Нет. Судьбу благодарю, что встретила вас.
Очень это серьезно, что ли, прозвучало, и я, признаться, растерялся. Молча подвел к иноходцу (или – иноходке, как там по-русски полагается?..), молча усадил в седло. Она невесома была, как пушинка с одуванчика…
Записываю не ежедень, кусками, воспоминаниями… Нет, событиями время отмечая.
Вечерами мы тоже были вместе. Точнее, от старших отдельно, и на эту нашу отделенность никто из них вроде бы и внимания не обращал. Полководцы в отставке с орденоносными мундирами былые сражения вспоминали, взаимообидчиво споря порою, а матроны о чем-то уютно-семейном меж собою толковали, весьма даже согласно и миролюбиво. И нам предоставлялась полная возможность говорить, о чем душам нашим угодно тогда было.
– …Вы помянули о терпении, Полин? Терпение – наследие плоти нашей. Ожидание, когда пройдет боль, например.
– Вы говорите о телесном терпении и в этом – правы. Но я имела в виду терпение души человеческой. Ждать терпеливо, не когда что-либо пройдет, а когда – придет. Терпеть и верить, что наступит час откровения души…
– Признайтесь, вы тайно пишете стихи.
– Грешна ли? – Полин улыбается. – Но – в мечтах, не на бумаге. Проговариваю их себе самой, когда есть что проговаривать.
– Проговорите что-нибудь вслух. Для меня.
– Когда-нибудь… – Улыбка начинает таять, таять и исчезает окончательно. – Но – нет-нет-нет.
– Почему же «нет-нет-нет»? Вы не похожи на ломаку.
– Я – не медовый пряник. Увы.
Сознаюсь, я не очень ее понимал порою, а может быть, просто не решался понять. За три дня наших ежедневных прогулок Полин менялась на моих глазах. В ней исчезала непосредственность, но посредственностью она быть уже не умела или просто не желала и – странно замыкалась. Словно никак не могла решиться на какой-то уже внутренне решенный ею шаг и – съеживалась, ненавидя саму себя за эту нерешительность.
Возможно, что она ожидала встречного шага от меня. Ну, не шага – движения, слова, какого-то взгляда, наконец. Но я был древесно молчалив, гладок и вполне предсказуем, как хорошо обтесанное бревно, и зацепиться ей, бедняжке, было не за что.
В тот вечер, не без горечи объявив себя «не медовым пряником», Полин оборвала разговор и быстро ушла, сославшись на усталость. Я помыкался вокруг стариков, бездарно проиграл генералу партию в шахматы и тоже отправился спать.
Утром она встретила меня куда как непринужденнее, нежели я – ее. Шутила, улыбалась, болтала ни о чем, что, в общем-то, ей было несвойственно. А когда нам подали лошадей и я посадил ее в седло, объявила:
– Сегодня я скачу впереди, а вы следуете за мной.
И полуверсты так не проскакали, когда я сообразил, что она ведет меня прямиком к графскому особняку. До сей поры я старательно объезжал его стороной, но, кажется, именно моя нарочитая старательность и подвигла ее командовать сегодня нашим выездом. Дороги она не знала, но направление выдерживала вполне осознанно, и я сообразил, что она дотошно расспросила, где именно находится покинутое графское логово.
Относительно того, что оно покинуто косноязычным Засядским, я не сомневался: мне как-то сказал об этом Савка. Непредвиденных встреч быть не могло, ничто, казалось бы, не должно было меня тревожить, а поди ж ты, я почему-то заволновался.
…Тогда не понял причины сего, но сейчас разобрался: я не хотел возвращать никаких воспоминаний. А уж тем паче – призрачных…
Но то, что для меня представлялось призрачным, Полин воспринимала, видимо, вполне реально. Для нее прошлое оставалось живым, а для меня – мертвым, а мертвое взывает к молчанию, и я молчал.
У Полин – душа удивительной глубины, и никакие внешние изменения ее замутить не способны. Она сразу же поняла причину моей замкнутости на все засовы, а потому молчала тоже. И не просто прикусила язычок, но примолкла с уважительным пониманием, как то случается на кладбищах у совсем, казалось бы, посторонних могил.
Спешились, едва ворота проехав. Заколоченный дом всегда вызывает грусть. Не знаю, у всех ли, но у меня – вызывает. Даже шагать стараюсь бесшумно…
…Девочка с бабушкиными кружевами. Мечтающая, чтобы детки ее прикрывали лоб ладошкой, коли уж очень захочется им сказать не всю правду маменьке…
Не успел подумать, как Полин тут же бросила на меня настороженный взгляд. Нет, не настороженный – горький, все понимающий. Свернула неожиданно в заросший сад, и мы вышли к прудам. Темным, осенним, с притопленными кувшинками и печально задернутым дырявым покрывалом опавшей листвы. И не было больше белых лебедей.
– Улетели. – Я не удержался от вздоха.
– Не было их. – В голосе Полин слышался напряженный звон. – Не было, не было. Взлелеянное прошлое превращается в сказку, но сказками живут только дети. Опомнитесь, Александр, опомнитесь!
– Опомниться?
Глупо спросил. И улыбнулся глупо.
– Эклеры съедены и блюдо утоплено…
– Долго же вам пришлось сидеть в кустах, – усмехнулся я.
– Я всю жизнь сижу в этих кустах! – вдруг выкрикнула Полин. – Всю жизнь, когда же вы наконец уразумеете это, деревянный вы человек!..
Кажется, я начал что-то соображать. Посмотрел на нее… И Полин не отвела глаз. Смотрела в упор, и взгляд сверкал решимостью. Будто дошла она до края и сейчас готова была шагнуть за него, куда бы тот край ни обрывался.
– Я не могу приклеить мушку посреди лба, ну не могу! А вот блюдо ваше бесценное достать – могу! Чтобы вы еще раз убедились, что пирожные детства – съедены. Навсегда съедены! И не воскреснут больше, не воскреснут!..
Слезы тут из глаз ее брызнули, и она побежала. Побежала куда-то – не к лошадям, не к особняку: куда-то побежала. Как бегут от самой себя…
И упала, споткнувшись. Беспощадно как-то упала, что ли. Я бросился к ней: она лежала ничком, плечи тряслись, и не рыдания – вой какой-то последний из нее вырывался…
– Что с тобой, Полиночка? Что с тобой?..
Хотел повернуть ее – не давалась. Билась изо всех сил, как птица билась, и сердечко ее стучало на всю округу. Но я все же повернул ее, к себе прижал, целовал зареванное, слезами залитое лицо, щеки, губы…
– Прости меня. Прости, прости…
Возвращались рядышком, рука об руку, и лошадки наши шагали согласно. Полин улыбалась, и глазки ее сияли, но в улыбке было… некое ожидание, что ли. Скорее тень мучительно долгого, изнурительного ожидания и робкая надежда, что оно вот-вот может закончиться, навсегда душу ее покинув.
Не выдержал я этого и сказал:
– Мы войдем, возьмемся за руки и встанем на колени.
– Может быть, лучше вечером?
– Нет, сейчас. Ты же такая решительная, Полиночка.
– Я такая счастливая… – Она улыбнулась. – Такая счастливая, что мне страшно. Мне страшно счастливым страхом, Саша…
Вошли и встали на колени, держась за руки. И я сказал:
– Благословите нас, родные наши.
Матушка с бабушкой расплакались, целовать кинулись жениха с невестой. Генерал слезу смахнул, а мой бригадир бакенбарды свои расправил. Одной рукой почему-то. Как кот лапой.
А тем же вечером сказал мне с глазу на глаз:
– Ты ведь не влюблен еще.
– Я люблю Полин, батюшка.
– Любишь, спорить не стану. Но любишь – без влюбленности. А она в тебя влюблена по уши.
– Тонкости, батюшка.
– Тонкости? Ну-ну… – Бригадир похмурился, бровями поерзал. – Слово, девице данное, есть слово чести. Назад его не берут. Немыслимо сие. Немыслимо.
– Вы сомневаетесь в моей чести?
– В счастье, а не чести, – вздохнул мой старик. Засим подходит ко мне и берет в ладони мою голову. Как в детстве только делал.
– Благословляю и рад за тебя.
Неожиданно целует не куда-нибудь, а – в шрам от графской пули, седым волосом заросший. И шепчет на ухо:
– Вот где печать любви твоей…
Свадьба в наши времена была событием наиважнейшим, а потому и неспешным. Право решать, когда, где и как именно произойдет сие событие, принадлежало дамам, и я выехал наутро в одиночестве. Не скажу, что мне было невесело, но и грустно тоже не было, хотя и понимал я, что шаг мною уже сделан. И куда бы он ни привел, возврата уже не могло быть даже в мыслях моих.
Ни о чем я не думал да и вокруг ничего не замечал. Отдал поводья Лулу, и она сама выбирала не только аллюр, но и задумчивость общего нашего пути. Я был – она, а она – я, а кентавры не знают ни удил, ни поводьев.
А вокруг нас лежала поникшая осень. Не мокро-слезливая, с бесконечными нудными дождями, а какая-то вялая, отсыревшая, что ли. И – беззвучная, точно замершая на самой грани прощания между теплом и холодом…
Дамы наши, все продумав и обсудив, донесли свое решение генералитету, который привычно выдал его за свое:
– Свадьбе быть после Рождества Христова.
Через день мы как-то поспешно разъехались. Полиночка с бабушкой и дедушкой – сначала к себе, в имение, а оттуда – прямо в Петербург. Готовиться, наряды шить да дни до свадьбы считать. А я – во Псков. Служить и ждать.
Октябрь
Говоря откровенно, нелегко мне было вновь пред солдатскими глазами предстать после столь длительного отсутствия. Но я все причины доложил с полной искренностью, на которую только был способен. Даже седой клок волос у виска показал им: не каждая, мол, пуля насмерть убивает.
– Штык надежнее, ребята. Но в пехоте я еще не служил, а потому очень прошу научить меня всем хитростям пехотным, и особенно – штыковому бою.
Никогда еще доселе я столь ревностно к службе не относился. То ли легкомыслием молодости до краев переполнен был, то ли радостью жизни, то ли самонадеянностью, что ли. А тут – и сам себе не верю, что со мною стряслось.
Вставал еще до общей побудки, на квартиру уходил после общего отбоя и весь день проводил со своими солдатами. Учил их без окриков и угроз тому, чему обязан был учить как командир роты, и сам учился до седьмого пота у бывалых, в смертельном деле себя проверивших седоусых старослужащих как солдат. Особенностям пехотного мира и пехотной войны и – с особым усердием – штыковому бою. И старался не только потому, что батюшка так посоветовал, но потому еще, что искренне хотел не просто командовать ротою, но и сдружиться с нею. Может быть, не сдружиться – это уж чересчур сильно я выразился, – а стать в ней старшим вопреки собственному возрасту, поскольку по годам я еле-еле с новобранцами тогда сравнялся.
Уставал поначалу, что уж там. Солдатчина не просто трудна, солдатчина всей жизни твоей требует. Сил, веры, надежд, упорства, настойчивости, терпения, смекалки и непременно – веселого расположения духа. Иначе до воли не дотянешь. В прямом смысле воли: солдат вольным человеком службу воинскую покидает, на благо Отечества потрудившись и лишь ему да Государю отныне принадлежа.
Вот это я своим солдатам и втолковывал. Каждый день. Перед строем и на вечерних беседах. Коли честно служить будете, так вольными людьми в деревни свои вернетесь. Свободными и грамотными к тому же. И жениться еще успеете, и детей нарожать, и дети ваши тоже навсегда свободными будут.
Зима
Вот так и осень закончилась, и зима началась. И едва началась она, как разбудил меня денщик мой в неурочный час. Среди вьюжной и морозной декабрьской ночи.
– Ваше благородие, в штаб требуют.
– Кто?
– Не могу знать. Вестового прислали.
Примчался в штаб, а там уж – почти все офицеры. Никто ничего не знает, так с незнанием и ввалились к командиру полка.
– Господа офицеры, поднимайте солдат по тревоге и держите в полной готовности.
– Война, господин полковник?
– Гвардейский мятеж на Сенатской площади.
К счастью, для полка нашего все обошлось: без нас Санкт-Петербург с мятежниками справился. А для меня – не совсем. С батюшкой от всех этих государственных передряг удар приключился. Матушка депешу прислала о внезапной болезни его, и командир на неделю отпустил меня домой.
…Судьба ли, природа ли или сам Господь Бог сдает каждому его карты на всю жизнь ровно один раз. У кого – сплошные онеры в козырях, у кого – тузы, а у кого и одни фоски – это уж как кому повезет. Но большинство почему-то всю жизнь так и живет с теми картами, что при рождении выпали. Стонут, жалуются, кряхтят, просят пересдать заново. А нет бы подумать об изменении судьбы собственной. Да, карты сданы, но – для игры, для азарта, для способностей и куража вашего. Так разберитесь в них и смело играйте по тем правилам, которые сама жизнь вам предлагает! Она – ваш соперник отныне, и тут уж – кто кого. В жизненной игре и сброс предусмотрен, и прикуп, и козыри, и ходы ваши: так дерзайте же, не ждите милостей. Берите игру на себя и – по банку! Это я написал, то разумея, что обстоятельства жизни меняются и мы обязаны меняться вместе с ними, иначе из игры вылетим. И люто начнем завидовать тем, кто куши с банка снимает, а то и весь банк. Что, завистников, коим и тридцати еще не исполнилось, не встречали? Встречали, поди, – глазки их выдают.
Это я к тому, что в том декабре двадцать пятого я еще не собственной колодой играл. Почему, как и большинство, не одобрял событий на Сенатской площади. Мятежников с претензиями в них видел, а не рыцарских героев российской истории. Без всякого стыда в этом признаюсь, потому что искренность чести не в упрек.
Но что-то, вероятно, в глубине души моей шевелилось. Что-то мне непонятное и как бы даже неощущаемое. Предчувствие?.. Нет, что-то похитрее. Что-то из памяти предков моих, дружинников княжеских, не забывавших перед тяжкой битвой сунуть за голенище мужицкий засапожный нож…
Иначе как объяснить, почему я решил вдруг, к занемогшему батюшке в Петербург направляясь, сунуть в дорожный чемодан пушкинские стихи о французском поэте Андрее Шенье?..
Да, в Санкт-Петербург: на зиму дворянство в столичные дома переселялось из всех своих Опенок да Антоновок. А тут еще и свадьба на носу. И бригадир мой, по счастью, оказался в столице, где и воспринял декабрьское противостояние в виде личного удара. Но и врачи вовремя, и кровь сброшена, и пьявки к затылку, и матушка моя – рядом днем и ночью.
Когда я на курьерских примчался, ему уже полегчало. И усмешка вернулась, и брови по лбу обычным путем уже перемещались, и речь на своем месте. Только, правда, еще короче теперь стала:
– Вот они, Раевские твои.
Лежал он еще в постели: и откуда терпение нашлось? И читать в мыслях моих, к удивлению, не разучился.
– Любовь не только совместное ложе, жених, но и совместное лобное место.
Женихом он меня скорее в насмешку обозвал, поскольку свадьбу отложили до лучших времен: до полного выздоровления так некстати пострадавшего батюшки.
Генерал навещал старика моего ежедень, а Прасковья Васильевна от матушки всю первую, решающую, неделю вообще не отходила. Но невесте, Полиночке моей, бригадир решительно, языком, еще коснеющим, запретил пред глазами его мельтешить, почему я и поехал к ней уже в следующий вечер. И собираясь на свидание то, достал из дорожного чемодана подаренные мне Александром Сергеевичем стихи об Андрее Шенье и захватил их с собою.
И – опять загадка: почему я именно тогда вокруг этих строф закружил? До того времени лежали они и лежали, да и не вспоминал я о них, признаться. Тоска меня заедала, я в прогулках да разговорах с милой девицей топить ее пытался, но закончилось все обозначенной свадьбой как-то, признаться, уж совершенно для меня неожиданно. И мысли вокруг женитьбы завертелись, вокруг будущей семейной жизни… А тут после разгрома восстания на Сенатской площади, после того, как отца удар хватил, после переноса собственной свадьбы на срок неопределенный – ну будто заколдовало меня на «Андрее Шенье».
Правда, тогда я просто себе все объяснял. Мол, с Полиночкой давно не виделся, а она так стихи любит. И так огорчается, что свадьбу нашу перенесли.
И ей будет приятно внимание мое. Потому с того и начал, что протянул ей исписанные пушкинским почерком странички. Но она неожиданно отложила их и глянула на меня:
– Как ты провел день четырнадцатого декабря?
– В полупоходе. Приказано было в полной боевой выкладке дальнейших распоряжений ждать.
– Я не о том, Саша. Это – как бы снаружи. А в душе твоей что творилось?
Не понравился мне тогда вопрос ее. Вам ведь тоже не нравится, когда на мозоль наступают.
– Злился, что выспаться не дали.
– И со злости мог приказать роте стрелять по своим?
– Присяга есть слово чести.
Я нахмурился и замолчал. Полиночка грустно улыбнулась и начала про себя читать строфы «Андрея Шенье». Думаю, щадила меня, давая время подумать и успокоиться.
…Стрелять по своим? Признаться, в такой телескоп я собственную душу тогда не рассматривал. Я был офицером, видел себя офицером и ощущал себя только им. А у офицера собственная душа муштрой и учением на второе место задвинута: на первом у нее – Государь и отечество, заботы, с ними связанные, а главное – защита и незыблемость. Офицерский корпус – цемент, блоки государственные скрепляющий. А душа собственная – так, для личного пользования, что ли. Для милых дев, дружеских попоек, карточного азарта, любимых лошадей да дуэльных барьеров, коли зацепит ее кто хоть из расчета, хоть ненароком.
И все.
Все?..
– Он задолго все знал, – вдруг с глубоким вздохом сказала Полин. – Он предвидел, он все предвидел.
– Кто предвидел?
– Пушкин.
Мне было как-то недосуг разгадывать ее намеки. Я о своей, всем воспитанием искусно раздвоенной душе думал и ужасался, до чего же незаметно из нас механизмы делают, ежедневной муштрою все человеческое вытаптывая из сердец наших.
– Слушай, – сказала Полин. И начала негромко читать:
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли…
– Пушкин, – сказал я весьма туповато. – Так это же когда им написано…
– В этом все и дело, Саша, – озабоченно вздохнула моя Полиночка. – Сейчас лилипуты такими канатами его повяжут… Не его даже – гений его повяжут.
– Так когда же это написано!..
Я повторил с прежней тупостью, но в чем-то все же заколебался, что ли. Не с прежней уверенностью повторил.
– Знаешь, как должны называться эти стихи? – вдруг тихо сказала она. – Знаешь как?..
Вскочила, бросилась к бюро и чуть скошенным почерком написала вверху, над пушкинскими, рукой его написанными строфами:
«НА 14 ДЕКАБРЯ».
И я… как-то опомнился, что ли. Из души моей гремящий офицер вдруг словно выскочил. Освободилась она от него. От всех уставов и наставлений, приказов и повелений. А главное, привычек, честь твою личную зачастую подменяющих. И я освободился вместе с нею. И как бы прозрел.
– Все понял, Полиночка. Все понял я. Для чиновников время есть, а для поэта – нет. Он выше времени и зорче его…
И как же я был благодарен за момент прозрения своего! Она же в человеческий облик душу мою вернула, из армейского мундира ее вытряхнув. В объятьях ее сжал, целовал, целовал…
Туман потом. Только шепот ее помню:
– А зачем нам свадьбы ждать, Сашенька мой?..
И мы не стали ждать венчанья…
Четыре дня спустя
Четыре дня спустя я возвращался в полк уже на перекладных. С «Андреем Шенье» в кармане и надсадной болью в душе. И места себе не находил от боли этой.
…Я изменил тоске своей. Не любви, нет, – любовь как была в ларце на дне сердца моего, так и осталась. Но не охранял ее больше свирепый и неподкупный цепной пес – тоска моя. Потерял я на нее право, перестал властвовать над нею и – предал оборону любви своей. За диванные ласки, за минутный взрыв страсти предал я свою Аничку, право потеряв на последнюю чистоту…
Спросите: а как же Настюхи, Варюхи, Машеньки, Глашеньки? Да просто другого круга коловращения эти. Не Аничкиного. А здесь – Аничкиного. Кузина любви моей в жарких объятьях моих была…
Помнится, пил я неуемно. В дороге пил, во всех встречных и поперечных трактирах, а на станциях – с особенным неистовством почему-то. Ожог души пытался остудить…
– Ваше благородие, банчок не желаете-с?
Смотритель спрашивает весьма вкрадчиво.
– Чего тебе?
– Лошадок долго ждать, а в тихой половине офицер банчок предлагает. Мирно и покойно время скоротаете.
– Банчок так банчок.
Вхожу, тоску свою волоча. Вижу: поручик конно-пионерского полка. Приятной обходительности.
– Куда поспешаете?
– Во Псков.
– Вам – на юг, мне – на север, – улыбнулся этот коннопионер. – Удобно метать, не правда ли?
– Да хоть сверху вниз, хоть справа налево. Что в банке, северянин?
– Пятьсот рублев не жалко?
– На все пятьсот под туза бубен.
…Не было уже у меня прав на мою червовую даму, не было. Чувство было, что предал я ее, а потому и о помощи ее даже думать не смел. Да я ни о чем тогда и не думал. В голове – вихри, как в снежном поле в стужу зимнюю, а в сердце – тяжесть. Тоскливая, как волчий подлунный вой…
– Нет вашего счастья, поручик. Ни в каком ряду нет.
– И еще полтысячи. Да на того же туза. Может, еще и догоню свою удачу.
– За счастьем гоняться – пустое занятие. Впрочем, воля ваша, поручик. Воля ваша, а карта – наша.
Верное слово сказал коннопионер: пустое занятие за счастьем гоняться. И оно от меня ускакало, и я от него ускакал. По разным тропам, по путям разным…
Потому, видать, и проигрывал легко. Ни куражу во мне не было, ни азарту, ни интересу даже. Как и лошадей у смотрителя. Может быть, если бы заржали призывно кони под окном, остановился бы я. Но кони не заржали, и коннопионер очередной банк у меня сорвал: везло ему в игре сегодня.
– Коль больше денег нет, так и игре конец.
– У меня пистолеты добрые. Ставлю по тысяче каждый.
– Не нужны мне пистолеты. Коннопионеры люди тихие.
– За пару тысячу!
– Нет, поручик, уж увольте. Своему слову я хозяин.
А в меня вдруг упрямство вселилось. Не кураж, не ажитация, а глупая упрямая обида. Будто бес в мальчишку безусого, отцовскими деньгами впервые зеленое сукно засевающего.
– Нет, так невозможно, невозможно так разойтись…
Бормочу, карманы обшаривая. В сумку зачем-то заглянул, хотя и знал, что денег нет уж ни бумажки. Мундир охлопал… А там – хрустнуло. И вытащил я из-под него пушкинского «Андрея Шенье». И на стол бросил:
– Вот.
– Под бумажки не играю.
– Протрите глаза, коннопионер! Это – сам Пушкин, своей рукой написал!
– И вправду Пушкин? – Мой визави в рукопись вгляделся. – А как не его то рука?
– В чести моей сомневаться изволите? Так у меня разговор короткий.
– Не сомневаюсь, Олексин… Не ошибся с фамилией? Уж извините, если напутал что.
– Не напутали, – говорю. – Ни со мной, ни с бумагами, кои просматриваете сейчас. В тысячу рублев пойдет?
Хотел же на червонную даму поставить, до жжения сердца хотел – и опять не посмел. Не моей была червонная дама моя. И я на бубновую поставил.
– Бита!..
Встал я и побрел куда-то. Мимо смотрителя, через всю избу – в холодные сени. И в сенях этих горячим лбом в холодную бревенчатую стену уперся.
Ничего больше у меня не было. Ни юной любви, на чужом диване преданной. Ни бесценной дружбы со славой всей России, на корявый станционный стол брошенной за тысячу рублей. Ни чести более уж не было, ни совести, ни родительских глаз, ни офицерского незапятнанного мундира. Ничего не было, из-за чего стоило бы жить.
Достал я пистолет, который куражистому счастливчику коннопионеру предлагал. Он заряжен был, но порох с затравочной полки стряхнулся, когда я им как товаром размахивал, и я не поленился за пороховницей сходить, взять ее и в сени вернуться. И все делал очень медленно, старательно и спокойно, сам себе демонстрируя решимость свою. И там, в сенях, начал на курковую полку сыпать сухой порох. Неторопливо и аккуратно, крупинка за крупинкой.
Смотритель мимо во двор пробежал, так тяжелой дверью грохнув, что у меня весь порох сдуло. И я опять начал все сначала. Неторопливо и очень старательно…
– Ваше благородие, вроде как вас спрашивают!
Смотритель с улицы заглядывает, а у меня снова порох с полки сдувает. И я опять начинаю заново…
* * *
– Барин, Александр Ильич, чего это ты тут на холоде с пистолетом?..
Поднимаю голову – и глазам не верю: Савка. Мой Савка, Клит мой верный, молочный брат, которого я в Антоновку отправил, когда помчался к захворавшему батюшке.
– Вот так встреча! Я же за вами приехал! Думал, в Петербург придется гнать, ан нет, вы – тут.
Стою, ничего еще не понимая. В одной руке – пистолет, в другой – серебряная пороховница. Хороший вид.
– Почему – тут?
– Так я же и говорю… – растерялся Савка.
– А зачем?
Вздохнул Савка, пригорюнился. Покачал головой.
– Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Проститься очень уж ей с вами хочется.
Слышу все, известия понимаю и запоминаю, а сам на Савку гляжу. Плечистый, разбитной, грамоте обучен… И говорю вдруг, но как бы и не я говорю, а кто-то со стороны:
– Идем.
– Куда? – удивляется Савка. – Собираться в Антоновку надо. Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Пока пообедаете, пока лошадок покормим…
– За мной, – говорю. – И ты, смотритель, тоже.
И, избу миновав, прямиком входим в тихую половину. Коннопионер стихи, у меня, дурака, выигранные, просматривает. Воззрился на нас, голову подняв.
– Вот, – говорю, – моя последняя ставка. Скинь шубу, Савка, себя поручику покажи.
Тот послушно шубу сбрасывает, подбоченивается, ничего не понимая. И коннопионер смотрит удивленно, тоже ничего не понимая. А я Савку к столу подталкиваю.
– Извольте принять под стихи, что у меня выиграли. Смотритель свидетелем будет.
– Я, милостивый государь, на людей не играю, – сухо объявляет мне коннопионер.
– Сыграете, – говорю, и все вроде как в беспамятстве. – А коли откажете в сем, пулю себе в лоб пущу на ваших глазах. Пущу, честью клянусь!
…Господи, что творилось со мной, кто объяснит?! Но то, что творилось, видно, на лице моем написано было, а лба я ладонью при этом не прикрывал…
И потому поручик, посмотрев в лицо мое, бросил пушкинские стихи на стол:
– Дарю.
Взбеленился я, аж дыхание пропало.
– Унижений не потерплю! Извольте карты сдать, поручик. На кону – мой Савка и пушкинские стихи.
– Ваши благородия… Ваши благородия… – залепетал тут смотритель, побелев.
Коннопионер пожал плечами и стал тасовать колоду.
…А я молиться начал, верите? Про себя, конечно, но – искренне, жарко, истово и неистово одновременно. К святой Божьей Матери обращаясь чрез душу, что предстать пред нею вот-вот должна была. «Мамка моя, – шепчу, – меня вскормившая, силою своею налившая меня, упроси Матерь Божью карту мне верную подсказать. Молю тебя, мамочка моя…»
Богохульствую от всего сердца своего. Не жизнь свою спасая – нет-нет, честью клянусь, о жизни не думал! Я пушкинские строфы спасал, мне от души подаренные. Пред ним я тогда себя подлецом ощущал, только пред ним и ни пред кем более. И молил, молил, умолял и молился…
– Извольте карту, поручик.
– Карту?..
…Карту?.. Вспомнил я, сколь часто карту на свою червовую даму заламывал и сколь часто выручала она меня. Но не было у меня более дамы моей червонной, предал я ее, как дружбу Пушкина, как… Как Полин, в конце концов, без влюбленности бешеной девичество ее нарушив. Одна теперь у меня дама осталась, да и та в Антоновке душу свою чистую Богу отдает…
И – будто молния блеснула.
– Дама треф.
Пришла. В третьем ряду пришла…
Пришла!..
– Ваша взяла, Олексин, – усмехнулся коннопионер. А я на пол сел, поверите ли? Будто ноги мне подкосили и – без сил совершенно.
– Вина… – выдохнул последним выдохом.
– Не вина тебе надобно, Александр Ильич, – усмехнулся Савка и вышел.
И все молчали. А я сидел. С пустотой в голове.
Савка с баклажкой и оловянной кружкой вошел. Присел подле меня на корточки.
– За мамку нашу, барин.
И налил мне полную кружку. И не вина, а домашнего ерофеича, который каждый год наша мамка готовила. Забористый ерофеич, родной, и выпил я до дна эту кружку.
Выехали мы сразу же, даже перекусывать не стали. На своих лошадях выехали: Савка за мною на паре примчался. И я, признаться, с поручиком коннопионером даже не попрощался. Не до того мне было, да и не хотелось, признаться.
Савка меня на сено уложил, с боков подгреб его, в тулуп укутал. Но – все молча.
– Ну, родимые!..
Дорога на Антоновку через Псков лежала, и до города мы ни словом не обмолвились. А как въехали в него, Савка впервые ко мне оборотился:
– Лошадок подкормить надо. Я тебя, Александр Ильич, пока на квартеру твою завезу.
– Обидел я тебя, Савка?
– Проиграл бы, так сам же и выкупил бы. – Помолчал он, вздохнул. – А обидеть, что ж… Обидел, прямо скажу. Чай, одну титьку-то пополам сосали.
Довез он меня до квартиры и поехал на постоялый двор лошадей кормить. Я умылся да переоделся, отыгранного «Андрея Шенье» к прочим пушкинским рукописям приложил, а с собою в Антоновку взял эти «Записки». Чтоб события в них занести, какие доселе произошли. И пешком пошел на постоялый двор.
– Я бы заехал за тобою, – сказал Савка.
– Пойдем в трактир. Пообедаем, выпьем на дорожку.
– Подлизываешься? – усмехнулся Савка. – Эх, барин, Александр Ильич, кабы не любил я тебя, как брата…
Ладно пообедали, выехали и… поспели. К последнему вздоху Серафимы Кондратьевны чудом поспели.
Подле нее уж и священник был, и монашки тихо горевали. Кормилица моя еще в сознании находилась, хотя на глазах слабела, жизнь теряя.
– Прощайтесь, – сказал батюшка. – Чудом поспели.
Бабы дворовые и девки тихо плакали, меня стесняясь.
Потом мужская дворня пошла: все любили ее, искренне любили. Да и я с трудом тогда слезы удерживал. Долго длилось прощание, слабела на глазах кормилица моя.
Наконец все попрощались, кроме меня да Савки. Я хотел его последним оставить, единственный сын все-таки, но она по-иному решила, прошептав через силу:
– Савушка, сынок… Уступи Сашеньке. Старший он братец… Слово сказать ему надобно…
Савка попрощался с маменькой своей и тут же вышел, слезы рукавом размазывая. А я на колени у ее изголовья стал.
– Из краев… дальних… горничная приезжала… велено от графинюшки…
Отходила она, слова еле слышно с уст ее слетали. Я ухом приник, чтоб расслышать.
И расслышал последнее:
– Ваничка… внучек мой… Ваничка…
И все. И тихий последний вздох ее я скорее душою своей уловил, так ничего и не поняв…
Пишу все это уж после похорон. Завтра во Псков меня осиротевший Савка отвезет.
…Так что же Аничка велела горничной своей передать? Что?.. Сил недостало у дорогой моей кормилицы сказать об этом. А вернее всего – меня она пощадила, последний раз меня от боли уберегла. Потому что единственная новость, которую Аничка могла мне передать, в том заключалась, чтобы не ждал я ее более. Замуж графинюшка моя вышла. За косноязычного пшюта Засядского…
Дописываю «Записки» сии много времени спустя. Задним числом дописываю, потому вместо дат будут отныне только события.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.