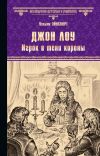Текст книги "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт"

Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
– Кто же это мог написать?..
Я пожал плечами. Эта скачка вопросов вокруг да около окончательно убедила меня, что они пытаются добраться до Пушкина. Заполучить его в свою паутину, и здесь я не желал служить им ни проводником, ни пособником. Ни в каком виде и ни при каких условиях. По разные стороны барьера мы стояли, и я позиции своей менять не собирался, хотя и не имел права на ответный выстрел.
– Ладно, – со злорадством сказал мой новый дознаватель. – Будете крыс дрессировать, пока не вспомните.
– Каким же образом можно вспомнить то, чего вообще не было? Не подскажете?
– Всяко бывает, Олексин, всяко, – улыбнулся вдруг подполковник. – Озарение может на вас снизойти. Озарение и понимание. Думайте, думайте, вы же – игрок, и я вам предостаточно карт на стол выложил. И все – в масть, заметьте.
Гнусен намек его был: выдумать нечто, чтобы оговорить Александра Сергеевича. Гнусен и подл, но я сдержался. Нельзя мне было свои истинные чувства жандармам показывать. Никак нельзя.
К счастью великому, мои отношения с Пушкиным, моя любовь к нему и мое восхищение места в жандармских мозгах не занимали. В таком раскладе мне повезло, повезло отчаянно, хотя поначалу и обидело. Как же так, я ведь в бессарабской ссылке с самим Александром Сергеевичем приятельствовал, со Спартанцем Раевским, с Руфином Дороховым на дуэли дрался! Это же счастливейшая заря жизни моей, а вы, мундиры голубые, – будто и не было ее у меня? Обидно. А промерзнув в казематах, изголодавшись да кашель подцепив, сообразил, что за расклад у них, и – возрадовался. Возрадовался, что не догадались там копнуть, что мимо майора Владимира Раевского проскочили, мимо Урсула, а заодно – и мимо Пушкина.
А вот почему проскочили, долго понять не мог. Только потом уж, потом догадался наконец, что юнцом безусым во времена кишиневские я для них выглядел. Фоской, картежным языком выражаясь. Ну а какой с фоски прок? Она только для сноса и годится. Поэтому жандармы и скинули это время, будто и не было меня в нем вообще.
Осьмнадцать лет, румяная пора!..
Свеча седьмая
Сколько дней после этого разговора меня никуда не вызывали, сколько дней я крыс приличным манерам обучал, версты парами шагов отмеривал да неизменные щи дважды в сутки хлебал – не помню. День в день был, и все – трефовой масти предсказанного мне древней цыганкой казенного дома.
Но ни бодрости, ни веры я не терял. Бодрость во мне поддерживалась неукоснительным исполнением приказа, себе самому отданного, а вера – Библией. Читал я ее вдумчиво и неспешно, по два, а то и по четыре раза каждый стих перечитывая. Чтоб сквозь человеческое понимание до Божественного смысла добраться, а потому и продвигался в аллюре улитки. И как-то, перевернув очередную страницу, с трудом различил на полях блеклую, выцветшую до бледной ржавчины надпись:
УСП
г – 1
шо – 1
оо – 17
нч – 282
гл – 67
т – 903
и всего – 1271
Долго я ничего не мог понять. Что за буквами кроется, кто за цифрами стоит?.. Ясно одно было – это подсчет. Но чего – подсчет? Людей или рублей? Потерь или приобретений? И неизвестно, удалось бы мне загадку сию решить, если бы однажды, едва проснувшись, а может, и в схватке со сном еще, я не призадумался: а кто вообще мог это написать? Ну, естественно, узник вроде меня, кто же еще? Но – чем? Чернил и перьев в казематах и быть не может, и быть не должно.
Вот тогда я и стал заново эту бледно-ржавую надпись изучать. Но теперь не что написано, а – чем написано. И так книгу вертел, и этак…
И вдруг осенило меня. Подвигло, что ли, не на разгадку тайны сей, а на опыт.
Отгрыз я тонюсенькую щепочку от черенка ложки, рванул нижнюю губу зубами до крови, намочил ею щепочку и на последнем листе Библии написал: «БЛАГОДАРЮ ТЯ, ГОСПОДИ».
Надпись вполне безобидная, даже если бы кто и заинтересовался ею. Рыхлая бумага быстро кровь впитывала, макать самодельным пером в самодельную чернильницу приходилось мне беспрестанно, но я дописал, закрыл Библию, а щепочку изгрыз чуть ли не до стружек. Полдня ранку на губе зализывал, пока не затянуло ее, и определил себе срок: три дня. И три дня Книгу в том месте, где надпись сделал, не открывал.
А на четвертый – открыл. Надпись моя впиталась, поблекла и как бы выцвела до бледно-ржавой желтизны. Я сравнил ее с таинственными цифрами, и все недоумения пропали.
Да, никаких сомнений: подсчет тот делал узник. Но писал – кровью собственной, следовательно, писал нечто, очень уж для него важное. Жизненно важное. И, судя по цвету моей надписи, совсем недавно, по всей вероятности, незадолго до меня.
А кто прошел незадолго до меня сквозь эти казематы? Декабристы. Этой зимой, которая только-только первой весенней оттепелью вздохнула. Их прямо с Сенатской площади…
И тут сказал себе вслух:
– Тпру, Олексин!
Сенатская площадь. Это – «СП». А «УСП»? Если «СП» я угадал, то «УСП» – «убиты на Сенатской площади». Эту догадку подтверждает и первая строчка столбца: «г – 1», поскольку убит был один генерал. Милорадович, застреленный Каховским. И один штаб-офицер тогда погиб. Знал я его фамилию, знал, кто-то говорил в полку…
А в столбце – «шо – 1». То есть один штаб-офицер.
Все сошлось, весь пасьянс. Помнится, от такого открытия я на месте усидеть не смог. Вскочил, по каземату пометался. Потом сел, вгляделся в блеклую надпись на полях, и все для меня окончательно стало ясным:
Убиты на Сенатской площади:
генерал – 1
штаб-офицер – 1
обер-офицеров – 17
нижних чинов – 282
гражданских лиц – 67
толпы – 903
и всего – 1271.
Не знаю, откуда мой предшественник по темнице мог взять цифры погибших 14-го декабря: их держали в строжайшей тайне, их нигде не печатали, о них даже не упоминали. И мне одно объяснение пришло в голову: сообщили со стороны. Через дежурных офицеров Петропавловской крепости, через адъютантов и курьеров, через помощников дознавателей да и самих дознавателей, через случайно, на лестницах или в коридорах, встреченных офицеров. Офицерское братство не смогли поколебать никакие ссоры, дуэли, обиды и разногласия, почему и пришлось придумать жандармский корпус в голубых мундирах, руку владельцам которых не подавал ни один офицер русской армии…
Впрочем, я об этом вам уже докладывал.
…Человек несовершенен, и я никогда не встречал человека совершенного. Долгое время считал, что виною несовершенства человеческого служит лень, а потом задумался: ну а лень-то – откуда? Чем подкармливается она в нашей душе, ибо не попадались мне что-то ленивые звери. Зверь ленив, когда он сыт. Так, может быть, и человек тогда ленив, когда душа его наелась до отвала? Но чем же может насытиться наша душа?..
Долго я над этим размышлял: уж чего-чего, а времени мне хватало. Не столь уж важно, как именно ползла моя мысль, но важно, до чего она доползла.
Я, как мне показалось, в конце концов нашел ответ, что же закармливает душу человеческую до сытости с отрыжкой. Для себя, разумеется…
…Это – не пища, тело питающая. Это всего лишь жвачка, дающая обманное ощущение сытости. Все в детстве, наверно, любили жевать вишневую или сливовую смолку: затвердевший сок дерев этих, которым они раны, трещины да надломы свои затягивают. Вспомнили, о чем толкую? Такой жвачкой для души человеческой является самоуверенность. Сколь часто заменяет она нам тяжкий путь размышлений! Едва начав о чем-то думать, человек в поспешности хватается за самопервейшую, навязшую в зубах мысль, тут же объявляя ее истиной. Он щадит себя, силы свои и нервы свои, убеждая душу свою, что ответ уже найден и ей не о чем более тревожиться.
Самоуверенность есть самообман души нашей. Замена живительных сомнений пустой убежденностью в собственной непогрешимости. Я проверил сей постулат на собственном опыте. По счастью, он оказался не столь уж печальным, хотя вполне мог им стать. Душа обязана трудиться, дети мои. Не позволяйте ей пережевывать жвачку простейших решений…
Свеча восьмая
Вторично дверь моего Петропавловского каземата распахнулась в сырых петербургских сумерках. В столицу шла весна, из прорубленного в Европу окна уже стремился теплый ветер, и день заметно прибавился, что сказалось даже в сумрачной темнице моей.
Но меня куда-то везли в то время, когда служба во всех присутствиях закончилась, чтобы через время некое переместиться в храмы Божии. Семья моя, свято соблюдая православные обряды, особой религиозностью никогда не отличалась, поскольку предки мои, насколько мне было известно, добывали хлеб насущный не серпом да цепом, а мечом да шпагой. Такой способ деятельности во благо Отечества необходим и достоин, однако по самой сути своей он как-то не совсем, что ли, совмещается с постулатами Нагорной проповеди. И «не убий» для воина – завет относительный, и «не укради», и «не возжелай», и многое другое: а la guerre comme а la guerre («на войне как на войне»). А потому я, грешный, о Пасхе узнавал тогда лишь, когда в нашем доме начинало пахнуть куличами. И в тот вечер подумал вдруг: уж не в церковь ли меня везут ко всенощной?..
Однако здание, подле которого меня из арестантской кареты высадили, на храм Божий мало походило. Менее, скажем, нежели армейская шинель на поповскую рясу. Да и сам подъезд с застывшими часовыми – тоже.
Поднялись на второй этаж по пустынной лестнице, прошли в залу с двумя настенными зеркалами в бронзовых рамах и изящной, совсем уж не казенного вида, мебелью. Мой сопровождающий, велев обождать, исчез за тяжелой, бронзой отделанной дверью, и я замер подле одного из зеркал. Потому замер, что в зале этой парадноприемного вида оказалось целых два генерала и никак не менее дюжины штаб-офицеров, не обращавших, впрочем, на меня, жеванного казематами арестанта, ровно никакого внимания.
Из-за той двери, за которой скрылся мой крепостной офицерик, вышел молодой жандармский капитан и остановился перед зеркалом в шаге от меня.
«Франт, – подумал я нелюбезно. – Ишь охорашивается, крыса жандармская…»
– Обращение – ваше высокопревосходительство, – вдруг шепотом, но вполне явственно сказал этот франт, по-прежнему глядясь в зеркало. – Почаще, он это любит. Не задерживайся с ответами – подозрителен. И не вздумай изворачиваться, он многое знает. Лучше умолчи. Так безопаснее.
И пошел себе к выходу, на меня так ни разу и не взглянув.
Но сказано-то было для меня! В этом не могло быть никаких сомнений, и сердце мое прямо-таки теплой волной обдало: «Живо! Живо ты еще, братство офицерское, живо!..»
И вспомнил тут я, что при формировании голубого жандармского корпуса многих армейских офицеров переводили в него помимо их желания. Повелением простым переводили. Те, кто мог, сразу же в отставку подавали, ну, а те, кого одна лишь служба кормила, у кого родовое поместье – с гулькин нос или сестер незамужних куча, тем некуда было деваться. И напялили они голубые мундиры на верные армейские сердца…
Неожиданно дверь распахнулась. Мой надзирающий офицерик выглянул:
– Проходите.
Я мятый свой мундиришко одернул, шагнул за порог и очутился в огромном кабинете. Освещен был лишь стол да круг подле него: два кресла, что ли. Стены в сумрак уплывали, но фигура в генеральском мундире, восседавшая за столом, выделялась от этого еще отчетливее. И я рванул к ней с места строевым шагом.
– Поручик Олексин, ваше высокопревосходительство! Честь имею явиться!
Генерал, глаз от бумаг не оторвав и на меня не глянув, бросил отрывисто, по-сановному:
– Садитесь.
Я поспешно сел, замерев на краешке кресла. Бумаги листались неторопливо и вдумчиво. Совершенно беззвучно при этом, будто сами собою, перепархивали.
– Когда, каким образом и где именно познакомились с Александром Пушкиным?
– В Кишиневе, ваше высокопревосходительство. Был сослан туда за дуэль.
– За дуэль? – Генерал впервые поднял на меня бледные, безмерно усталые глаза. – Какая по счету?
– Первая, ваше высокопревосходительство.
– И чем же она закончилась?
– Прострелил ногу гвардии поручику Турищеву, ваше высокопревосходительство!
– А он пальнул в воздух, – с укором сказал генерал. – Неблагородно поступили, Олексин.
– Иначе поступить не мог, ваше высокопревосходительство. Турищев оскорбил даму.
– Даму? Это меняет оценку.
Генерал оставил бумаги. Откинулся к спинке кресла, и лицо его ушло в тень.
– Затем прибыли в Кишинев. Кто представил вас Пушкину?
– Никто, ваше высокопревосходительство. Занимались фехтованием у одного местного мастера. В конце концов я счел возможным лично представиться Александру Сергеевичу под тем предлогом, что мы с ним – земляки.
– После чего вы затеяли новую дуэль.
– Так точно, ваше высокопревосходительство, о чем весьма сожалею.
– И с кем же на сей раз?
– С Руфином Ивановичем Дороховым. Исключительно вследствие собственной невоздержанности.
– И кто же был вашим секундантом?
– Майор Раевский, ваше…
– Майор Владимир Раевский, – почему-то с некоторым удовлетворением отметил генерал.
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
Я уже сообразил, что меня допрашивает сам шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф. Но пугало меня не это. Я очень встревожился, что он спросит, кто именно меня познакомил с Раевским, и я вынужден буду назвать Пушкина. Однако генерал сказал совсем иное. И – весьма неожиданное:
– Дуэль на шпагах – скорее спорт, как говорят англичане. Ковырнули друг друга – и разошлись. Так оно и было?
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – с огромным облегчением согласился я.
– Ну и бог с вами. А по какому поводу вы устроили попойку за неделю до бряцания шпагами?
– Осьмнадцать лет мне исполнилось, ваше высокопревосходительство.
– И кого же вы в сей знаменательный день пригласили?
– Троих, ваше высокопревосходительство. Господина Александра Пушкина, майора Владимира Раевского и… – Я мучительно соображал, как мне представить Урсула Бенкендорфу, делая вид, что припоминаю фамилию. – И капитана Охотского, кажется. Прощения прошу, фамилию запамятовал.
– Капитана Охотникова, – поморщившись, поправил Бенкендорф. – Вам известно, что он умер?
– Умер?.. Не знал об этом, ваше…
– А с ним вы каким образом познакомились?
Как же повезло мне тогда, что генерал сначала сообщил о смерти капитана Охотникова – а я знавал его в Кишиневе, знавал, но близко знаком не был – и лишь потом заинтересовался почему-то, как мы с ним познакомились. Раевский был уже арестован, так что навредить ему я не мог, а вот Пушкина следовало выводить из этой жандармской игры в подкидных дурачков.
– Нас познакомил майор Раевский.
– Присутствовали при их беседах?
– Помилуйте, ваше высокопревосходительство. – Я позволил себе улыбнуться. – Я тогда, в Кишиневе, безусым юнцом еще считался. А потому я их приглашал, а они меня – никуда и никогда. Даже на дуэли секундантом не брали.
Зря я это выпалил, относительно дуэлей. Но Бенкендорф и на оговорку мою внимания не обратил.
– Однако ясский господарь Дмитрий Мурузи почему-то отошел от этого правила.
– Крайне удивлен сим обстоятельством, ваше высокопревосходительство. Крайне удивлен приглашением его и по сей день, хотя, не скрою, и весьма польщен.
Бенкендорф нагнулся к столу, вновь возникнув в кругу света. Взял в руки очередную бумагу.
– Господарь отозвался о вас весьма восторженно. Послушайте его доклад Инзову. «Атаку возглавил прапорщик Александр Олексин, убив двух турецких разбойников…» – Кончив читать, поинтересовался: – Соответствует действительности?
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
– У Инзова к вам тоже претензий не оказалось, – продолжал главный жандарм. – Отмечает вашу искренность и чистосердечие. Вот на чистосердечии и остановимся. Когда Александр Пушкин передал вам для хранения полный список «Андрея Шенье»?
– Он мне не передавал его, ваше высокопревосходительство. Я выиграл эти стихи. В штосс.
– Что-то я не замечаю в вас того качества, которое столь восхитило генерала Инзова.
– Ваше высокопревосходительство, – сказал я, проникновенно прижав руки к груди. – Пушкин посвятил мне два стихотворения и еще четыре – подарил на память. Они – в бумагах, что взяли у меня при аресте. Все. Все шесть стихотворений подписаны Александром Сергеевичем, а список «Андрея Шенье» – не подписан. Извольте обратить внимание, прошу вас. А не подписан потому, что подарен был кому-то другому и я его просто выиграл в штосс…
– Поручик конно-пионерского полка Молчанов утверждает в своем заявлении как раз обратное вашим словам. А именно, что вы расплатились с ним пушкинским «Андреем Шенье», но потом отыграли сей список назад.
– Ваше высокопревосходительство, виноват. Пьян был до полного ошаления, все – как в тумане, только ошибается коннопионер. Он тоже на хороших воздусях был…
– Хватит! – резко выкрикнул Бенкендорф. – Как только Пушкин будет арестован, я устрою вам очную ставку. Что тогда скажете?
Ничего я не сказал. Разинул рот, закрыл его, снова открыл и спросил:
– Пушкин арестован?..
– Будет арестован без всякого промедления, как только Государь изволит дать согласие свое. Представление по сему предмету мною уже сделано.
– Зачем же Пушкина арестовывать, ваше высокопревосходительство? – растерянно и как-то не к месту, что ли, сказал я. – Проще с этим коннопионером и мною очную ставку…
– Поручик Молчанов ни в чем не повинен. Мало того, он проявил истинно патриотическое рвение, и нет причин…
Что-то жандармский шеф еще говорил, но я уже ничего не слышал. Горечь до горла меня переполнила: знал я теперь, кому обязан казематным своим сидением. Знал. Знал, кто проявил истинно патриотическое рвение…
– …Так кто же с кем расплачивался стихами? – наконец-то до меня донесся генеральский голос. – Вы с Молчановым или Молчанов с вами?
– Коннопионер со мной, коннопионер, ваше высокопревосходительство. То и человек мой подтвердить может, и станционный смотритель в любое время.
– Да, они ваши слова подтверждают, – согласился Бенкендорф, посмотрев в какие-то свои бумаги. – Однако Молчанов утверждает обратное.
– Он бутылку рому у смотрителя купил да один и высосал ее, потому что в меня уж и не лезло.
– Молчать! – гаркнул жандармский верховный вождь.
Замолчали мы оба. И молчали, пока Бенкендорф не обрел прежнего холодного величия.
– Теперь – о надписи «На 14 декабря». Она не принадлежит ни Пушкину, ни вам, ни Молчанову. Сие установлено. Кому же она принадлежит?
– Не ведаю, ваше высокопревосходительство. Я ее с этой надписью и выиграл.
– Кому вы давали читать сей стихотворный памфлет?
– Никому. Может, Молчанов кому давал, ваше высокопревосходительство?
– Перестаньте, Олексин. Перестаньте перекладывать на достойного офицера свое беспутство. Знаете, как вас полковой командир охарактеризовал? – Генерал извлек очередную бумажку и зачитал почти с выражением:
– «Картёжник и бретер, игрок и дуэлянт». Куда ближе к действительности, нежели старческие сантименты Инзова. А потому в последний раз задаю два вопроса. В последний! Первый вопрос: когда именно Александр Пушкин попросил вас припрятать свой стихотворный антиправительственный манифест? До бунта на Сенатской площади или после оного? И второй: кто и когда написал поверх стихов «Андрей Шенье» слова «На 14 декабря»?
– Ваше высокопревосходительство, я…
– Я не спрашиваю вас более!.. – сурово оборвал меня Бенкендорф. – Я дал вам последний шанс подумать о своем будущем. В переводе на общедоступный офицерский язык – подумать о собственной шкуре. Собственной, Олексин, а не своих кишиневских приятелей, уразумейте же это наконец. Ступайте!
Я вскочил с кресла, звякнул шпорами, поклонился. Пошел к дверям, по-прежнему строевым шагом, ворс из ковра выколачивая. Вероятно, именно это и обозлило шефа жандармов. Сказал вдогонку, когда я уже у дверей был:
– Вашего отца, всеми уважаемого бригадира Илью Ивановича, хватил второй удар. Наталья Филипповна просила меня разрешить вам свидание с батюшкой вашим. Я обещал при условии, что вы поведете себя благоразумно. Этого не случилось, почему и свидания вы не получите. Ступайте.
– Он… Он в сознании?
Молчание. И – резкий холодный приказ:
– Извольте покинуть мой кабинет, сударь!
Не помню, как я вышел. Не помню…
Свеча девятая
Это была первая ночь, когда я не смог уснуть. Батюшка мой, едва от первого удара оправившись, свалился во втором. И оба – из-за меня. Из-за меня!..
К сожалению величайшему, я уже не умел рыдать, израсходовав весь запас слез, выданный на всю жизнь, и мне было во сто крат тяжелее. Я молился, молился искренне, с огромным отчаянием и крохотной надеждой в душе. Я метался по каземату, падал на койку, вскакивал и снова метался и уж не знаю, сколько верст наметали мои ноги в ту страшную ночь.
Забылся я на считаные минуты перед рассветом. Помню, что не лежа, а сидя на койке, зажав голову в ладонях. Не заснул, все чувствовал, все слышал и ощущал, ворочая тяжкими думами своими. И вдруг… услышал вдруг отцовский голос! Не снаружи, а – изнутри, не ушами, а как бы душою своею:
– Ты – единственная надежда моя, сын. Ты, только ты продлишь меня в детях своих. А потому обязан выстоять. Выстоять! Ты – потомок бесстрашных княжеских дружинников, офицер армии русской, найдешь в себе силы. Знаю, надеюсь, верю, что сыщешь их…
Смолк голос в душе моей, и я вскочил. Вскочил, вытянулся, как на высочайшем смотру, и сказал вслух:
– Выстою, батюшка.
И начал версты свои ежедневные парами шагов отмерять…
…Что наследуем мы от родителей своих? Здоровье? Силу? Способности бурям противостоять? Не это главное. Главное, что мы наследуем, – любовь родителей к нам. Их заботу о нас. Их веру – в нас. Их надежду – на нас. Мы такие, какими нас испекли в родительском тепле. Все последующее – всего лишь бутерброд на куске хлеба, испеченном матушкой из отцовской муки…
Голос батюшки, столь явственно прозвучавший в душе моей, вернул мне силы. Я понял, что обязан бороться, обязан выиграть эту борьбу, обязан устоять и вновь вернуться в жизнь. Во имя исполнения его завета и его надежды.
Вероятно, поэтому, когда я по заведенной привычке на ощупь подбривал усы и баки, в меня и влезла паскудная мысль. Простая, как змея, сотворенная Господом.
…А зачем мне, собственно, мудрить, страдать и терпеть, не имея при этом никакой возможности повидать тяжко захворавшего бригадира моего? Зачем мне упрямством своим способствовать аресту Пушкина? Зачем? Во имя чего? Пушкина, даже арестовав, никто не посмеет тронуть, потому что все общество, все лучшие люди России поднимутся на его защиту. Все, даже враги его, ибо в противном случае общество отвернется от них. Пред ними закроются двери всех салонов, гостиных, клубов, собраний. Нет, нет, Россия никогда не даст в обиду светлого гения своего, она грудью прикроет его от всех застенков, крепостей и казематов. Так не лучше ли, не мудрствуя лукаво, откровенно признаться в истине? Да, ваше высокопревосходительство, Александр Сергеевич Пушкин лично вручил мне полный список «Андрея Шенье» с просьбой никому его не показывать. Я не исполнил этой просьбы, показав стихи моей невесте, и она в восторге написала поверху «На 14 декабря». Пушкин и моя Полиночка – благородные люди, они подтвердят мои слова, меня выпустят из крепости, и я увижу батюшку, страдающего смертельным недугом. Все же очень просто, Сашка, они – благородные люди…
И тут… Тут – поверите ли?.. – я с размаху отпустил самому себе пощечину. В полную силу: дня два щека нытьем ныла…
…Они, бесспорно, благородные люди, а ты, Олексин? Посмеешь ли ты, посмеют ли дети, внуки, правнуки твои когда-либо считать себя просто порядочными людьми, ощущая зловонное дыхание предательства, некогда совершенного тобою? Нет, Пушкина не тронут – зачем же беспокоить общество? Ему просто сплетут поводок из липкой лилипутьей паутины. И накинут ее на вольную душу гения, как ошейник на раба…
И я удавил гадюку, посмевшую поднять ядовитую голову в душе моей. Навсегда…
И продолжал каждый день отмерять версты, неторопливо и вдумчиво читать Библию, до донышка выскребывать все, что дают, и… и терпеливо учить крыс пристойно себя вести…
Так прошло… да с неделю или чуть более того. Двери каземата моего распахнулись вскоре после обычного скудного завтрака, и меня востребовали на выход.
Снова – зашторенная карета, столичный шум за окнами. Снова – глухой каменный двор, лестница, кабинет и – рыжеватый подполковник за прежним столом.
– Садитесь, Олексин.
Сел и молчу. После свидания с самим Бенкендорфом рыжий подполковник мне пешкой казался. Причем пешкой, которая в дамки так никогда и не выйдет.
– Во время службы в лейб-гвардии Нижегородском конно-егерском полку…
– Сначала вы ответите на мой вопрос, подполковник, – решительно перебил я. – Каково самочувствие батюшки моего бригадира Ильи Ивановича Олексина?
– Сначала – дело, сударь! Тем более что мне ничего не известно о самочувствии вашего батюшки.
– Так извольте же послать кого-нибудь узнать! Или везите меня назад, в крепость, потому что я рта не раскрою, пока известия о нем не получу.
И что вы думаете? Послал он дежурного офицерика. А мы остались в кабинете. Подполковник что-то говорил, о чем-то спрашивал, но я и губ не разомкнул. Так в молчании и просидели часа полтора, пока посланец не возвратился. Начал шептать что-то, но подполковник резко его оборвал:
– Извольте вслух! И не мне, а Олексину.
Дежурный офицер сразу же ко мне оборотился:
– Прощения прошу, поручик. Ваш батюшка бригадир Илья Иванович Олексин жив, но отнялась левая сторона. Речь нарушена, однако он – в полном сознании. Имею честь передать вам сердечный привет от него лично.
– Благодарю.
– Довольны? – не без ехидства поинтересовался подполковник.
– Чем? Тем, что у отца речь нарушена?
Подполковник досадливо поморщился, отпустил офицера. А когда дежурный удалился, проворчал:
– Теперь-то будете отвечать?
– Теперь буду.
Вздохнул я, признаться, батюшку представив. Мой дознаватель поковырялся среди бумажек, потасовал их и наконец приступил к допросу:
– Во время службы в конно-егерском общались ли вы со своим эскадроном вне службы? Беседовали с егерями, расспрашивали их?
– Нет.
– Почему?
– Смысла не видел.
– Но открыли же почему-то сей смысл в пехотном полку? Во Пскове?
– Егерь – не пехота, подполковник. Не хуже меня знаете.
– Разъясните, что имеете в виду.
– Все просто. В егеря отбирают наиболее сообразительных солдат. В гвардию – тем паче. А Псковской полк – обычный гарнизонно-затрапезный. Почему с солдатами приходится заниматься и вне строя, ничего не поделаешь. Армия – снятое молочко: сливки всегда в гвардию уплывают.
– И вы просвещали их, так сказать, в полном объеме?
– Спросите конкретно.
– Конкретно? – усмехнулся подполковник. – Конкретно – вопрос о воле. Вы вели с солдатами беседы на эту тему?
– О воле как императиве души человеческой? Разумеется. Я их к сражениям готовил, а в сражениях тот побеждает, у кого воли на весь бой хватает. Да еще с запасом.
Вздохнул мой следователь:
– Вы наделены поразительной способностью не отвечать на то, о чем вас спрашивают.
– Вы спросили о воле. Я и ответил о воле.
– В России под волей не философскую детерминанту разумеют, а свободу от крепостной зависимости, Олексин. И вам сие прекрасно известно.
Моя очередь усмехаться пришла:
– Так вы свободой заинтересовались, подполковник?
– Это вы ею заинтересовались, Олексин, вы. И чуть не ежедень втолковывали солдатам своей роты, что они – свободные люди. Это-то вы признаете?
Вспомнил я свои беседы с батюшкой о доле простого пехотинца. О том, сколь сиротливо чувствует он себя, лишенный возможности хоть о ком-то или о чем-то заботиться. Хотел было подполковнику с рыжеватыми бачками об этом поведать, но – передумал. Щечки у него слишком румяными мне показались.
Об ином напомнил:
– После государевой двадцатилетней службы солдаты освобождаются от крепостной зависимости согласно закону. А в случае боевой инвалидности – вне срока службы. Вам, надеюсь, это известно?
– Мне – да, но солдатам знать о сем не положено, поручик. Не положено, потому как законов они не знают и знать не должны.
– Почему же – не должны? – Я искренне удивился, поскольку никак не мог понять, куда он гнет. – Каждый подданный Российской империи обязан знать ее основные законы.
– Они – помещика подданные, а не Российской империи!
– Вот это уже прелюбопытнейшая новость, – говорю. – Стало быть, наши солдаты за любимого помещика на смерть идут, а не за Бога, Царя и Отечество?
Помолчал подполковник, беседу нашу припоминая. И вздохнул, сообразив, что ляпнул нечто несусветное. И даже улыбнулся как-то… искательно, что ли.
– Я образно выразился, Олексин, образно. Неудачный образ, признаю. Но признайте и вы, что превысили свои офицерские обязанности, и превысили недопустимо. В чем недопустимость превышения сего? В том, что…
Занудил, и я слышать его перестал. Я лихорадочно соображал, куда подевались два вопроса, которые мне задал сам Бенкендорф: передавал ли мне Александр Пушкин полный список «Андрея Шенье» на хранение и кто написал поверх этого списка слова «На 14 декабря». Об этом мой следователь ни единым словом не обмолвился, добиваясь почему-то ответов о моих отношениях с солдатами вне службы. Это было непонятно, и это необходимо было понять.
* * *
– …подобные беседы не входят в обязанности ротного командира, Олексин.
– А в обязанности приличного человека?
– Вы прежде всего – офицер!
– Я прежде всего – человек чести, подполковник. Не знаю, чему учат остзейских баронов, но потомственных русских дворян учат именно этому.
Разозлился я, признаться, почему и брякнул об остзейских баронах, хотя и не был уверен, что мой дознаватель – из их племени. Но оказалось, попал в точку. Покраснел подполковник, блеснул бледными глазками:
– Вспомним еще, как наши предки на льду Чудского озера друг друга колошматили?
– Ну, положим, – улыбнулся я, – это мои предки ваших колошматили, подполковник.
– Пустопорожний спор, Олексин, – сказал мой визави, сдерживая раздражение. – Отвечайте мне четко: вы вели с солдатами беседы о том, что они – вольные люди?
– Вольные лучше сражаются. Разве не так?
– Не уходите от ответа!
– Ну вел, вел. Мало того, считал и продолжаю считать эти беседы боевой подготовкой вверенной мне роты. И ничего противуправного в них не усматриваю.
– Так и запишем, – обрадовался он. – Не возражаете?
– Не возражаю.
Он пером скрипел, а я думал. Думал, куда же «Андрей Шенье»-то подевался? Вместе с Пушкиным?..
– Ознакомьтесь.
И бумагу передо мной положил. Я прочел, пожал плечами.
– Согласны? Тогда внизу прошу написать: «С моих слов записано правильно». И расписаться.
И это было новым. До сей поры мне дознавательных листов не показывали и подписи под ними не требовали. Я написал то, о чем он просил, и поставил свою закорючку.
– Вот и отлично. Можете идти.
– Куда?
– Крыс дрессировать.
Другими чернилами: …Уж позднее, позднее, много позднее узнал я, что Государь прекратил мышиную эту возню вокруг Пушкина. Что лично принял его, долго беседовал, простил все прегрешения. Что милостиво вызвался быть его цензором, вернул из ссылки и повелел служить отныне при Дворе. И «Дело» жандармское развалилось. Развалилось, но остался свидетель, от которого Бенкендорфу необходимо было избавиться во что бы то ни стало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.