Читать книгу "Рецензистика. Том 2"
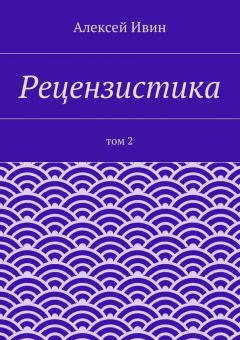
Автор книги: Д. Д.
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
93. Глупее нас с вами
Генри Саттон, Эксгибиционистка: Роман/ пер. с англ. О. А. Алякринского. – Минск: Белфакс, 1992. – 336 с.
Ага! Вот почему Алякринский, работая в издательстве «АСТ» (где-то на задворках Казанского вокзала), так и не дал мне подзаработать на переводах. Сам-то вон чего перевел! «Американский супербестселлер», «самый нашумевший роман года», «бестселлер, о котором говорят все», «сенсационный роман, разоблачающий тайную жизнь международной кино-элиты»! Вот уж правда – «разоблачающий»: в романе трахаются и разоблачаются с первой страницы до последней (в первой главе 4 раза трахаются и 3 раза рожают, а всего глав 13). И дальше – больше: сперва-то хоть мужчина с женщиной, потом женщины лесбиянки, потом гомики и лесбиянки, потом свальный грех, потом с импотентом, – в общем, на каждой третьей странице вспоминаешь невольно Рим периода упадка: парад-алле извращенцев, всяко разно по-разному везде. И все это издано под боком у батьки Лукашенко тиражом 400 тысяч. Теперь бы батька такого не позволил, а тогда еще руки у него не доходили.
Меня в первых же сценах зацепило знаете что? Там героиня только что опросталась после родов и к своему младенцу с бутылочкой молочных смесей пристает, да и ту не может найти: запуталась. Я втайне думаю: «Это цивилизация – или напротив того? Потому что свинья, бывает, осердясь, съедает своих свиненков, но вообще-то после родов и она их обычно кормит: у нее много сосков; молоко-то надо расходовать ведь. И наши, русские бабы, тоже обычно кормят грудью даже и в современных клиниках: вроде им разрешается первое время или даже полезно. Чего же эта-то ищет бутылочку, – это художественная правда, что ли?»
Нащот художественности Генри Саттон меня с первой минуты обеспокоил. Вообще-то у Бальзака был, говорят, словарный запас в 55 тысяч слов, а писатель Саттон вроде в 2 тыщи слов укладывается. Это больше, чем у Эллочки Людоедки и ее подружки, которая знала слово «гомосексуализм», но все равно мало: в диалогах еще можно понять, о чем речь, а в авторском повествовании – уже нет. Я сразу спасовал от Генри Саттона, перестав понимать, кто есть кто, потому что герои не портретированы и не персонализированы, – просто помечены, как крысы в научной лаборатории, метками, а так – на одно лицо. И только к концу «текста» я понял, что есть главный герой, драматург Мередит Хаусман, и у него дочка Мерри Хаусман (они там, в конце романа, пытались потрахаться друг с другом, но у автора не хватило смелости; но если вы думаете, что инцеста нет в романе, то ошибаетесь: есть).
А ведь я опытен. Я ведь знал (работа такая – читать), что если из текста не понятно, кто есть кто, или персонажи по-разному названы, то автор бездарен: не умеет типизировать. Я и другое знал: если обложка книги криклива, если на ней изображена полуобнаженная женщина, а с тылу – другая, мне втюхивают пышный горячий хот-дог, жирно заляпанный кетчупом; такую пищу стоя за столиком впопыхах трескают. А это как раз такой «текст»: жирного кетчупа завались! Сколько раз замечал: если обложка «кричит», содержания за ней – ноль. Ноль содержания – это когда пошлость или нехудожественное чтиво.
И действительно: из е*ли ну никак не сделать художественное произведение, потому что самый предмет, во-первых, интимен, а во-вторых, обыкновенен. У меня, помню, в 16 лет была «творческая» мечта написать роман о сексе; тогда я еще ничего о сексе не знал, но живо интересовался. А вот Саттон донес свою мечту до зрелых лет и успешно реализовал. Молодец! И изнасиловал меня, опытного волка, своей несусветной халтурой, своей юношеской мечтой, реализованной с помощью зрелого опыта. Чтоб я еще одну книгу в блестящей обложке взял! Ни в жизнь! Ведь когда еще читал маркиза де Сада, закаивался (закаивалась ворона говно клевать): не читай ты впредь таких книжек, где запертое дерьмо через уста лезет на бумагу. Нет, маркиза де Сада можно извинить: столько лет в тюряге взаперти без бабы творческому человеку! Ясно, что он, чтобы обмануть своих тюремщиков, начал придумывать сексуальные положения, расставлять фигуры, сдабривать все это французской хохмой, смачной изобразительностью и грубой галантностью. Чего дворянину делать? Не рукавицы же шить в Краснокаменске? Вот, пожалуйста, насочинял столько порнухи, такой грубой, такой антиэстетичной! Но Генри Саттон-то почему все это на меня вывалил? Прямо изблевался весь, все свои испражнения вылил на меня, а я теперь отчищаюсь, расплачиваясь за свою неосторожность.
Нет, ну как хотите. Но, например, на стр. 223 е*утся и читают Йейтса. Обидно за Йейтса, хотя он сам не святой и заслужил свой блудливый антураж. Но сцены в абортарии все-таки нехороши. Фронтовик В. Е. Субботин бранил меня всего лишь за упоминание об отвисших грудях, он мне «незачет» ставил в зачетке за одно за это, а тут прямо с подробностями об абортировании – и ничего, 400 000 читателей, шум в массах, переводы. Литературный институт, ау, где ты? Ты чему нас учишь? Вот же правда-то, пользующаяся уважением и почитанием. А ты нас держал на одном лишь духовном хлебе и воде, а в смысле общей раскрепощенности совсем не позаботился об нас, твоих выпускниках…
Роман Саттона я то читал, то пролистывал, то скучал над ним, то откладывал, но в конце концов определил свое отношение. Никогда не теряйте надежды, друзья! Всегда найдется человек глупее тебя. Всегда найдется писатель, который так плох, что тем самым приободрит тебя. Вот почему у нас так много плохой литературы: издатель тоже человек, он снисходителен, потому что плохой автор поддерживает его в самомнении и в жизненных установках. «Вот какое говно проплыло, – думает издатель, – а я-то лучше – и пишу, и думаю, и живу. Издам-ка я этого несчастного, помогу-ка я ему, а то сперма у него совсем заперта на ключ, и ключ выброшен».
Искать дурнее себя – это же так увлекательно! Разве не этим мы все заняты? Я-то себя корил: Ивин такой, Ивин сякой, Ивин психиатр-самоучка, мазохист, его графоманские дневники и невыразительную прозу ну кто же станет читать? А вот, оказывается, Генри Саттон хуже, а издан и уважаем, наилучший селлер написал: все раздеваются, танцуют голые, но в масках. Лепота! А как написано, стиль какой! По первым страницам я думал, что Фолкнер, ан нет: оказалось, что Саттон. Герои пьют, спят, снимают кино (эпизоды) – и ни одного приличного человека, зато все из высоких голливудских сфер. Прямо термы Веспасиана, пиры Лукулла, секс Тиберия на Капри. А еще сердились на советских литературоведов, которые часто прохаживались насчет загнивающего Запада и его порочной культуры. Вот, пожалуйста, «чистейшей прелести чистейший образец», перл западной книжной индустрии, – в пределах авторских возможностей, с помощью двух тысяч слов все безыскусно, как собаки мочатся, объяснено про секс.
Я, конечно, метафизик, пишу так плохо, что никто не лайкает, но раз мне этот супербестселлер Г. Саттона противно читать, значит, я гений и не совсем еще потерянный человек. Могу собраться, в дерьмо не лезть, себя уважать, на перформансы не ходить, в хоре не выть. Нигде не переведен за рубежом, все чисто, подметено за собой. При моем-то душевном эксгибиционизме еще немало утаено, сбережено, сублимировано поискуснее, чем у Саттона. А ведь другие, коллеги и даже помоложе кто, совсем плохи. Я читал тут роман одной московской писательницы: о том же, что и Саттон, а написано еще гораздо хуже. (Отечественные романистки как-то даже отважно натуралистичны, грубость, похоть и голый быт любят расписать безысходными словами). Следовательно, я еще вполне себе нормален, а радость жизни воспринимаю правильно: не через «текст».
Греет душу чтиво, ребята, греет душу. Возьмешь окаменелое дерьмо, понюхаешь его и подумаешь: нет, жизнь прекрасна, а производитель дерьма – глупец! А что вы хотите? Только прекрасные образцы? Вкус не воспитывается только на прекрасных образцах: надо и в «Макдональдс» захаживать, чебуреки уписывать, пивом наливаться. Это жизнь! Вон Каррера, последний (по тексту) муж Мерри Хаусмен: у него эрекция была слабая, изблядовался, – так он полюбил снимать на камеру, как другие с его женой забавляются; это его подстегивало. Нет ничего нового под луной: Калигула тоже, говорят, любил нечто подобное. Так что век-то ХХ1, а похоже на 1 по Рождестве Христове. А то, вишь, разложились, язычники! Скоро вас сменят Тертуллиан, да Фома Аквинат, да Плотин. Вишь, разложились, католики ХХ1 века! Скоро вас сменят мусульманские праведники, – нравственность-то у них построже. Они с вас ярмо содомии-то быстро совлекут! Насчет прав сексуальных меньшинств они по-своему распорядятся, не по Саттону.
Вот не поверите: вероятно, надо бы сострадать героям художественного произведения, а у меня ни один нерв не дрогнул, ни один флюид не двинулся: настолько ко всему паноптикуму Генри Саттона я оказался холоден. Точно альбом с групповухами его героя Карреры просмотрел от начала до конца. Точно сразу, обыдень, пообщался с Клавдием, Нероном, Апулеем, Петронием, маркизом де Садом, Юджин О`Тулом и Генри Саттоном. Скучно, ребята, заголяться, вредно для собственного нравственного здоровья. Держите себя в руках.
([битая ссылка] www.LiveLib.ru)Алексей ИВИН
94. Государи наши, с кого брать пример
Грицук-Галицкая И. А. Александр Невский. Триста лет рабства: Исторический роман-исследование. – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2010. – 288 с.
В моем арсенале все меньше идеализма и не остается похвал. Но с Ириной Галицкой мы занимаемся почти что одним делом (генеалогическими изысканиями); только она свои книги издает на бумаге, а я свои и в электронном виде не тороплюсь обнародовать.
Это наше общее дело затевалось давно и шло с переменным успехом. Еврейские пророки в Библии занимались тем же – исследовали взаимоотношения человека и рода и завершили, наконец, все мировое развитие гибелью и воскрешением одного из них. Как во всяком фольклоре, вранья, домыслов и фантастики в этих исследованиях много, а изобразительные средства несовершенны. Большой систематизатор и поэт Данте Алигьери занимался тем же – мстил своим родственникам и врагам в трехчастном исследовании, много вытряс грязного белья и явил метафизических красот. Взаимоотношения человека и рода художественно объясняли Голсуорси в «Саге о Форсайтах» и Золя в «Ругон-Маккарах». Но, конечно, наиболее уперты в эту проблематику историки; как правило, они не одобряют своеволие личности, а смотрят, насколько полезны деяния человека для государства и рода.
Ирина Галицкая, человек серьезный и увлеченный, проштудировала их всех: летописи, В. Татищева, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, Николая Костомарова, Г. Вернадского (я, например, честно признаюсь, Татищева не читал). Ее «Александр Невский» вовсе не роман, а исследование, точнее – поначалу несмелое, компилятивное изложение событий с редкими цитатами из историков. По крайней мере, до середины текста художественных сцен, которые бы давали право так обозначать жанр произведения, просто нет. Тут я вступаю в противоречие с самим собой, потому что, например, в романе Марселя Пруста «Беглянка» сцен и динамики как таковой тоже нет; там и диалог-то всего один, в конце. Значит, как в случае Пруста, роман может состоять из голого анализа, рассуждений и доводов. Историограф И. Галицкая собирает и обобщает фактографию, задавшись целью исследовать роль Александра Невского, его предшественников и потомков в трехсотлетней беде от татарского ига. Замысел большой и даже огромный, но чтобы его воплотить, Галицкая поступает не по-пророчески, как Иеремия или Данте, а по-учительски, для современной средней школы: потому что если эти триста лет писать глубоко, надо на это жизнь положить, как Карамзин.
От узко прикладного и энциклопедического подхода – впечатление не самое благоприятное: эклектической окрошки, обзорной генеалогии. Это как у еврейских пророков: как начнут перечислять, кто кого родил, так на десятки страниц, а действие ни с места и художественности ноль. То же и у Галицкой: имена и местности, выуженные у историков, пестрят, а стилистика оживляется, только когда какая-нибудь историческая женщина действует и страдает. Следовательно, о своем, о женском, писательница Галицкая вроде бы готова сказать художественно, но почему она взялась обобщать, сводить в летопись распри русских князьков – об этом можно только предполагать.
Вот чую: где-то читал я про это вероломное нападение князя Александра на шведских торговцев на невских берегах, и потому, что то была яркая историческая картина, запечатленная в художественном слове, она запомнилась, запала. Но у кого я ее читал? Не у Загоскина, нет? Не у Николая Полевого? Может, сам Карамзин испытал вдохновение, описывая этот эпизод? Важно, что, когда потом то же событие встретилось в слабом изложении Галицкой, эффект, конечно, оказался обратный.
Но у историка Галицкой есть то качество, от которого мы давно отвыкли: независимость исторической мысли. Помните, в средней школе нам упорно втюхивали, что московские князья, прямо от Ивана Калиты и Юрия Долгорукого, боролись за объединение русских земель вокруг Москвы, что, в конечном счете, предопределило освобождение от татарщины. Галицкая говорит, что всё как раз наоборот, что именно москвичи, интригуя в Золотой Орде против своих же, выхлопатывая ярлыки, впрямую наводя татар на русские земли, стравливая князей, предавая и грабя, – словом, перенимая управленческие методы завоевателей, обрекли земли центральной Руси на долгое порабощение. И действительно, откуда у казенных историков взялась эта теория – объединительной роли Москвы – бог весть, потому что у крупнейших русских историков ее нет и в помине. Так что Галицкая акцентирует наше внимание на роли «понизовских земель», в частности, Ярославля, в организации отпора завоевателям. А место страдальца Александра Невского, пресмыкательством добивавшегося у Орды льгот и полномочий, с успехом занимает ярославец Федор Чермный (о нем у писательницы есть отдельная книга).
От чтения отечественной истории в большом объеме возникает чувство тоски и абсурда, отнюдь не гордости: братоубийства, войны, насилия, поборы, пожары, грабежи, беспрерывные взаимные предательства и междоусобицы, а если князь поумнее, поскромнее и подомовитее, так о нем в истории ни слуху не духу. Работник на своей земле совершенно у нас неприемлем, а который спятил, родственников и соседей поубивал, море крови пролил – тем честь и хвала. И доныне так. И это, конечно, удручает, потому что подоснова нашей истории, в отличие от английской, например, – еще и личностное бесправие: ну, не может наш холоп, разве что с Крайнего Севера, лично противостать царю или успешно сопротивляться; так что произвол князей, чиновников и ханских баскаков ничем не ограничен.
Критикуя казенную историографию и роль Москвы как объединительного центра, Галицкая очерчивает события в тверских, новгородских, владимирских и ярославских землях и предлагает новые интерпретации. Почему на Неве и Чудском озере Александр выиграл сражения, и с чего все началось, не с вероломства ли? Почему Дмитрий Донской переоделся перед битвой в доспехи простого латника? Чтобы разделить судьбу своего народа? Ага! Кто привел Тохтамыша и Мамая и куда подевались высокопоставленные защитники Отечества в трудный момент? Все это непростые вопросы до сего дня.
В конце книги анонсированы – историческая трилогия Ирины Галицкой, состоящая из романов «Велесовы внуки», «Любовь и смерть Батыя», «Хан Федор Чермный», и книга «Божья коровка, улети на небко…» – на материале собственной родовой генеалогии. Вот эту последнюю, богато иллюстрированную, хорошо бы тоже прочесть – именно для того, чтобы сличить методы, свой и ее. Метод Галицкой наверняка предполагает задокументированность, объективность, хорошее внятное изложение и доброжелательное отношение к родственникам. Я же, особенно в неопубликованной книге «Путешествия по следам родни», везде провожу мысль, что родственники своему родовспомогателю и биографу такую судьбу, несчастную и коловратную, обеспечивают, что лучше бы родиться сиротой. Понимаете: тут проективность на уровне кармы, и пока ты, обусловленный родственниками, пишешь в своих романах-рассказах-историях, как герои женились, разводились, вешались, пили, воевали, умирали, лгали, любили, – они, прототипы, проживают спокойненько животной обывательской семейной жизнью, заботясь исключительно о себе, о прокормлении и размножении. И это очень обидная роль – обслуживать сто, двести дармоедов, решительно от тебя отвернувшихся ради обустройства личной жизни. Они живут, и им все по фигу, а ты в каком-то идеалистическом коконе бьешься ради неких высших целей (и это в эпоху ди-джеев и несусветной трепотни).
У каждого свой путь, свое призвание, и с этим трудно спорить. Еще до личного знакомства с книгами Галицкой, я слышал суждения о ней самые странные и противоречивые. Но мы можем судить (осуждать) художника, только отвергая его внутренние творческие законы. Если же мы эти его творческие принципы хоть чуточку уважаем, то примем и сами произведения. Вон, теперь повелось, в духе анти-либерального и патриотического движения, утверждать, что Окуджава писал свои исторические романы ради денег, что авторы серии «Пламенные революционеры» оказались поголовно диссидентами и эмигрантами, что нельзя быть лириком и историком одновременно, как Окуджава, ибо получается водянистая акварель вместо истории. Но что с того? Мне, например, нравятся эти прихотливые вольные вариации на темы гусарства и декабризма, эти многочисленные симпатичные фиги в кармане и поэтизация дворянства. Должно быть, Б. Ш. Окуджава искал и находил в той эпохе и в тех людях благородство и честь, которых не было у коммунистов.
Вот и Галицкая чего-то ищет в истории, чего нет в современности. Может быть, героические характеры. Может быть, здравых варварских идеалов русичей, чуди и мери, напрасно утраченных под давлением византийства. Может быть, свободы, величия и значимости событий, которых нет в нашей мелкотравчатой современности. Важно, что она это делает, а не отсиживается за высоким забором частных и домашних интересов.
А рабство… даже не знаю, что сказать. Оно чуть ли не вечно. Кончилось трехсотлетнее татаро-монгольское, началось трехсотлетнее династическое. Кончилось династическое правление, сразу надвинулись идеологические и выборно-демократические режимы, в которых громадную роль играет информационная война (то есть, опять-таки рабство). Так и живем. Важно ведь обозначить себя и противостоять напору обезличивающей государственности. Иногда, и даже в России, и женщины делают это неплохо. О романистках и поэтессах я много наслышан, а вот об историках – нет. Разве Ипатия в Египте…
(Журнал литературной критики и словесности)
95. Дела семейные, запутанные
Голсуорси Джон, Сага о Форсайтах. В 4тт. Т.1 Собственник: Роман/ пер. с англ. Н. Волжиной; Последнее лето Форсайта: Интерлюдия/ пер. М. Лорие. – М.: Известия, 1994. – 386 с.– Джон Голсуорси, Сага о Форсайтах. В 4 томах. Том 2. В петле. Пробуждение. Сдается внаем. – М.:Известия, 1994. – 516 с.
Роман Голсуорси я пробовал читать еще в 9-ом классе, но тогда дело не пошло. Я скоро понял, что это «критический реализм», то же, что Теодор Драйзер, Ромен Роллан и Генрих Манн, то есть, навязанное официальным литературоведением. К тому же, тот роман (не помню какой) оказался необыкновенно скучным, и я вернулся к любимым Джеку Лондону, Герберту Уэллсу и Александру Грину (эта троица меня вполне устраивала: занимательно, познавательно, критично). И хотя впоследствии эта самая сага неизменно включалась в экзаменационные билеты (и в пединституте, и в Литературном), я ухитрился все же проигнорировать ее. Это был правильный подход: не читать толстых и занудных книг.
И вот теперь собрался с духом: читать-то больше почти нечего (в личной библиотеке).
Ох, ребята! Необыкновенная скука! Едят, пьют, прогуливаются, заседают, встречаются, ходят на балы и концерты, – все выписано последовательно, серьезно, на редкость невыразительно, без малейшего английского юмора и даже без оживления. Герои в полнейшей праздности. Основа сюжета – строительство загородной виллы богачом Сомсом и шашни архитектора Босини с замужней леди, его женой. Нет отбора и типизации, хотя вроде с порога заявлено показать, какие они жадные, эти Форсайты. После 200-ой страницы читал по диагонали. Самая любовь Ирэн и архитектора Босини подана через восприятие других людей, замужняя Ирэн загадочно улыбается, архитектор нервничает.
Конечно, расчетливая сволочь – этот самый богач, но читатель все же хочет узнавать новости и обогащаться (духовно). На мой взгляд, у Голсуорси все тривиально, а пафос отсутствует.
И вывод я сделал совсем не тот, на который мне указывал автор. Автор порицал власть чистогана и как она губит бедных и талантливых людей, а я понял (прочтя потом и интерлюдию тоже), какие бывают странные бабы: от богача, который ее боготворил, ушла к нищему, который нервничал и вскоре погиб, потом служила всяким падшим шлюшкам, потом осветила последние дни 85-летнего старца (тоже вскоре умер, завещав ей часть наследства). Чего хочет женщина? Сочувствовать умирающим? И чего она все молчит и загадочно, как Джоконда, улыбается?
Главное, что у Голсуорси-то нет и в помине, чтобы его так поняли. Там-то весь смысл, какие они жадные и мстительные, Форсайты: за несколько сотен перерасходованных фунтов сгубил человека, а и жену отвратил окончательно. А мне показалось странным, что у нее такой причудливый характер.
Разумеется, большинство читателей поймут правильно: безнравственные богатеи, всех-то они пытаются купить-продать, всех и вся.
***
Нет, ребята, читать это в наши дни – подвиг. Абсолютная бездеятельность героев, богачей и аристократов, биржевиков, коллекционеров картин, эта их озабоченность условностями: муж не дает жене развода, не в силах преодолеть влечение к ней, – трудно все это постичь, вынести. Все они, островитяне, в липучих крепях условностей.
В первом романе очередного тома, «В петле», Сомс гоняется за двумя зайцами – пытается вернуть бывшую жену Ирэн, которая ушла к двоюродному братцу Джолиону, и даже устанавливает позорную слежку за нею в Париже. Сам же хочет жениться на француженке Аннет. Наконец супругам удается развестись. Англо-бурская война, патриотизм, нелепая гибель одного из младших Форсайтов. Со смертью королевы Виктории в 1901 году из истории Англии уходит целая эпоха (викторианская). Джолион и Ирэн поженились.
Всё о чувствах, о чувствах, о чувствах, и всегда так тонко, с разбором и нюансировкой: Пруст, Прус, Голсуорси, утомительно, черт возьми! В 20-х годах ХХ века, после Первой мировой войны, началось, вероятно, поветрие, личная жизнь и отношения полов par excellence.
Интерлюдия «Пробуждение»: мальчик Джон хочет спать с мамой (с Ирэн). Подход к делу, к фактуре жизни у Голсуорси не аналитический, а обозревательский. Он как бы порхает, потому что боится иметь дело со страстями и экспрессией; он взвешен и английский джентльмен. Но он мне, читателю, ни в чем не помог в моих генетических разбирательствах и поисках сути.
Убежден: все мы делаем согласную и значимую работу (а если она не значима, быстро ее меняем). Видимо, той же Надежде Давыдовне Вольпин, переводчице романа «Сдается внаем», что-то требовалось узнать-уяснить в своих отношениях родства. А в романе Голсуорси (перевод 1926 года, старый, но не архаичный) изображены словесными средствами (потому что «проанализированы» неправильно: Голсуорси скорее тривиален, чем аналитичен, афоризма у него не встретишь) именно отношения родства: отцов и детей (Сомса и его взрослой французской дочери Флер, Ирэн и ее взрослого сына Джона, того, который к маме в постельку стремился, а также самих Флер и Джона, этаких Монтекки и Капулетти). То есть, это было важно для самой Вольпин, «гражданской» жены Сергея Есенина.
Все-таки евреи не могут поладить с русскими, изначально; возможно, потому, что талантливые русские люди из культуры не делают бога, снобами почти не бывают (тогда как среди евреев вообще нет не снобов) и по мироощущению скорее анархисты или пантеисты, но никак не почитатели Закона и Правил, то есть, такого Бога, который там, наверху, все расписал. Ясно, что пьяница Есенин и имажинистка Вольпин поладили совсем ненадолго.
Но из своего перевода Н. Д. Вольпин извлекла очевидную пользу, и перевод хорош. «Image» имажинистов в нем есть, тем более что и сама проза Голсуорси не чужда беглой изобразительности и картинности. Но больше в ней, конечно, чувствительности и боязливой чувственности, пуританской сдержанности и вечной какой-то озабоченности долголетием (напомним, что сама Н. Д. Вольпин прожила 98 лет). Голсуорси определенно заинтересован, как эти чертяки Форсайты столь долго живут, как этот столетний Тимоти умудрился даже о первой мировой войне не узнать и бомбардировок с немецких цеппелинов не бояться. Это определенно «пунктик» самого писателя Голсуорси – долголетие; и он, конечно, склонен объяснять его приверженностью к порядку и традициям. Ну, а уж отношения матери с сыном и дочери с отцом в этом романе даны великолепно (а мы помним, сколько потом пришлось самой Н. Д. Вольпин защищать своего сына А. С. Есенина-Вольпина, когда того начали преследовать и травить за диссидентство). Иначе говоря, личная проекция, потребность в том, чтобы перевести именно этот роман, у Вольпин была. Но в России, конечно, совсем иной расклад, чем в Англии, в том числе и в отношениях родства.
По сути, роман-то, если осовременивать проблематику, о том, как воспитывать разнополых детишек: матери – сына, который к ней чересчур привязан, отцу – дочь, которая все ластится и хитрит с ним.
В этом, втором романе, Сомс опять внакладе, т.к. жена Аннет завела шашни с армяно-бельгийцем, а дочь Флер с Джоном, сыном его бывшей жены Ирэн. Умер отец Джона, Джолион. Отношения Флер и Джона расстроились из-за давней вражды двоюродных Форсайтов, Сомса и Джолиона. После многих объяснений с врагами, отцом и дочерью, после устройства выставки покойному мужу и отцу, художнику, мать с сыном уезжают в Америку. Джон отказал Флер, и не раз, и та с горя вышла замуж за другого. 100-летний Тимоти наконец умер, на его похоронах и на свадьбе Флер производится смотр родни (и в склепе, на кладбище, и в церкви, на венчании). Форсайты тут все. А старик этот, Тимоти, так тот вообще завещает свои денежки праправнукам.
Роман показался мне тяжелым, безотрадным и беспросветным, если судить эмоционально; он вовлекает и требует сопереживания и сострадания, а мне это ни к чему, излишне – расстраиваться из-за книжных героев. Какой-то он боязливый, или благовоспитанный, или уж не знаю что, этот Джон Голсуорси. Но перевод в целом хороший, даже блестящий, бывшая жена Есенина отлично справилась с делом.
Вот, ребята, что происходит, когда сын спит с мамой, а дочь – с отцом: они потом становятся «нещасными» и устроить личную жизнь не умеют. (Это, конечно, паясничанье, но близко к сути). Не нашел я в романах саги пока что никакой критики капитализма, а ведь именно под этой маркой – критик буржуазных устоев – шел Голсуорси у наших литературоведов.
([битая ссылка] www.LiveLib.ru)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































