Текст книги "Рецензистика. Том 2"
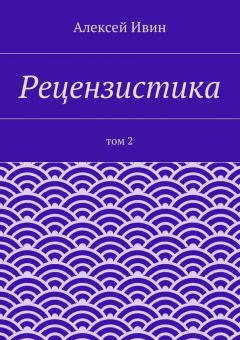
Автор книги: Д. Д.
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
125. Пробуждение от сна
Пробуждение: Рассказы ирландских писателей. Сборник/ Пер. с англ., сост. М. Шерешевской и Л. Поляковой, предисл. М. Шерешевской. – Л.: ИХЛ, 1975. – 480 с.
И прежде издавали хорошие книжки. В этой, например, сумели проскочить, не замеченные нашей цензурой, два жупела советского литературоведения – Джеймс Джойс и Уильям Батлер Йейес, оба с рассказами.
Уильям Йейтс в рассказе «Рыжий Ханрахан» замечательно изложил популярный кельтский сказочный мотив с исчезновением человека: оказавшись в определенной заколдованной местности, рыжий Ханрахан не помнит, где был, в течение года так и не дойдя до любимой девушки. Психический феномен: человек потерял ориентацию в времени, заблудился.
Эдит Сомервиль и Мартин Росс работали вместе. Рассказы «Святой остров» – про кораблекрушение винных бочек – и «Апрельская рыбка», – про лосося, которого везли в подарок, да так и не довезли, – написаны с замечательным юмором.
Джордж Мур излишне суров и пишет всё о бедных. Джеймс Стивнс интересен непринужденной интонацией и своеобразным юмором, особенно в рассказе «Трехпенсовик»: про грешника и ангела, которые из-за денег оба отправились на землю, один из ада, другой с небес. Фрэнк О`Коннор, признанный классик, написал великолепный рассказ «Гости ирландского народа»: о том, как патриоты из ИРА расстреляли двух заложников-англичан, которые совсем было отогрелись на добром попечении соседей. Давно так не смеялся, как над рассказом «Первая исповедь», – о том, как мальчик, которого постоянно обижает старшая сестра, впервые был на исповеди; вот подлинно свободное отношение к религии. В той же тональности рассказ «Пьянчужка»: о мальчике, который по ошибке в кабаке выпил пиво отца и тем самым спас того от запоя.
Притчеобразный Лайэм О`Флаэрти (рассказы «Шиллинг», «Ястреб»), романтичный Уолтер Маккин («Поцелуй»: как священник поженил детей, и «Моя соседка»: про умершую от гордости дочь туманного Альбиона) расширяют тематику и разнообразят изобразительные средства сборника ирландских рассказов. Замечателен также рассказ Шона О`Фаолейна «Форель».
Я сбиваюсь на пересказ, но, в общем, у меня нет претензий к художественной стороне книги. Оказывается, ирландцы очень любят свою родину, борются с англичанами и отнюдь не согласны с определением «террористы», которое им навешивают. Вот, может быть, когда и шотландцы захотят самоопределения, ирландцы отвоюют, заодно и пользуясь случаем, Белфаст и всю Северную Ирландию.
Алексей ИВИН
126. Рецензия OLJOHNAA
([битая ссылка] www.knigotopia.ru на «ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА» SATELLITE44)
Я человек еще не старый, преемника не ищу, но и меня поражает количество такой, с позволения сказать, литературы. Озаглавлена она обычно так: «ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ СРЕДИЗЕМЬЯ. Часть 2387. Восстание теленгеров в Луксоре» (простите, М. Белозеров и египетские гробницы!). Но этот автор назвал свою подборку скромно и с достоинством: «Четыре рассказа». Я обрадовался: ну, наконец-то прочту про объективную действительность глазами 44-летнего! А то все эти 20-летние городские мальчики сидят по каморкам и, утесненные обстоятельствами, нищетой и родней, предаются выдумкам, фантазируют, бегут от действительности. Повальный эскапизм.
Но, увы, и Сателлит44 оказался такой же. Фантазирование как самоцель, тотальный научный эклектизм, изобразительность на нуле или подменена бойкими бессодержательными разговорами (стебом) Нет, Сателлит 44 вполне грамотен, он даже не опускается до пошлости (а это легко, если герои, как в первом рассказе, сидят в мусорном баке). Тяжелое впечатление вторичности, мешанина из Саймака, кинолент вроде Матрицы, Толкиена и прочей лабуды (ею погребены все 100 процентов нашей молодой субкультуры).
И я рассвирепел.
Понимаете, Сателлит44: быть сталкером свалок и городских трущоб и с головой выдавать свое подсознание, в котором только пищеварительные, кулинарные озабоченности и неприязнь к Крысам – вот это можно понять из представленных четырех рассказов. Вы проанализируйте, может, не стоит писать 60 страниц текста, а просто удалить от себя, например, родственника, рожденного в год Крысы, потому что он угнетает вас агрессивностью. Подсознание в 4 рассказах есть, неприязнь к грызунам есть, даже культура есть, а динамики, характеров, познавательного или научно-фантастического интереса, как у всех этих Кларков, Хайнлайнов, Ле Гуин и Гаррисонов, – нет как нет. Они оригинальны и занимательны, а вы пока нет. Вторично, подражательно, имитация, «мясная соя». Обидно? А что делать? «Горючее прогорело» – впечатление от всего текста как от этой фразы. Здесь все чепуха, ни копейки правды, а в фантастике она есть, должна быть. Другое дело, что этот «текст» вполне можно издать под вывеской Лукьяненко, Ника Перумова или кто там еще пишет фантастику. Их толстые волюмы еще глупее. Но ведь это не оправдание. Это не полемика с вами, не спор старпера с молодым гением, а констатация творческой неудачи. Бессодержательные выдумщики, что они дурью-то маются? Ведь есть же, наверное, какой-то собственный опыт, на основании которого можно написать что-нибудь стоящее. Последний рассказ с трудом дочитывал: прямо базар на кухне в советском фильме эпохи застоя: все пьяны, никто никого не слышит и не слушает, а тщатся, а тужатся на эпос. Все-таки странная у нас проза, русская: сюжета, поступков, картинности и целенаправленности ни малейшей. Что художественность это отбор изобразительных средств – у них и в мыслях нет. И чего они все так тронулись рассудком? Ведь на их памяти была всего одна революция, информационно-технологическая.
127. Садриддин Айни
Садриддин Айни, Смерть ростовщика: Роман/ пер. с таджик. О. Сухаревой, предисл, автора. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. – 180 с.
Безотрадная книга, и тип выведен отвратительный. И вообще: так и кажется, что бы среднеазиатские авторы (и арабы) ни писали, они всегда пишут «Книгу о скупых» аль-Джахиза. Столько в классической литературе Востока выведено менял, скупцов, жадин, обжор, жирных грязнуль, что оптимизма самого Ходжи Насреддина не хватит им противостать.
128. Светлое прошлое
Грицук-Галицкая И. А. Мерянский роман о князе Ярославе и мудреных женах: Роман, рассказы. – Ярославль, Рыбинск: Рыбинский Дом печати. 2014. – 352 с, ил. – ISBN 978—5—88697—240—5
Есть примета, шутейная, но зачастую справедливая: если повседневная сумка у женщины большая, набита и из нее что-нибудь торчит (лист ватмана, булка или вязальная спица), то такая женщина щедрая, активная и самостоятельная; если же ридикюль, крохотная сумка или портмоне и она его прижимает к груди, то перед вами эгоистка, вымогательница, трет к носу, расчетлива и никогда ничем не поделится с ближним. На ранних фотографиях Ирина Грицук, в окружении подруг или одна, часто держит необъятную сумищу, куда можно много чего положить. И действительно, человек она взаправду щедрый. Душевно щедрый.
«Мерянский роман о князе Ярославе и мудреных женах» я вначале читал в интернет-версии на сервере «Проза. ру» и только потом в книге. Рассматривается период Киевской Руси от Владимира Красное Солнышко до смерти его сына Ярослава, то есть где-то 1000—1050 годы. Композиция – маленькие главы посвящены ратным подвигам и семейным распрям князей, в том числе иноземных, – придает роману странно мозаичный, фрагментарный вид – калейдоскопически конспективный обзор древнерусской истории этих лет, когда христианство еще не утвердилось, а язычество еще не пало. И вот этого язычества, рудиментов примитивных верований, примет и явлений колдовства, ведовства сразу же находишь много в тексте (наряду с документализмом историков – Карамзина и, видимо, Соловьева – и саг).
Я было хотел сравнить мистицизм, чертовщину и глубокую волшбу этой книги Ирины Галицкой-Грицук с прозой (и поэзией) ее земляка, ярославца Михаила Кузмина, но у того ведь сдвиг в волшебный мир и сюрреализм совсем другого свойства – от цыганского происхождения, европейской образованности, от папы (по-моему, папы?) француза, от модернистских установок братьев по перу (один Блок с Сологубом и Брюсовым чего стоят!) и, наконец, от гомосексуализма. Кузмин странен еще и от девиантного поведения и выслушал при жизни много упреков на сей счет. Если бы он не умер, его все равно бы расстреляли в 1937 году.
Я бы тоже притянул за уши сюда Федора Сологуба с его навьими чарами, передоновщиной, недотыкомками, но романистика Сологуба это – реалистическая бытовая фантастика, гротеск, сюр и, конечно, болезненная мнительность: Федор Кузьмич ведь фантазировал от бедности и скудости реальной жизни, это почти китайщина (лисы, чары, сглаз).
У Ирины же Грицук фантастика и языческий элемент не более чем инкрустация, орнамент, прикладная демонология человека, изучавшего языческие мифы, верования и обрядовость, в частности, мерян (так называемую «Велесову книгу» и другое). Это, так сказать, декорум к историческому тексту, к семейно-историческим хроникам первых русских князей. Можно даже сказать, что это – неорганические вкрапления, но – зато! – писательница избежала той беды, которая поразила многих исторических романистов – мрачности колорита, культа ранних христианских святых, религиозного фанатизма, елейности и убожества новообращенных крещеных русичей: быт-то по-прежнему оставался тяжелым, звериным. В такой роман погружаешься (у того же Н. Полевого) как в некую идеологизированную смрадную молельню, где накурено ладану не продохнуть, а изображение размыто каким-то всеобщим страданием и мученичеством, как в поздних житиях. В «Мудреных женах…» И. Галицкой-Грицук христианства и аскезы почти не чувствуется, а скальдическая простота и ясность высветляют и кристаллизуют текст. Она рассказывает с в о ю сагу по мотивам исторических хроник, нет там никакого фанатизма и сильно верующих монахов, а оборотничество, идолопоклонство, языческие образы – не тяжелее и не свирепее, чем современные, – про домовенка Кузю или про волка на свадьбе («Щас спою!»). То есть, ее бесовский инструментарий – это ее юмор, ее иносказание, симпатии к чуди, мери, ляхам, свеям, к племенному устройству Руси. (Да и, наконец, Луна, таинственное влияние Луны на водные знаки). В романе, конечно, показана христианизация мери и всех понизовских земель (поход Ярослава с дружиной и Илариона (с одним «л»! ) и основание Ярославля), но не огнем и мечом, а новым примером. Так что прошу истово верующих православных не обижаться; обижайтесь вон на «Огненного ангела» В. Брюсова или на «Мелкого беса» Ф. Сологуба, а на «Мудреных жен» И. Грицук – не надо: роман не тяжел для восприятия; прямо руны, да и только, ясность Снорри Стурлусона. Светлая орнаментальная проза.
Длинненькие рассказы также фрагментированы короткими главками, что придает им сюжетность, а изложению живость. Они, в основном, автобиографичные и отчасти иллюстрированы фотографиями. Очень симпатичная проза, много юмора без пошлости. Персонажи (романа) в изображении художника отчего-то часто предстают с чупринами запорожских казаков, но, по-моему, тут уж художник начудесил, с него и спрос, ибо это историческое несоответствие (а может, новая актуализация).
Вот, понимаете, какая штука: вы всё жалуетесь, что учебники по истории плохие, изложение то пристрастное, то скучное, толкование фактов либеральное и не патриотичное. А вот пожалуйста: в книге И. Галицкой-Грицук нет ни единого намека на правоту или вину тех или иных деятелей, на пользу или вред для единства Руси, на их объединительную или разрушительную роль, зато обстановка, дух, быт и факты – есть, и они художественны, то есть легко воспримутся даже школьниками. Вот бы еще издать эту книгу тиражом, каким те учебники изданы. А то ведь одни слезы от ее тиража.
(рецензия опубликована в ж. «Москва»)
129. Свидетельства старины в современной полиграфии
Левочкин И. В. Миниатюры рукописных книг Х11-ХХ веков. Из фондов РГБ: Альбом/ вступит. статьи Ю. М. Лощица, А. Д. Заболоцкого. – М.: 2014 г. – 208 с., б/т.
Папирус, харатья, берестяная грамота, руны, глиняная табличка, палимпсест, свиток, манускрипт (буквально, рукопись) – как вам такие слова? Это все термины палеографии, науки о древних изображениях, в том числе письменных. (В юности я увлекался ею, – к сожалению, всего одну неделю, пока читал соответствующий учебник).
Рукописи, как известно, не горят, но вот, однако же, они горели недавно в ИНИОН. Следовательно, угроза гибели письменных памятников истории остается. Преступное небрежение и забвение по-прежнему уничтожают бесценные свидетельства раннехристианской письменности. В домонгольской Руси она уже была развита, существовали сотни храмов, справлялись службы, но трехсотлетнее иго, пожары, грабежи, разор пагубно сказались на сохранности рукописей: подавляющего большинства рукописных книг Х11-ХУ1 веков мы просто теперь не найдем, – исчезли. Тем более важно издать их, и по возможности факсимильно, чтобы обезопасить от уничтожения.
Одно такое издание было предпринято Благотворительным фондом «Энциклопедия Серафима Саровского» (президент М. О. Мендоса-Бландон) при спонсорском участии Уральской горно-металлургической кампании и Российской государственной библиотеки. Именно Рукописный отдел РГБ представлял недавно скончавшийся ученый, доктор исторических наук И. В. Левочкин. Издание посвящено его памяти.
Это, собственно, альбом. Основной его корпус составляют миниатюры, отобранные к публикации самим Левочкиным, когда он еще был жив. Сборнику предпослана его статья «Образ Христа Спасителя в русской книжной литературе». Древняя книжная миниатюра была призвана проиллюстрировать библейские и евангельские события и располагалась часто на отдельной странице, в тексте или даже на полях рукописи. В этом альбоме, в частности, прослежен весь земной путь Христа, Рождество, Крещение, проповеди и чудотворения, Тайная Вечеря, Голгофа, воскрешение. Но составители альбома учли записи ученого и его пожелания и добавили еще 66 миниатюр, в которых рассказывается также о деяниях апостолов, светил византийской церкви и русских святых.
Писатель и историк Ю. М. Лощиц во вступительной статье попытался по воспоминаниям воссоздать облик ученого и энтузиаста И. В. Левочкина, хранителя Рукописного фонда в Доме Пашкова, и это ему в определенной мере удалось. Близко знавший покойного ученого А. Д. Заболоцкий упрекает руководство издательства «Русская книга», которое за долгие годы так и не сумело издать книгу миниатюр (250 сюжетов), целиком подготовленных и откомментированных Левочкиным. То, что издано здесь, – лишь жалкие крохи и остатки той огромной работы.
Как известно, книжные миниатюры, равно как и древнерусские иконы, отличались условностью и эмблематичностью изображения: дерево на этих рисунках – дерево вообще (даже то, по которому вьется змий-искуситель с яблоком), а не конкретно смоковница или пальма. Такая символическая, стяженная изография позволяла нагляднее представить события, о которых повествуется. Характерно, что ближневосточные, семитические лики изображены только на одной миниатюре, а в основном это русые люди (и Христос, и апостолы, и святые); если же художник был не столь искусен, а книга не предназначалась для князя или высокого духовенства, – прямо простонародные: кудрявые русские мужики. Ближе к ХХ веку и каллиграфия, и прописи, и живопись в манускриптах становятся все более четкими и качественными (по технике).
Книги, писанные от руки дьячком-переписчиком при свечах и изукрашенные потом миниатюристом-«богомазом», уже сами по себе продукт индивидуального труда, раритет. Такие или похожие книги я малышом видел в бабушкином сундуке, у П. И. Корепановой в деревне Стуловская Тарногского района Вологодской области. Писанные уставом, полууставом, с заставками и расписными начальными буквами, в кожаных переплетах и часто в деревянных окладах с застежками, они лежали среди свежих цветных половиков и тканья. Это были определенно старопечатные книги, а может, и рукописные. Сплошная, без перерывов и абзацев, вязь строк была недоступна ребенку, но цветные изображения святых и странных кукольных домиков его интересовали. Возможно, по этим книгам бабушка пыталась учить меня грамоте, но я был еще слишком мал. Богослужение в ближних деревнях вряд ли где проводилось, храма не было; книги просто приберегали на всякий случай. Не может ведь Никита (Н. С. Хрущев) все церкви разорить и повсюду добраться. В сундуке-то оно надежнее. Где теперь найдешь эти книги, если даже самой деревни уже нет? Вместо нее – сенокос, а если бы не косили, и место давно заросло бы лесом.
Утраты в людях, в документах, в свидетельствах быта и письменности невосполнимы. Но если правда, что Слово – это Бог, а изображение – знак вечности, важно воспользоваться возможностями современной полиграфии и новейших информационных технологий и закрепить, законсервировать в книгах артефакты минувших времен.
(опубликована в ж. «Москва», №4/2015)
130. Симулянты чесоточные
Окуджава Б. Ш. Свидание с Бонапартом: Роман – М.: Сов. писатель, 1985. – 288 с., ил., тир. 200 тыс. экз. Данилевский Г. П. Княжна Тараканова. Сожженная Москва: Романы/предисл., примеч. В. Мещерякова, ил. А. Иткина. – Киев: Днiпро, 1987. – 368 с., ил., тир. 500 тыс. экз.
Литература развивается так, что в ней с годами теряются существенные элементы. Многое, видимо, зависит от научно-технических и цивилизационных достижений. Это похоже на то, как если бы репу выращивали на грядах и удобряли навозом, – это одна репа, и у нее один, изначальный вкус здорового корнеплода. Потом на репу пошел спрос, под нее отвели крупные земельные угодья, удобряли минеральными, промышленно-произведенными удобрениями, и у такой репы уже иной вкус: она дальше от натуры из-за развившейся технологии ее выращивания. Но ее по-прежнему массово потребляют, как то было в Древнем Риме. Наконец открыли, завезли и начали выращивать картофель, и эта бульба так распространилась, что о репе забыли и думать: где-то, на окраинах империи, где живут упорные анахореты и староверы, ею еще засевают приусадебные участки, но она уже воспринимается как реликт, баловство, а технологии ее возделывания частично утрачены. Это уже декадентная репа, она в упадке, она пахнет ремонтантной клубникой и таит в себе изъяны вырождения.
Именно изобретение братьев Люмьер – кинематограф – стал для литературы тем картофелем, под натиском которого она выродилась и измельчала. Пока у цивилизации не было возможностей воспроизводить действительность в цвете, в звуке и в движении, писатели Х1Х века брали на себя эти функции изобразительности, и кого ни привлеки – Пушкина, Льва Толстого, Левитова, Тургенева, – они изображали и инсценировали реальность так, что она представала во вкусе, в запахе, в цвете, в движении, озвученная документально-точной речью (народно-поэтической или салонной, все равно), – и это был тот универсализм, когда в слове аккумулировалось всё, многое. Писатель был звукооператором, режиссером, живописцем, драматургом, детективом, программистом, фантастом и выдумщиком, фотографом и футуристом. Но только до той поры, пока фотография, киносъемка не отняли у него этот универсализм. Репу по-прежнему ели, но картошка оказалась предпочтительнее. У репы же, то есть у литературы, с началом ХХ века появились черты деградации, упадка, декаданса, вырождения, разложения универсализма и богатства на упрощенные ингредиенты. Левитов и Глеб Успенский – русские очеркисты Х1Х века, но я в восторге от живописных и жанровых сцен, которые силой воображения, житейского опыта и наблюдательности представляют мне эти писатели. У них еще не атрофировались функции живописца, природоведа, драматурга, звукооператора, и своим могучим воображением они так развертывали перед читателем сцену, что она дышала, двигалась и запоминалась как типическая, как реальная. Вот эти писатели – без изъяна, их репа натуральна, велика, ароматна; и дедка, и бабка, и внучка, и жучка, и кошка, и мышка тянут эту репку и наслаждаются ею.
У тех же воспитанников ХХ века, которые уже посещали фотостудию и кинотеатр, что-то сломалось и испортилось внутри, и хотя они тоже отображали действительность на бумаге в художественном слове, цвет они уже отдали кинематографу, звук – фонографу и звукозаписи, и даже страсти и поведение – прикладной психиатрии и психоанализу на откуп. Они уже не выглядели гигантами, а скорее пигмеями каждый со своими специфическими уродствами: Александр Блок со своей невнятицей и зыбкостью, Михаил Кузмин со своей историософией, эскапизмом и перверсиями, Есенин с сельской лирикой, тоской и разгулом, Хлебников с бесстрашным сумасшествием и почти полной графоманией, Маяковский с позой трибуна и пролетарской пользой для истории, Амфитеатров с добротной художественной документалистикой, Куприн с его журналистскими установками все попробовать, испытать и описать, Грин с бегством в области мечты и картинного сновидения, Михаил Булгаков с последними, отчаянными усилиями словесной изобразительности, уже вполне фельетонной. Все эти и многие другие писатели ХХ века резко индивидуализированы по свойствам и качествам таланта, но они уже понимали, что действие, цвет, звук и поведение человека в кинематографе можно передать лучше, чем в слове силой воображения. (Мы сейчас не станем особо подчеркивать, что тот же упадок мощи и переоценку собственных возможностей испытывали в те же годы и художники, и архитекторы, и музыканты, и философы, и театралы). Раз есть кинематограф, есть движущееся изображение, с кем мне соперничать и соревноваться? Я заранее уступаю ему эту сферу жизнепознания, а сам удаляюсь на природу, в лес, в еще живую натуру, которую пока что некому живописать; и так поступили, например, Пришвин, Соколов-Микитов, Бианки. Изобразительность, едва установившаяся и расцветшая в Х1Х веке, в ХХ веке уже девальвировалась, пошла на убыль, могучий поток разменялся на ручейки и заглох местами в болоте.
В ХХ веке среди писателей уже появились дрянные халтурщики, инвалиды на костылях и обманщики читающей публики. (И, кстати, гораздо обширнее оказались представлены евреи: именно по статьям и статям надувательства, мессианства, подлога, обмана и дезинформации, в которых они опытны со времен зарождения христианства: это всё приметы жреческого искусства).
Лишившись дворянской или хотя бы разночинной кастовости, писатели возымели мещанскую или даже босяцкую житейскую философию. Понижение социального статуса – вроде бы демократическое ноу-хау, но и личность, испытавшая поражение в социальных правах, оказалась гораздо более подверженной силе государства, оказалась повержена и раздавлена ею. Возьмите того же А. М. Горького, вполне себе сильного по изобразительности и воздействию, возьмите А. Фадеева, классически убедительного в первых своих произведениях, возьмите М. Шолохова – все они, нанимаясь на государеву службу, писали все хуже и хуже, вплоть до полного морального краха. Иначе говоря, уже и с государством они не смогли успешно подружиться: это вам не державинская Фелица, которую воспеть искренне сам Бог велел, – это тоталитарная Россия ХХ века, злая мачеха даже для избранных сынов. И посмотрите, как официально беспомощны «Черная металлургия», «Жизнь Клима Самгина» и поздние пьесы Горького, скучнейшая трилогия А. Н. Толстого и простые, описательные, как силикатный кирпич, опусы Константина Федина. Девальвация, снижение критериев и декаданс? Безусловно. Безликая сила государства восторжествовала над индивидуальностью сочинителя, который, вроде бы по статусу, сам демиург и креатор. («Поэт» в переводе с греческого «делатель», «деятель»).
А ХХ1 век, наши дни – это уже полная чехарда: пестро, как мультипликация, повсеместно бездарно и натужливо, бал-маскарад теней и паяцев на любой вкус. Нынешний писатель не в состоянии уже ни сцену написать, ни живой диалог сочинить, ни вообразить Гринландию или Йокнапатофу, а что до изобразительности – ноль, ноль: нет изобразительной убедительности ни в собственных ресурсах, ни в перенятых от классиков, ни в усвоенных в Литинституте. Потому что изобразительность должна быть своя. Но наши литераторы уже преимущественно рассказывают (или даже сказывают), а не показывают. Зачем показывать? Зряшная трата сил, нервов, калорий. Кино вполне успешно и лучше справится с картинностью и цветом. Да вот и Интернет провели в каждый дом. Об чем тужить, зачем пыжиться и лезть из кожи вон? Всё, ребята, амба: капитаны Копейкины, вполне себе уроды на содержании и социальном обеспечении, маргиналы все до единого по всем статьям. Пишут все как нанятые, как Хулио Кортасар – отовсюду обо всем бегло, обзорно, бойко, отвязно и развязно, в надежде на строкаж, листаж и объем, с предвидением, как потом переделать свой увраж в киносценарий и оживить плохие ходульные и высосанные фигуры хоть с помощью живых актеров.
Из опасения, что не справлюсь с задачей и утону, в этом пассаже этой статьи я выкину лоцманские опознавательные буйки, чтобы, когда они всплывут на поверхность, обозначить место, где меня следует искать. Меня следует искать поблизости от романов Б. Окуджавы «Свидание с Бонапартом», Г. Данилевского «Сожженная Москва», некоторых изысканий исследовательницы «белого движения» Е. Семеновой (напр., трехтомного полудокументального романа «Честь – никому»), а также поблизости от романа Л. Н. Толстого «Война и мир» и четырехсерийного одноименного фильма С. Бондарчука. Речь, скорее всего, пойдет о народности, аристократии и демократии, о монархизме, о дворянстве и патриотизме, если только не отнесет в сторону от этих понятий; разбирая эти произведения, ими, этими понятиями, поневоле придется многое описывать.
Вы уже решили, что чесоточными симулянтами, а может, и клещами я назову Григория Данилевского или Булата Окуджаву? А вот и нет. Я даже Е. В. Семенову так не назову, хотя ее суровые, фанатичные речи, приличествующие разве русской террористке образца 1880 года или курсистке, у которой брат в царской тюрьме (всё перевернулось в доме Облонских и уложилось в обратную сторону), вполне бы такого определения заслуживали. Нет, чесоточными симулянтами я в этой статье называю почти всех современных русских романистов: пишут и вообще высказываются они из подавленных личных комплексов и задержанных инстинктов (онанизм, в доме родителей непорядки, выговориться и исповедаться напрямую не давали, а все только к сублимации подталкивали, – да мало ли какие побудительные движители «творчества»): и сказать-то им хочется, и честолюбие есть, и примеры и образцы, но все у них как у завшивевшего солдата: вместо боевой отваги и наполеоновских воплощенных мечтаний – стрельба мимо цели из фронтового окопа (из-за почесухи).
Они умны, они зачастую критикуют не свое время и свои нравы, а прошедшие. Это как и в семье: вы недовольны дочерью, а ругаете и пинаете кошку, собаку или первого встречного. Это называется табу, социальный запрет, вытеснение из сознания реального врага, реальной угрозы, замещение субъекта. Вот поэтому я, как минимум, не понимаю тех, кто поднимает на щит дворянство, белогвардейцев, царя и монархизм в целом. Во-первых, это новый социальный заказ – один к одному прежнее строительство коммунизма, – провозглашенный властью после реабилитации Романовых. Нынешние монархисты элементарно исполняют госзаказ. Им, конечно, невдомек, что революции 1905 года и Октябрьская широко демократизировали общество, привлекли множество крестьян, рабочих и мещан к строительству новой жизни. Для новых исследователей они – хамы, быдло, а жертвы – царские офицеры, безвольный дегенеративный Николашка, полное воплощение действительных «достоинств» дворянского класса. И, как правило, такие исследователи (Е. В. Семенова, в частности) с порога отметают пролетарскую культуру. Ну, возможно, мне это обидно, потому что я сам рабоче-крестьянского происхождения и на дух не переношу людей вроде Кс. Собчак, жирующих на чужой карме и «благородном» происхождении. А во-вторых, ведь все эти Бедные, Голодные, Горькие, Веселые, Маяковские, Скитальцы – видите, сколько бомжеватости уже в самих фамилиях? – великая, очень демократическая литература. И, честное слово, какой-нибудь «Железный поток» куда энергичнее и лучше написан, чем стихи Арсения Несмелова. И Есенина с Михаилом Булгаковым дворянами не назовешь. И не надо бы в этом случае быть модными и официальными и клеймить тех, кого приказано. Надо быть объективными и понимать, до какой степени выморочным уже в Х1Х веке стало дворянское сословие.
«Сожженная Москва» – замечательное произведение автора Х1Х века, который еще не знал кинематографа и успешно замещал его в своей прозе. Посмотрите, какие отличные, живые народные сцены в романе, как ярко полыхают московские усадьбы, каково патриотическое единение крестьян, ополченцев и москвичей с дворянами в минуту опасности от Наполеона. Сюжет, как всегда у Данилевского, отлично построен, зарево пожарища отчетливо и в красках изображено, фигуры движутся, французы и защитники Отечества – не картонные, а каждый со своим кодексом чести; и при этом сколько хохляцкой теплоты и юмора: почти как у Гоголя или Квитки-Основьяненко. Притом роман отнюдь не перепевает «Войну и мир» графа Л. Н. Толстого, уже к тому времени, по-моему, опубликованную.
Но Булат Окуджава уже осознавал преимущества цветной фотографии и любил кино. Его повествование – роман «Свидание с Бонапартом» – витиевато и франтовато, в стилистике гусарской отваги и фронды (либералы брежневского времени, в том числе коммунист Окуджава, почти все были фрондерами). Но именно потому, что для того, чтобы симпатизировать дворянам и юнкерам, в те дни требовалось определенное гражданское мужество и романтизированное дворянство в изображении фрондирующего поэта представало чуть ли не святым – в пику гнусным советским чинушам и бюрократам, – именно поэтому роман производит еще хорошее впечатление. Худшее, чем роман Данилевского, но все же благоприятное. Жанр романа у Окуджавы не искажен, не похерен, он построен по жанровым правилам, которые способствуют восприятию. Но сцены уже тускнеют, хотя изящны и благородны, краски поблекли, изложение витиевато и стилизовано, сюжет – из-за того что герои переписываются – растянут на годы и, в общем, строился по ходу дела, в процессе сочинительства: «Исторический роман /Сочинял я понемногу,/ Пробираясь, как в туман,/ От пролога к эпилогу./ Каждый пишет, как он дышит./ Как он дышит, так и пишет, /Не стараясь угодить». Вечный школяр, мудрый резонер Булат Окуджава.
Судя по глухим толкам тех лет, общественность отнеслась к роману плохо: вроде бы говорили или писали об игривости пера и нехватке историзма. Песни Булата Окуджавы воспринимались с голоса и дополнялись личным обаянием, а романы, по мнению публики, он писал легкомысленные, для заработка. Да нет же, говорю я: это проза поэта, чуть менее конкретная, картинная и живописная, чем у Толстого или Данилевского, прихотливая, осовремененная нынешним демократическим опытом: не особенно чинясь, относится он к персонажам. Но все-таки это еще не болтология и не «кортасаровщина», как у русских романистов ХХ1 века, публикуемых ныне по малотиражным толстым журналам. Он пишет повторно и по мотивам, но все же не до такой степени, как Е. В. Семенова, которая в смысле изобразительности, сценарности и сюжетности уже просто никуда не годится (как, впрочем, большинство современных сочинителей). Декаданс уже значительный, разложение изобразительности почти полное, и все же Е. В. Семенова еще не последний человек в писательской иерархии: у других дела с личным талантом похуже.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































