Читать книгу "Великий раскол"
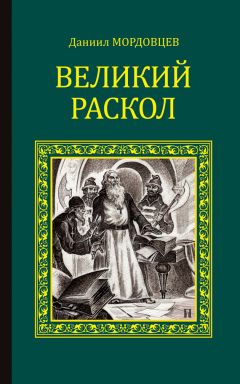
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
А под окном слышится протяжная, заунывная мелодия под однообразное треньканье нехитрого инструмента, простая, но за душу хватающая мелодия:
Ой из города из Трапезонта выступала галера.
Трема цветами процвитана, малевана:
Ой, первым цвитом процвитаня —
Злато-синими киндяками побивана,
А другим цвитом процвитана —
Гарматами арештована,
Третьим цвитом процвитана —
Турецкою билою габою покровена…
Все, как очарованные, невольно прислушиваются к этому пению, и даже Соковнин, опустив голову, сидит, не шелохнется – слушает… Умолкает пение, только слышится перебор пальцами по струнам…
– Уж и певучая ж сторонка, ах! – как-то восторженно встряхивает волосами московский гость. – Уж и сторона же!.. Сколько я ноне по ней не еду, все песня, все песня, так и звенит: и парни, и девки поют, и малы ребятки соловьем заливаются, и самые что ни на есть дряхлы старики, и те поют… Уж и сторонка же, ах! Богова сторонка! Рай, сказать бы, земной…
– И точно рай, – как бы про себя заметила Брюховецкая, – только и в ем без родных скучно…
– Та рай же-жь, рай, – весело заговорила пани гетманова. – Та коли б сей раз москали не запсовали, мов мухи образ, як вони он там, на тим боци Днипра, позасидили вже сей рай…
То в тий галери Алкан-баша,
Трапезонськее княжа гуляе,
Избранного люду соби мае —
Симсот туркив, янычар чотыриста
Та бидного невольника пивчвартаста…
Это опять поет голос певца за окном…
– Ишь, старый! Как же складно выводит, – удивляется Соковнин. – Ну, народец этот хохол, а-ах!
– Ну а Ванюшка, сынок Морозовой, что он? – спохватилась Брюховецкая.
– А! Ванюшка? Племянник мой! Богу душеньку свою отдал…
– Как! Что ты! Ах, господи!
– Помре, да…
– Давно ли? С чего? Ах, бедная, бедная…
– От великой печали по матери… Давно и сорочины по душе я справил… Уж и убивалась же бедная Федосьюшка, как поп бесскуфейник принес ей горькую весть о сыночке: долго колотилась об землю, сердечная, да причитала, да на царя плакалась, он-де искал его погибели…
– Ой ли? Что ты?
– Да так, боярыня… У нас в Московском государстве, сама изволишь ведать, и смерть, и опала богато боярского рода на корысть великому государю: всегда в таком разе вотчины и богатства опального и умершего отписываются на государя, чтобы-де его царскому пресветлому величеству было прибыльнее.
– От так сторонка! – невольно воскликнула Дорошенчиха.
– Мамо! Мамо! – стрелой влетел Гриць. – Дай мени злотого.
– На что тебе, сынок? – удивилась мать,
– Я кобзареви у шапку вкину…
Мать должна была исполнить требование своего избалованного Гриця.
– Подай, милой, и от меня слепенькому алтын, – полез было Соковнин к себе за пазуху.
Гриць остановился и недоверчиво вскинул на него своими черными, как владимирская вишня, буркалами…
– Ни, – сказал он, подумав, – я московских грошей не хочу…
– Добре, Грицько, добре! – засмеялась Дорошенчиха. – Од москаля полу врижь да втикай.
И все рассмеялись этой выходке. Гриць улетел из светлицы…
– Ой, паничу! Як вы мене злякали були, – послышался чей-то голос за дверями.
На пороге показался рослый парубок с высокою постриженною черною головою и с чубом, белая, шитая красною заполочью сорочка со стоячим «комиром», завязанная у горла синею «стричкою» из Явдошиной косы (с Явдохою парубок только вчера вечером женихался на улице, и Явдоха сама выплела из своей косы ленту «стричку» и завязала ею сорочку своему «любому козаченькови Петрусеви»), широчайшие, с неизмеримою, как степь, и висящею до земли мотнею, желтые, как в полном цвету подсолнух, шаровары и «нови чоботы», от которых несло, как из дегтярной бочки…
– Ты чого, хлопче? – спросила пани гетманова, закрывая «хусткою» нос. – От намазав чоботы, дурный, аж очи рогом лизуть…
Парень несколько оторопел…
– Та се я… трошки помазав… он для их… шануючи пана боярина… шоб не казали у Москви, що у нас… – оправдывался растерянный совсем малый, ссылаясь на то, что он так усердно намазал свои чоботы из вежливости, из уважения к знатному московскому гостю, чтобы в Москве не сказали, что козаки якобы не умеют принимать дорогих гостей, – шоб у Москви не казали, що у нас…
– Дегтю мало? – засмеялась пани гетманова, обдав, как кипятком, своими серыми глазами московского гостя. – Ну, чого ж ты стоишь? – снова обратилась она к парубку.
– Та пани-матка оце послали мене… запрохати шановного пана москаля, чи пак боярина… як его… тее… оце й забув… тее то як его… запрохати тее пана моска… цур ему! Тее… от и забув…
Малый совсем сбился, а шел с затверженной речью, которою он от имени старой пани-матки, самой матери гетмана, должен был пригласить гостя «на частуванне», на закуску с дороги.
– Просимо дорогого гостя, просимо, – встала пани гетманова и приглашала идти к старой пани-матке, к хозяйке и главе гетманского дома. – Ходимо, Оленко, и ты ходи, Олесю, – ласково обратилась она и к Брюховецкой, – мати ждуть нас… Бижи хутко, Петрусь, та скажи пани-матци, що зараз будемо.
Петрусь метнулся, разнося дегтярный запах по всему гетманскому дому. Петрусь был того мнения, что деготь пахнет лучше всяких цветов и духов и что «без дегтю пропали бы люди»…
Когда гость, предшествуемый пани гетмановою и Брюховецкою, входил в покои старой пани-матки, Петрусь недоумевающе топтался у дверей и вопросительно посматривал на молодую госпожу.
– Може тее, пани… коли воняють чоботы, то я б, може тее б, босый бы або що…
Пани гетманова только махнула рукой.
– Або що!.. Може б, и без штанив або що, – пробормотала она, про себя улыбаясь.
– А я запамятовал, простите, матушка Олена Митревна, – торопливо сказал Соковнин, вступая в приемный покой, где он должен был представиться старой матери гетмана, – царевна, ее милость Софей Алексеевна, наказывала мне с сенною девушкой: «Поклонись-де, Федор, от меня боярыне Олене Митревне и спроси о здоровье…»
– Ах, светик-царевнушка! Что она, цветик лазоревый? Ах!
– Растет, полнится, хорошеет, что заря утренняя, и всяким хитростям и действам учится…
Послышалось тяжелое шарканье по полу шагов, и на пороге внутренних покоев показалась высокая, осанистая старуха, черная и вся в черном. Единственное, что бросалось в глаза Соковнину, это резкий цыгановатый облик старухи.
То была мать Дорошенка.
X. Тишайший купает в пруду стольников
Не в одной Украине голубое небо, жаркое солнце, яркая зелень…
Жаркое, хотя утреннее летнее солнце пурпуром горит на золотых верхушках летнего дворца Алексея Михайловича в селе Коломенском, обдает пурпуром яркую зелень царского сада с цветниками и прудом и превращает в нежную бирюзу голубое московское небо, когда-то сыпавшее, казалось, одними снегами и метелями да дышавшее трескучими морозами. Летняя царская резиденция, изукрашенная и «измечтанная» невиданными резными узорами и красками, обрызганная позолотою, испещренная цветными и разрисованными стеклами, вся в столбиках, коньках, гребешках и решетках, так и рябит, так и слепит своею золотоордынскою пестротою непривычный глаз.
Прелестное московское утро… На дворцовых карнизах, меж решетинами переходов и на наличниках голуби воркуют… В чаще сада турлукают горлинки и свистят иволги.
И среди этой природы на женской половине дворца, в высоком тереме царевен, на полузадернутых от солнца пологами переходах раздается звонкий, металлический голосок той, о которой сейчас почти, именно вчера под вечер, вспоминали в Украине Правобережной, в Чигирине, в доме гетмана Петра Дорошенко… Это голосок «ее милости царевны Софей Алексеевны».
Царевна Софья Алексеевна сидит в своем теремке с Симеоном Ситиановичем Полоцким и учится «арифметикии…»
Царевне уже пошел пятнадцатый либо шестнадцатый годок. Она, как справедливо заметил думный дворянин Федор Соковнин на вопрос Брюховецкой, похорошела, выросла, пополнела пышным белым тельцем… Белокурая ее умненькая головка вырастила роскошную косу, которая заплетена в две трубы… Голубые, совсем московские глаза с поволокой поглядывают иногда на зелень сада, на пруд, у берегов которого картинно плавают лебеди. Одна шибка стеклянной галереи переходов отворена в сад, оттуда веет ароматом цветов и зелени. У пруда, у «ердани», стоят часовые стрельцы. Кое-где виднеются в тени зелени бояре, стольники и другая дворская саранча.
– Так, так, цифрей ни лишних, ни неправильных нету, – говорил как бы про себя Симеон Полоцкий, перелистывая тетрадку на столе. – Циферное дело гораздо, в порядке… Похваляю Премудрость царевну… А что есть арифметикия? – вскинул он на нее своими умными семитическими глазами.
Царевна как бы немножко вздрогнула от задумчивости, но тотчас же оправилась.
– Арифметикия, или числительница, есть художество честное, – быстро заговорила она, – независтное и всем удобопонятное, многополезнейшее, от древнейших же и новейших в разные времена явившихся изряднейших арифметиков изобретенное и изложенное.
Прекрасные глаза царевны смотрели весело и светло.
– Изрядно, преизрядно! – похвалял учитель. – А каково есть арифметикиино челобитье до учащейся юности?
– Челобитье арифметикиино таково есть:
Приими, юнице, премудрости цветы,
Разумных наук обтецая ветры,
Арифметикии прилежно учися.
В ней разных правил и штук придержися,
Ибо в гражданстве к делам есть потребно
Лечити свой ум, аще числить вредно
Та пути в небе решит и на мори,
Еще на войне полезна и в поли.
– Оптиме! Оптиме! – похвалял учитель, любуясь своей ученицей.
– А что есть «оптиме»? – удивленно спросила царевна.
– «Оптиме» есть велия похвала римская, сиречь «преизряднейшее», «препохвальнейшее», изряднее чего быть не может.
– А что есть «верты», учителю? – снова спросила любознательная ученица.
– «Верты» суть множественное число, по грамматикии, от «верта», а «верта» есть мать и сестра «вертограда»: попросту «верта» есть сад.
– А что есть «штука»?
– «Штука» есть слово польское и украинское и равносильно слову «художество».
Царевна глянула в окно и улыбнулась.
– Государь батюшка вышел на смотр, – сказала она, продолжая весело улыбаться. – А бояре-те, бояре как земно кланяются головами в песок, красны, что раки, пыхтят, как…
Она совсем рассмеялась. Тонкая улыбка змейкой пробежала по губам и глазам Симеона Полоцкого.
– Усердие свое великому государю являют, – заметил он скромно.
– Ах! Дьяк Алмаз Иванов уже тринадцатый поклон кладет, – снова засмеялась царевна, – кувыркается…
– Он легонький, худ гораздо, ему не тяжело, – пояснил Симеон.
– Ах! А князь Трубецкой, Алексей Никитич, с земли не может подняться… ах!
– Тучен он и стар гораздо…
– Ево поднимают князь Юрье Ромодановской да Ртищев Федор… ах, подняли! Подняли! Государь батюшка смеется… руку жалует…
Царевна вспомнила, что она отвлекается от «урка», и зарделась… потом отвернулась от окна, чтоб не соблазняться «кувырканьями» бояр.
Симеон Полоцкий понял это.
– А коликогуба есть арифметикия, царевна Премудрость? – с ласковою улыбкою спросил он.
– Арифметикия есть сугуба.
– Изрядно… А каково есть арифметикиино первой части последствие?
– Арифметикиино последствие гласит сице:
О, Любезнейшая прочитателько,
Буди о Христе ты снисателька,
Да в науке сей будешь свершенна
И везде у всех добре почтенна.
Но еще молю тя потщися,
Прочих частей изучися,
В них же охотно ся понуди,
В политикии всей свершенна буди,
Да будешь почтена всеконечно
И увенчана от всех венечно.
– Оптиме! Сугубо и трегубо! Оптиме! – поощрял учитель.
Царевна вдруг засмеялась, да так детски искренно и звонко, что даже Алексей Михайлович, занятый важным государственным делом, счетом земных поклонов своих бояр и других сановников, оглянулся на терем царевны и добродушно улыбнулся…
– Батюшка государь сюда смотрит и смеется, – сказала царевна и быстро спряталась за полог, словно вспугнутая птичка.
– Великий государь любит тебя, царевна, паче всех, – серьезно заметил Полоцкий.
– А я, ах, я батюшку государя таково крепко люблю, таково крепко!.. А однова он говорил мне, что когда ево царевичем заставляли уроки учить, так повсядень велели прочитовать «Похвалу розге»… А «Похвала розге», батюшка сказывал, такова:
Розгою дух святой детище бити велит,
Розга убо ниже мало здравия вредит…
Она снова засмеялась… Симеон, позвякивая четками, ласково смотрел на нее и улыбался…
– А дальше батюшка сказывал тако:
Благослови, Боже, оные леса,
Иже розги добрые родят на детские телеса,
Да будут благословенны и оные златые времена,
Егда убо секут розгами людские рамена…
– Ныне сему не учат, – заметил Симеон, когда царевна кончила.
– А комидийным действам учат? – наивно спросила юная царевна. – Ах, как оные действа хороши, зело хороши!
Симеон Полоцкий скромно потупился, и даже немножко как бы румянец показался на его бледном, бесцветном лице.
– А ты, царевна, видела их? – спросил он, немного подумав.
– Одним глазком видела, когда у батюшки в палатах оные действа показывали… Я из-за полога смотрела… Таково хорошо!.. Выходит это Навуходоносор, царь гордый такой, страшный, и с ним боярин Амир, и боярин Зардан, и слуги, и воины… А лицедей и говорит государю-батюшке:
То комидийно мы хощем явити
И аки само дело представити
Светлости твоей и всем предстоящим,
Князем, боляром, верно ти служащим,
В утеху сердец здрави убо зрите,
А нас в милости сохраните…
Бесцветное лицо монаха расцвело, глаза были необыкновенно светлы, губы подергивались…
– Память-то какова у тебя, царевна Премудрость, золотая! Воистину золотая! – радостно бормотал он, не спуская глаз с раскрасневшегося личика девушки.
– А как весело было, когда были ликовствования и на поле Деире, когда Навуходоносор царь велел гудцам трубить и пискать… Ах, таково хорошо! И болван злат, идол Навуходоносоров, и пещь огненная, и три отрока в пещи, и ангел… Ах, как они, бедненьки, отроки-те, не сгорели в пещи!
– Ангел не попустил…
– Да, ангел, точно… Я так и замерла, за полог уцепившись, мало со страху не крикнула, да няня назад оттащила меня силком… Я так и расплакалась об отроках…
– Да оно так только, царевна-матушка, одно лицедейство… Отрокам не горячо было в пещи, – успокаивал свою ученицу Симеон, довольный в душе эффектом своей пьесы, – то комидийное действо, а не самосущее.
– А все страшно… Я после таково возрадовалась, когда на другой день увидала в окно, что отроки живы и здравы были… Одного я знаю, он истопников сын Митя…
Юная царевна совсем разболталась, а Симеон, польщенный ею, только улыбался.
– А потом лицедей и говорит, – снова восхищалась царевна, – говорит таково красно и кланяется государю-батюшке и боярам:
Благодарим тя о сей благодати,
Яко изволил еси действа послушати,
Светлое око твое созерцаше
Комидийное сие дело наше.
В это время на дворе послышался какой-то крик, плеск воды и громкий смех. Царевна выглянула из-за полога и тоже засмеялась…
– Государь-батюшка тешиться изволит, стольников купает, – пояснила она.
Действительно, против внутренней выходной площадки коломенского дворца, где в высоком резном кресле сидел царь, окруженный предстоящими ему боярами, князьями и всякими именитыми сановниками, на дворе, у самого пруда, происходило нечто необыкновенное, хотя, по понятиям того наивного века, весьма естественное: Тишайший действительно изволил тешиться: купал в пруду своих стольников. Эти невольные ванны царские стольники принимали «ежедень» и «ежеутр», как писал о том сам Алексей Михайлович стольнику Матюшкину: кто опоздал к царскому смотру, то есть к поклонам, какие вон ныне утром так усердно делал дьяк Алмаз Иванов, самый аккуратный царедворец, как великий законник, или князь Трубецкой, не могший потом подняться с земли, – кто запаздывал к этим поклонам, того в пруд, так-таки совсем в кафтане, и золотном платье, и сафьянных сапогах и погружали в воду, бросая в пруд с «ердани», с мостков, устроенных для водосвятия.
Сегодня особенно было много купаемых. Да и немудрено: утро выдалось жаркое, следовательно, покупаться для потехи его царского пресветлого величества даже приятно. Конечно, в сентябре и октябре, когда начинались заморозки, а царь все еще оставался в Коломенском, стольники реже опаздывали к своим служебным обязанностям, к поклонам, но жарким летом почему и не опоздать? Особенно же потому лестно было быть выкупанным, что всякого, кто потом благополучно выползал из пруда, мокрый, как мышь, царь жаловал, кормил за царским столом: так мокрого и сажал, и тот преисправно кушал «царску еству» и пил изрядно…
– Великий государь! Смилуйся, пожалуй! Не вели топить, детушки мал мала меньше! – вопил один толстый, красный стольник, которого стрельцы под руки тащили к пруду, между тем как другой уже барахтался в воде, брызгал и фыркал, как купаемый конюхом жеребец, и охал, путаясь в мокрых складках своего цветного кафтана и захлебываясь водой.
– Караул! Тону! Пустите душу на покаянье! – молился он, выбиваясь из сил.
– Кидай! Кидай дале, глыбче! – наблюдал за порядком Алмаз Иванов.
– Ой-ой, батюшки! Государь!
Бултых!.. Только жмурки пошли по воде от толстого стольника…
А Тишайший, положив руки на полный, выхоленный живот, «любительно» смеется… Ему вторят почтительным ржанием бояре…
Испуганные лебеди бьются по пруду крыльями и отчаянно кричат…
Стрельцы волокут третьего стольника, который крестится и тихо читает псалом: «Помилуй мя, Боже, по велицей…»
– Ох! Тише! Задушите!
И его бултыхнули с мостков со всего размаху.
– Ой-ой! Убили! Батюшки, убили!
Этот третий стольник, падая торчмя в пруд, хлобыстнулся как раз об спину толстого, второго стольника, который только было вынырнул из воды…
– Ox! Спасите, кто в Бога верует, потопаю, ох!
А тот, первый, что раньше других барахтался в воде, кое-как добрался до берега, выкарабкался на четвереньках и приближается к царю с улыбкой подобострастия… Мокрые волосы спутались, закрыли все лицо, с волос и с бороды течет; с платья, с кафтана и штанов ручьями льет вода; сафьянные сапоги, наполненные водой, хлюпают и брызжут… Стольник, оставляя за собой на земле полосу воды, подходил к царским ступеням и кланялся земно, прямо лбом в песок… Поднимается, песок и грязь на лбу и волосах, руки, колени, полы – все в земле… Но на лице – самая преданная, самая холопская улыбка…
– Жалую тебя, Еремей, ешь ноне с царского стола, – милостиво, с доброю улыбкою на полном розовом лице говорит Тишайший.
Стольник опять кланяется земно, осклабляется…
– Я, ваше царское пресветлое величество, нароком опоздал, – стоя на четвереньках, благодарит выкупанный стольник, – коли-де опоздаю, так выкупают да и за стол посадят…
– То-то! – улыбается царь, и бояре «осклабляются, что псы верные».
– Для тово и опоздал нароком… ествы царской сродясь не едал, какова она, ества царская, – пояснял выкупанный.
За третьим сбросили в воду четвертого, пятого, шестого, до дюжины… А Алмаз Иванов наблюдает порядок, зорко следит за сим важным государевым делом, словно бы тут была царская овчарня, а это купают овец или молодых щенят, чтоб блохи не водились.
В это время стрельцы подошли к одному высокому, красивому, совсем молодому стольнику, чтобы и его вести в воду. Стольник был одет щеголевато, в малиновый летний кафтан «заморской кройки» и в сафьянные, со скрипом сапожки. Он глянул на окно царевниного теремка и вспыхнул как маков цвет… и там, в теремке, вспыхнули же: вспыхнула царевна Софья Алексеевна и даже рукавом закрылась.
– Иди, князь Василий Васильич, твой черед, – строго обратился к красивому стольнику Алмаз Иванов.
Руки стрельцов потянулись было к стольнику…
– Прочь, смерды! Не трожь своими лапами! – отмахнулся от них молодой стольник. – Сам ведаю государеву службу…
И со всего бегу, с припрыгом, ринулся с иорданских мостков в пруд и исчез под водою…
– Ай да молодец князь Василей, – похвалял царь, милостиво улыбаясь.
– Молодец! Молодец! Из молодых, да ранний, – почтительно ржали бояре.
Но молодого князя и след простыл, он исчез под водою – только пузыри пошли…
Ждут, ждут… нету князя Василья… Еще ждут, нету… нету…
– О-ох! – послышался слабый стон в окне царевниного теремка… Царь глянул туда, ничего не видать…
Симеон Полоцкий, испуганный, дрожащий, бросился к своей ученице… Она бледна как снег, помертвела…
– Что! Что с тобой, царевна? Ох, господи!
– Вася! Васенька Голицын утонул… о-о-о!
Но Васенька Голицын вынырнул в другом конце пруда и своим появлением распугал всех лебедей. Даже стрельцы об полы руками ударились, а Алмаз Иванов ажно испужался, совсем испужался… «Ишь, язва… ах, н-ну»…
– Похваляю и жалую тремя обеды враз, – положена милостивая царская резолюция на купание молодого князя Голицына.
Все, и бояре, и думные, и стольники, смотрели с завистью на счастливчика, на князя Василья…
И из царевнина теремка с любовью смотрело на него счастливое девичье личико…[10]10
Купание стольников – исторический факт. Царь Алексей Михайлович сам писал из села Коломенского стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, что стольников купаю ежеутр в пруде, Иордан хорошо сделана, человека по четыре и по пяти и по двенадцать человек, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те ядят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают да и за стол посадят: многие нароком не поспевают…» («Русская история» Костомарова).
[Закрыть]









































