Читать книгу "Великий раскол"
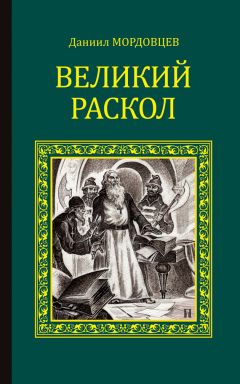
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ты, протопоп, ложно толкуешь Мелетия, – мягко отвечал Полоцкий, – он сложил вот так два перста и к оным, а не просто пригнул большой палец – и вышло знамение от троеперстия, а не двуперстия.
Аввакум даже подпрыгнул было, как ужаленный, но, увидав Морозову, так и остановился с открытым ртом, собравшимся было энергически выругаться.
Низко наклонив голову, Морозова подошла к нему под благословение. Аввакум с чувством благословил ее. Потом она в пояс поклонилась Симеону Полоцкому и поцеловалась с молодым Ртищевым, с Федором.
– Вот, сестрица, – сказал, улыбаясь, Федор, – отец протопоп поражает нас, словно Мамая.
– Да вы злее Мамая! – по-прежнему горячо заговорил задетый Аввакум. – Все вы, двуперстники!.. А не в ваших ли еретических книгах (снова обратился он к Полоцкому) написано, будто жиды пригвоздили Христа до креста? а?
– Что ж, коли написано? – спокойно отвечал Полоцкий.
– Как что ж! Али крест – живой человек! Вот ежели бы до тебя пригвоздили жиды разбойника, так оно было бы так; а то на: Христа – до креста!
– А не все ли равно, до креста или ко кресту?
– Это для вас, хохлов, все равно, а не для нас… О! да я в огонь пойду за наше «ко» – оно истинное, и за него я умру.
Аввакум говорил горячо, страстно. Присутствие слушателей, и в особенности Морозовой, подмывало его еще более, придавало ему крылья. Он был оратор и пропагандист по призванию. Он «кричал слово Божие» везде, где только были слушатели, и чем больше была его аудитория, его паства, тем он охотнее выкрикивал слово Божие. В Сибири ему не перед кем было развернуться. А Москва – о! это великая аудитория для оратора. В Москве Аввакум не сходил со своего боевого коня.
– А не вы ли, новщики, разлучили Господа с Иисусом! – напал он с другой стороны на Полоцкого.
– Как разлучили? – спросил тот, улыбаясь своими еврейскими глазами.
– Так и разлучили, разрезали Господа нашего Иисуса Христа надвое.
– Я не разумею тебя, – отвечал Полоцкий.
– Да не вы ли на литургии возглашаете: «свят, свят, един Господь и Исус Христос!» Для чего вы прибавили «и», иже? Это все едино, что «протопоп и Аввакум»: точно протопоп особо, а Аввакум особо.
– А! – несколько злою улыбкою протянул Симеон. – Мы не говорим – «Господь и Иисус Христос», а возглашаем – «Господь Иисус Христос».
– Для чего тут «и»? Новшество для чего?
– Это не новшество…
– Как не новшество!
– Не горячись, протопоп, выслушай меня… Ты не знаешь по-еллински и оттого споришь…
– И знать не хочу! Вить святители Московские Петр, Алексей, Иона и Филипп не по-еллински молились, и в их книгах значится – «Господь Исус Христос», а не «Господь и Исус Христос»…
– Да постой, потерпи, протопоп! – уговаривал его Полоцкий. – По-еллински не «Исус» пишется, а «Иисус».
– Знать ничего не хочу! Нам еллины не указ!
– Как не указ? – вмешался было старик Ртищев. – Мы от еллин веру взяли…
– А теперь ее хотим испортить, – огрызнулся Аввакум.
– Да как же это так! – удивился Ртищев.
– А вот как, миленькой, – ласково обратился он к старому боярину, – мы из начала веку пели на Пасху: «Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи»… А они как поют? Срам и говорить-то!
– Как срам?
– Да вот как: «смертию смерть поправ»… А! не срамота ли сие? Точно смерть порты али рубахи прала… «Поправ»! Ишь выдумали! Прать – прать и есть, сиречь «мыть».
– А попирать ногами? – вступился было Полоцкий.
– Да что ты смыслишь с своим хохлацким языком? – снова накинулся на него неудержимый протопоп. – Суйся с своим еллинским языком, куда знаешь, а в наш российский язык с хохлацким не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сделали прачкой, портомоей… «поправ»… Эко словечко! Да вы разрежьте меня на кусочки, а я по-вашему петь не стану – срамота одна!
– Ну и крепок же ты, протопоп, – задумчиво сказал молодой Ртищев.
– Крепонек Божиею помощию…
Морозова и Аннушка Ртищева сидели в стороне и слушали молча. Аввакум, чувствуя себя победителем, с торжествующим видом обратился к ним.
– Так-то, Михайловна, – сказал он со снисходительною улыбкою Аннушке, – слушаете нас, буесловов? Слушаете – хлебец словесный кушаете… Не о хлебе едином…
– А что, отец протопоп, разнствует хлеб с опресноком? – перебила его Аннушка.
– Вижу, Михайловна, и ты половина ляховки, – строго заметил протопоп.
Аннушка покраснела и закрыла лицо рукавом. Морозова также вспыхнула – ей стыдно стало за свою приятельницу: ей казалось, что та сделала ужасный, непростительный еретический промах.
– А еще царских детей учат, чу, – укоризненно обратился неугомонный протопоп к старику Ртищеву, намекая на Полоцкого.
Полоцкий был задет за живое и побледнел. До сих пор он говорил тихо, голоса не возвышал, а отвечал с улыбкой, мягко, чувствуя свое превосходство и сознавая, что с ним состязается мужик, не знающий даже русской грамматики. Что ж с него и спрашивать! Но последние слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкий действительно учил царских детей, и Алексей Михайлович был им доволен, даже сам его расспрашивал о его «планидах» да о разных «комидийных действах».
– Так не тебе ли с Никитою Пустосвятом да с Лазарем поручить обучение детей пресветлого царского величества? – сказал он, сверкнув глазами.
– А хоть бы и нам! Ересям бы не научили, – огрызнулся Аввакум.
– Да вы, навежды, запятой от кавыки не отличите, «ерок» примете за «оксию», «ису» за «варию»…
– Зато смерть портомоей-прачкой не сделаем, как вы, вежды, делаете то! Сидели бы в своей Хохлатчине да вареники с галушками ели! – снова оборвал протопоп. – А то на! Лазарь, чу… Лазарь крепок в вере – он истинный учитель.
– Лазарь ругатель, а не учитель.
– Нет, учитель! Лазарь – истинный вертоградарь церковный, а не суется царских детей портить… Вот что!
Симеон Полоцкий не вытерпел. Как он ни был сдержан, но и его, наконец, взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал:
– Да какие вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоград своими пятачками изрыли.
Оба Ртищева невольно засмеялись. Старик так и покатился, даже за бока ухватился.
– Ха-ха-ха! Ну, отец протопоп, наскочил же ты на тихоню!.. Ха-ха! пятачками весь вертоград изрыли… Н-ну сказал! – говорил он, не будучи в состоянии удержаться от смеху.
Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.
Аввакум не сразу нашелся что отвечать – так неожиданно было нападение со стороны «тихони» Полоцкого, и притом нападение в духе самого Аввакума.
– Что ж! – бормотал он, озадаченный нечаянностью. – Ругатели-то не мы с Лазарем, а он, пес лающий, ему же подобает уста заградить жезлом…
– Ну, и ты, отец протопоп, скор на ответ, – засмеялся молодой Ртищев, – невестке на отместку…
– Не бойся, миленькой, в карман за словом не полезу: в кармане-то пусто, так на языке густо, – самодовольно проговорил несколько опомнившийся протопоп.
– Я не с ветру говорю, – начал, в свою очередь, Симеон Полоцкий, подходя к старику Ртищеву. – Вон его друг, Лазарь, подал царю челобитную и в ней гнилостными словесы говорит, якобы в церкви, на ектениях, поминаючи пресветлое царское величество тишайшим и кротчайшим, сим якобы ругаются ему, а «о всей палате и воинстве» он, Лазарь, в челобитной своей гнилословит, якобы здесь говорится не о здравии и спасении царя, его бояр и воинства, а о некиих каменных палатах…
– А как же! Палата – палата и есть! – снова накинулся на него Аввакум. – Палата всегда и бывает каменная!
– О, невежда протопоп! – невольно воскликнул Полоцкий. – «Палата» означает всех бояр и близких к царскому величеству особ: се есть образ грамматический и риторский, именуемый синекдохе, еже различными образы бывает, егда едино из другаго коим-либо обычаем познавается.
– Толкуй! Знаем мы ваши синекдохи…
И потом, неожиданно обратясь к Морозовой, которая не спускала глаз со спорящих и даже побледнела от волнения, Аввакум сказал:
– Видишь, Федосья Прокопьевна? они молятся какими-то синекдохами, а я молюсь моему Господу поклонами да кровавыми слезами – и мне с ними кое общение? – яко свету со тьмою, Христу с Велиаром!
Морозова потупилась, и краска вновь разлилась по ее нежному лицу.
– Ах, Дунюшка милая! – говорила она потом вечером своей сестре, Урусовой. – Как страшно они спорили! И разошлись, яко пьяни…
VII. Въезд Брюховецкого в Москву
Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всею Россиею шибко надломила этого гранитного человека, но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который, сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскаленной железной полосы, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, и силится расшатать ее связи, так и Никон, изгнанный из Успенского собора, как оглашенный, как простой поп, затесавшийся не на свое место, лишенный даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскаленного царского скипетра прямо в сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею Русскою землею.
– Я тряхну ими, тряхну этими бояришками так, что они рассыплются у меня, яко лист желтый с осеннего древа, – часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев.
По целым дням сидел он иногда, запершись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и, постоянно роясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов Священного Писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом: но потом на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головою, рвал написанное и бросал в печку.
– Не то, не то, – шептал он, глядя на чернеющиеся и испепеляющиеся листы. – Кому озеро Лач, а мне горький плач… Али и я не сподобился острова Патмоса?.. Нет. Не хочу! Не быть тому!
И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном повергаясь на пол и колотясь об пол головою. Но потом снова вскакивал и начинал писать до утомления.
Дни шли за днями однообразно, мучительно, медленно; но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли, яко дни… жизнь прошла, яко миг… о, Владыко Всемилостиве!»…
Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения, только иногда разве загремит со своего возвышения: «Не торопись! читай внятно!» – и снова опирается на посох, и снова задумывается.
Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами как в монастыре, так и вне его стен, а теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зеленым бархатом молодых всходов поля, запели птицы, зажужжали пчелы монастырских бортей, безумно кричали грачи в монастырской роще, – он все оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места… Он ждал. Вся жизнь его, сон, бодрствование, молитва – все для него превратилось в ожидание – ожидание острое, саднящее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым.
Часто в город ездили его монахи и, по возвращении оттуда, непременно обязаны были заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным.
Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его Иванушка Шушера, его крестоноситель, входил к нему не иначе как по зову – когда слышал стук костыля в стену соседней кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то, в хороший весенний день, сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое детство, когда, мальчиком, он жил в монастыре Макария Желтоводского и когда кудесник предсказал ему, что он будет «великим государем над царством Российским», припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските, с его суровою, почти могильною обстановкою, и пустынножительство свое в Кожеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита Филиппа, свое могучее патриаршество… Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила свое маленькое гнездышко. Сначала он хотел было костылем своим уничтожить всю многодневную работу птички, но потом почему-то на мысль ему пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания его целой жизни разметал по ветру чей-то костыль, – и он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнездышка робко высовывалась блестящая, черная головка птички с маленькими черными глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом… А он так много жертв раздавил на своем веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слез людских пролито по его непреклонной, безжалостной воле… Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червячков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этою страдою маленькой матери… И – странное, невиданное дело! – монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх, в отсутствие ласточки, выносил из своей кельи мух в горсти и кормил ими птенцов… Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать, по целым часам безмолвно сидел на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагою.
Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жег написанного, а прятал за образ Богородицы «Утоли моя печали», перенесенный им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собою: «Одиннадцатое сентемврия… Память преподобной Феодоры и Димитрия мученика… одиннадцатое… одиннадцатое… подожду одиннадцатого»…
Что же такое могло быть 11 сентября и почему Никон рассчитывал на этот день?
А 11 сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль Земляного города до самой заставы и далее по Серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, Охотный и Юхотный ряд, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных черных работ – все это валмя валило за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бранясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же когда к Серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов со своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских, а за ними царские конюхи, которые вели под уздцы царского коня – серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзою, чепрак турецкий, шит золотом, волоченный по серебряной земле, седло бархат золотный, – ушми прядет по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи – несколько сот человек.
Толпы москвичей особенно кучились за Земляным городом на расстоянии перестрела. Там, по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными, как стекло, бердышами. Народ напирал на это место колыхающеюся стеною, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне и покрикивая: «Назад! осади назад, черти!», проезжал какой-либо окольничий или сын боярский и колотил палкою по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперед или просто топтал лошадью, бросая в воздух крепкие, узловатые московские слова, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом – взрывы хохота тех, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше да зажило, забылось.
Когда к этому месту подъехали Желябужский и Богданов с подьячими, конюхами и нарядным царским конем, вдали, по дороге от Серпухова, показались двигающиеся толпы всадников, огромный обоз из карет и повозок, множество конных и пеших, а в хвосте, страшно поднимая пыль, медленно двигались кучи рослых, красивых волов, каких на Москве и не видано.
Выждав сближение этой встречной толпы, Желябужский приосанился на седле и махнул шитой ширинкой. Толпа остановилась, а к ней от Желябужского поскакал вершник с белою перевязью через плечо. Здешняя толпа понаперла так, что дрогнули было шпалеры стрельцов, но Желябужский сыпанул на обе стороны, грузно поворачиваясь на седле, такие крупные, как кнут, плетенные из междометий слова, что толпа, словно поражаемая картечью, шарахнулась назад.
Встречная толпа подъезжала все ближе и ближе. Впереди на вороном рослом и широкогрудом аргамаке, гремя серебряным убором, ехал статный, дородный мужчина уже немолодых лет, с черными висячими книзу усами и в шапочке с пером, унизанным каменьями, которые горели как жар. Южный татарковатый тип лица и лоснившаяся из-под богатой шапочки гладко подбритая голова, кунтуш с расшитою золотом грудью и пурпурными отворотами, в руках серебряная палочка с огромным на конце золотым яблоком, утыканным дорогими камнями и острыми серебряными шипами, словно зубьями огромной щуки, – вот что прежде всего бросалось в глаза народу. За ним – три в ряд, потом два, далее четыре и несколько других рядов на конях – в таких же, как передний, но в менее богатых кунтушах, в шапках с разноцветными верхами, с саблями и перначами в руках – все с усами, а иные с длинными хохлами, закинутыми за ухо. Далее коляска с попом и монахом. А там – толпы пеших и конных, на возах и при возах, и в заключение – волы с рогами, перевитыми разноцветными лентами.
Народ замер на месте, дивуясь на невиданных людей и на волов в лентах.
Когда самый передний, что с булавой в руке, приблизился к Желябужскому, плотный и румяный, с русою бородою окольничий медленно сошел со своего коня, снял шапку и крикнул:
– Есть до тебя войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича с старшиною речь от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малая и Белая России самодержца, и вы бы с лошадей ссели и шапки сняли, – произнес Желябужский по наказу, медленно, громко, внятно, как на ектенье в церкви.
Все сошли с лошадей и сняли шапки. Поп и монах вышли из коляски и прошли вперед. Народ также обнажил головы.
– Божиею милостию, – продолжал Желябужский тем же церковным тоном, – великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, велел встретить и о здоровье спросить: здорово ли есте дорогою ехали? Бей челом оземь, – тихо подсказал он.
Брюховецкий поклонился до земли. За ним припала головою к земле вся его огромная свита.
– Божиим произволением здоровы есмы, – отвечал Брюховецкий, подымаясь с колен и встряхивая чубом, который перевесился было на лицо. Поднялись с земли и встряхнули чубами все остальные.
– Кланяйся вдругорядь и благодари! – подшепнул Желябужский.
Брюховецкий поклонился вторично до земли. За ним поклонилась вся старшина; слышно было, как более тучные из них сопели: непривычно им было это московское кланянье – «вот земелька!»
– За спрос о здоровье благодарим премного его пресветлое царское величество, – снова сказал Брюховецкий, вставая на ноги.
– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, – снова наладил Желябужский, входя окончательно в роль, – всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, его царское пресветлое величество, жалуя тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого, изволил к тебе прислать с своей царского величества конюшни коня, на коем тебе ехать на подворье.
По знаку дьяка стремянной подвел серого немецкого коня. Конь было заартачился, когда к нему подступил Брюховецкий, фыркнул и поднялся на дыбы; но гетман сразу осадил его и очутился на седле, словно прикованный к нему.
Совершив встречную церемонию, поезд Брюховецкого двинулся в город. По правую руку гетмана ехал Желябужский, по левую – Богданов, все трое в ряд, только конь гетмана выступал вперед на полголовы. Впереди, топча копытами и разгоняя палками толпу, словно неприятеля, пролагали путь, иногда по трупам москвичей, окольничие и дети боярские со стрельцами. За гетманом следовали, кроме переяславского протопопа и гетманского духовника, атаман гетманского куреня, генеральный обозный, генеральный судья, два генеральных писаря, пять писарей канцелярских, атаман писарского куреня, два генеральных есаула и посланцы разных полков, с прислугою 313 человек. Под всеми ими и под обозом было 670 лошадей – целый огромный табунище. Тут же особо везли в дар царю пушку полковую медную, взятую у казаков изменников, вели дорогого арабского жеребца, покрытого дорогою попоною, и гнали 40 волов чабанских, красоты неописанной, с развевающимися лентами на рогах. Толпы москвичей особенно теснились там, где ехал сам гетман, и в хвосте – где, поднимая облака пыли и меланхолически пережевывая жвачку, «ремегая», шли красивые волы, словно девчата, украшенные «стречками». Поезд также замыкали стрельцы, дивуясь на волов и оттесняя толпы. Знакомый уже нам стрелец со шрамом во всю щеку только руками о полы бился, любуясь волами.
– Уж и волы же, братцы, знатные, степные, словно сами хохлы, – говорил он товарищам.
– Что и говорить! И они, хохлы те, как есть волами смотрят. Ишь увальни черномазые! Ну, народец! – подтверждали другие.
В таком порядке и сопутствуемый москвичами, толпы которых прибывали как морские волны в бурю, поезд проследовал на посольский двор, который и был оцеплен стрелецкими караулами. Несмотря на то что любопытных не только не впускали никого на двор, но даже гнали и колотили на улице, москвичи, за неимением в то время других общественных зрелищ, кроме крестных ходов и кулачных боев, не отходили от посольского двора, стараясь заглянуть в ворота, в окна или просто глядя на крыши, а иногда – что удавалось не всем – на усатую и хохлатую фигуру, показывавшуюся у которого-либо из окон посольского дома.
А в посольском доме и на посольском дворе шла необыкновенная возня с размещением гостей, их прислуги, пожитков, экипажей, лошадей и скота.
Не успели они разобраться, как Желябужский, успевший побывать во дворце, явился оттуда с целою стаею дворской челяди, которая притащила из дворца от государева стола целые горы судков и блюд «с ествою и питьем государевыми». Войдя в главную палату, куда вышел гетман со старшиною, Желябужский поклонился и начал заученную речь:
– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, жалуя, прислал к вам от своего государского стола еству и питье.
Гетман и старшина низко поклонились и благодарили, а дворская челядь тотчас же поставила стол, накрыла его скатертью и стала ставить на стол яства и питье по росписи. Золото и серебро так и ломило огромный дубовый стол.
Желябужский, подойдя к столу, налил большой серебряный ковш, как словно сосуд с Дарами.
– Чаша великого государя – царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малая и Белая России самодержца и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследника, и государя, и обладателя! Дай, Господи, великий государь – царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, здрав был на многие лета! – провозгласил он и выпил ковш.
Гетман и старшина, повторив «многая лета», также пили из рук Желябужского и потом сели за стол. А Желябужский, сев особо и вынув из-за пазухи бумагу, развернул ее и, подав стоявшему около него дьяку, сказал: «Вычти вслух!»
– Великий государь – царь и великий князь Алексей Михайлович, – начал дьяк все с того же утомительного титула, – всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя подданного своего, сее стороны Днепра войска запорожского гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволил указать поденного корму и питья к выдаче, против посольского, с надбавкою: гетману по хлебу грошевому да по два калача грошевых на день. А старшине по хлебу грошевому да по три калача двухденежных. А людям их по хлебу грошевому да по калачу трехденежному человеку на день. Да гетману ж и старшине – по три гуся живых, по семи гусей битых, по трое утят живых, по семи утят же битых, по десяти зайцев, по десяти тетеревей, по пятидесяти куров живых на день.
Гетман и старшины ели, молча переглядывались и серьезно слушали. Только нет-нет да и дернется у иного ус от сдержанной улыбки.
– Да им же с людьми, – продолжал дьяк, – по яловице живой, по пяти ялович да по четыре стяга битых, по пяти баранов живых, да по двудесяти-пяти баранов тушами, по два полтя ветчины на день, по три ведра без полутрети сметаны, по триста пятьдесят штук яиц, по пуду без полутрети масла коровья, по четыре ведра уксусу, по два пуда соли, по чети круп гречневых, по чети гороху, по осмине муки пшеничной, а буде мало – давать по чети; по три ведра молока пресного; на всякую мелочь по четыре гривны на день, а буде мало – ино давать по полтине. А питья давать им указано…
При слове «питья» генеральный судья Петр Забела, черный коренастый мужчина, многознаменательно переглянулся с сидевшим против него переяславским протопопом Григорием Бутовичем и моргнул усом и левым глазом по направлению к генеральному писарю Захару Шийкевичу, красномордому, с выпуклыми красными же глазами субъекту. Протопоп лукаво улыбнулся. Шийкевич заметил эту улыбку и насупился.
– А питья давать им указано, – продолжал дьяк, – по шести чарок вина двойного на день, да гетману же вопче – по десяти кружек меду паточного, да по ведру пива сладкого, да по ведру меду крепкого, да по ведру пива доброго на день. А старшине – по пяти чарок вина доброго, по две кружки меду сладкого, по две кружки меду крепкого, по четыре кружки пива доброго человеку на день. А людям их – по три чарки вина человеку, а лучшим людям – по две кружки меду да по две кружки пива человеку, а остальным по две кружки пива человеку на день.
Дьяк остановился. Все думали, что он уже кончил, а он только передохнул, высморкался и продолжал:
– А в постные дни рыбные ествы указано: гетману вопче – по щуке живой на пар, по одному лещу, по одному язю на пар, по одной щуке колодке, по щуке ушной спячей, по полузвену осетрины, по полузвену белужины, по шти гривенок икры на день и с старшиною. Старшине же – по лещику, по невеликому, по две щуки в ухи, по два звена осетрины, по два звена белужины человеку на день. Людям же их: на триста блюд рыбы всякой свежей, щук, окуней, язей, плотиц, по два человека на блюдо…
В это время в палату, где кушали гетман со старшиною, вошел седой высокий боярин, а за ним степенные ключники внесли что-то на огромном серебряном подносе, покрытое тафтою.
– Есть до тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, речь от великой государыни-царицы и великой княгини Марьи Ильишны, и вы б с местов встали, – провозгласил седой боярин.
Все встали. Все невольно с любопытством косились на это что-то, покрытое тафтою.
– Великая государыня-царица и великая княгиня Марья Ильишна, ее царское пресветлое величество, – продолжал седой боярин, возвышая голос и поднимая голову, – жалуя тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволила прислать вам от своего государского стола сладкого – лебедя сахар леденец, и вы б того лебедя рушили и на здоровье кушали.
И по мановению его ключники сняли тафту с подноса. На подносе оказался белый сахарный лебедь, грациозно изогнувший свою длинную шею. Лебедя поставили перед гетманом.
Церемонии с обедом тянулись очень долго, потому что кушаньев было необыкновенное количество. Когда, наконец, украинцы встали из-за стола, генеральный судья Забела, вообще большой охотник до «жарт»[7]7
Шуток (укр.).
[Закрыть], показывая переяславскому протопопу на свой почтенный живот, сделал такой жест руками, что, дескать, теперь у меня после московского угощенья хоть железо на брюхе куй.
На это протопоп отвечал из Писания: «Не о хлебе едином жив будет человек» – и перекрестил свой рот, памятуя другое писание, что «не сквернит во уста, сквернит из уст».









































