Читать книгу "Великий раскол"
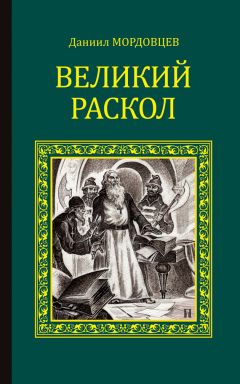
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– А что ж ты ее, батя, не возьмешь у Дорошонкова?
– Кого, милая?
– Оленушку Долгорукову… Она, бедная, в полону…
– Я уже послал по нее к Петру Дорошонку с грамотой Федора Соковнина.
И при имени Соковнина и ему, и царевне разом вспомнилась сестра этого Соковнина, Морозова, что сидела в заключении.
В это время из-за ивы показалась шедшая по дорожке укутанная фатой старшая сестра царя, царевна Ирина Михайловна. Такая же тучная, краснощекая и добротелая, как брат, с такими же добрыми глазами, она совсем напоминала брата. Увидав, как Алексей Михайлович закидывает удочку, она улыбнулась и покачала головой… «Ишь, старое и малое тешатся».
Заметив старшую царевну, царь спросил:
– Что, сестрица, Петрушенька-царевич все буянит у мамки?
– Нету, братец, угомонился. А ты иди, тебя ждет Юрье Лутохин по нужному делу, – отвечала сестра.
Царевна Софья взглянула на отца, и глаза ее блеснули радостью. Царь встал и направился ко дворцу вместе с сестрою.
Через полчаса уже видели царя хмурым и задумчивым: принесенные Лутохиным от Морозовой вести испортили все его расположение духа. Морозова «неистово противилась»…
XVII. По дороге в Боровск
Прошло несколько недель.
Жарким летним утром от Москвы по Калужской дороге к Боровску шагом двигалась телега, запряженная в одну лошадь и сопровождаемая по обеим сторонам стрельцами. Это следовал из Москвы арестантский этап. В телеге, казалось, никого не было, но это казалось так только издали: в телеге лежало что-то живое, прикрытое рогожкою.
День был тихий. Белая пыль, взбиваемая копытами лошадей и колесами, клубилась над телегою и позади ее, усыпая рогожу белым слоем.
Стрельцы шли лениво, босиком, уложив сапоги и ранцы в телегу. Ворота рубах расстегнуты, потому жарко, упека, ни облачка на небе, так и марит. Скучно. Один, наиболее других, по-видимому, скучающий, вот уже с полчаса как тянет монотонную и скучную, как это голое поле, песню:
На-до-е-ли ночи, на-до-ску-чи-ли да на-до-ску-чи-ли,
Со ми-лым, со ми-лым друж-ком раз-лучили, со милым
дружком разлучили…
Вдали виднеется сельская церковь, но до села еще немалое пространство, еще поле, а там пригорок, а там еще поле. На том поле что-то метлешится: не то стадо, не то табун коней… Но не стадо и не табун: что-то в воздухе мотается, словно бы ширинки на шестах… Кой там прах!
Эх и надоскучили,
Со милым дружком разлучили!..
Чем ближе подвигались туда стрельцы с телегою, тем яснее видно было, что там народ, много народу. А то не ширинки на шестах, а церковные хоругви.
– О дожге, знать, молебствие, – решил певучий стрелец. – Ух и надоску-учили!..
– А ты выплюнь песню-то, али не видишь! – строго заметил певуну старый стрелец.
– Что ее плевать! Не скоромная…
– То-то, не скоромна, а тебе бы все с родительницей!
– Зачем родителей поминать? Не чай на мне крест.
Пододвигаясь еще ближе, стрельцы заметили, что вся дорога и часть поля по обе стороны дороги заняты сплошною массою народа – мужиками, бабами, девками, ребятишками. Над ними возвышались хоругви и образа на шестах.
Телега остановилась. Стрельцы подошли к толпе. Народ кучился вокруг хоругвей и образов, и там же, в середине, виднелся старенький поп в бедном облачении, с книгою в руках и такой же завалящий, в стареньком крашенинном подрясничке и с косичкой в крысиный хвост, пономарь с кадилом. Поп стоял на шибко пожелтевшей от засухи полосе ржи и, нагнувшись с некоторыми из мужиков к ниве, что-то рассматривал.
– А ты, батька, не трожь ево, – предостерегал попа седой мужичок, – он не скрючит…
– Мене не скрючит: я ево во чем, – указывал попик на свою засаленную и местами прожженную угольками из кадила епитрахиль.
– Ево, братец ты мой, не скрючит: на ем, на батьке-то, свята одежа, – говорит другой мужик.
Стрельцы втерлись в круг, оставив у телеги только одного товарища.
– Что у вас тутай-ка, братцы, али о дожге? – спрашивали стрельцы.
– Како об дожге? Вон видишь ево, дьявола? – отвечал бойкий парень-боровлянин.
– А что, милый?
– Вон, залом заломил аспид.
– Ой ли? Ах!.. Эко дело!
– Да, брат, не в дожге сила… дожгя нам Боженька даст… а вон он анафемской.
– А кто ж он будет, милый человек? – любопытствовал стрелец.
– Знако, из никониан, што щепотью крестются… Вон у нас от того хлебушка и не родит, третий год голодуха, пухнем без жратвы, и скотинка падает, помирать пришло… А все никонцы…
Оказалось, что это было общественное молебствие, заклинание нечистой силы в «заломе», найденном бабами на одной полосе ржи. От этого страшного «залома» и неурожай, и голодуха, и мор на скот. А от кого самый «залом» – знамо от кого: от недоброго человека, что по-новому молится, тремя перстами «воображает», так толковал старый пономарь своим боровлянам. А от «залома» одно спасение: молебен крепонькой со «Всепетою», да чтобы сам батюшка «сквозь патрахиль залом-от вырвал с корнем»… Тогда и все крепко будет…
– А ты, батька, молебенец-то покрепче загни, – упрашивали мужики…
– Со «Всепетою», слышь, родной.
– Да чтобы и меч, и глад, и трус; вверни, кормилец, и глад, потому с голоду помираем.
– Да, да, кормилец, уж не пожалей, поядреней молитву закати…
– А уж мы все окарач молиться будем…
– До поту, что и говорить!
– И еще тебе, родной, гривну миром накинем…
– Ладно, ладно, православные, – успокаивал их попик, – свое дело знаю, не занимать-ста этого добра.
– Да ладанцем, батька, не скупись: кури в нашу голову, чтобы тошно яму стало, больше дыми…
Началось молебствие. Народ действительно молился «окарач»; все так покатом валялось по дороге и по межам, крестясь и колотясь головами о пыльную дорогу, о колючую траву. Это была детская, невинная, но жаркая молитва, голодный, болезненный стон.
Когда началось пение, рогожа на этапной телеге приподнялась, и оттуда выглянуло бледное, но все еще прекрасное женское лицо. Оно смотрело с недоумением и широко крестилось, обратив глаза на старые, неподвижно висевшие в пыльном воздухе хоругви и закоптелые иконы.
– Миленькой, а, миленькой! – тихо обратилось бледное лицо к молившемуся тут же стрельцу.
– Что, матушка Федосья Прокопьевна? – отозвался он.
– Помоги мне, миленькой, встать и помолиться.
– Сичас-сичас, матушка.
Стрелец бережно приподнял арестантку за руки. Зазвенели ножные кандалы.
– Спасибо, миленькой братец.
Колодница при помощи стрельца вылезла из телеги и стала на колени. Глядя на хоругви и на голубое небо, она горячо молилась и плакала. К ней подошли дети, что не могли протолпиться в середину серой массы, и с боязнью глядели то на ее бледное, нежное лицо, то на заржавелые кандалы.
– Молитесь и вы, деточки, – обратилась к ним колодница, – ваши молитвы скорее дойдут до Бога.
Дети, косясь на нее, крестились и кланялись. Из толпы доносились скрипучие, надтреснутые голоса старенького попика и такого же старенького пономарика. «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и сущих в мори далече…»
– О-о-о! – стонала толпа, колотя себя двумя пальцами по запотевшим лбам и подтянутым голодом животам и колотясь этими лбами оземь…
Наконец молебствие кончилось. Попик, передав дьячку кадило и книгу с крестом, нагнулся к пучку ржи, на вершине которой виднелось несколько помятых и как бы завязанных узлом колосьев. Мужики серьезно и сдержанно, а бабы со страхом и крестясь смотрели, что будет делать поп. Вот-вот он дотронется до «залома»… Вот-вот он ударит его оземь, скрючит, расшибет.
Но старый попина знал свое дело, не впервой-су! Он завернул руку епитрахилью и схватил «залом»…
– О-о-ох! – вскрикнули в ужасе бабы и попятились.
– Не вой, бабы, брысь! – накинулись на них мужики. Но хитрый попина – «Уж и попина же, братцы! У-у! Дуй ево!», – разом как рванет пучок ржи, так с корнем и вырвал. Все так и ахнули! А-ах! Н-ну! Уж и ловок же старый пес… Тьфу, окромя ево священства!..»
Между тем тут же другие мужики выкопали яму в аршин глубиною.
– Копай глыбче, братцы, глыбче!
– Чтобы не тово, не выцапался аспид…
– Будет, братцы, не выцапается, – успокаивал их поп.
– Ну, будя так будя.
Попина, пошептав и трижды сплюнув на запад: «В самую морду нечистому, – пояснял дьячок, – потому бес николи же на востоце не стоит, не смеет, и все на запад солнца», – швырнул «залом» в яму.
– Да зольцой, батька, зольцой из кадила присыпь яво, крепче будет, – просили мужики.
Попина взял кадило, потрусил над ямой золой…
– В зенки яму, анафеме, – пояснял пономарище-старец.
– Да уголек, родной, с огоньком вкинь в яму-то, – упрашивали мужики, – огнем яму святым в буркалы-те.
Попина и уголек из кадила вкинул в яму: таков поп, каков приход…
Засыпали яму золой, затоптали ногами, поплевали все на насыпь и на запад. А тут и кол осиновый готов.
– Вколачивай, братцы, кол-от в спину яму, аспиду никонцу, щепотнику.
Вколотили и кол в землю.
В этот момент из Боровска послышался ямской колокольчик. Все оглянулись. По дороге скакала тройка, сопровождаемая парою всадников. Пыль стлалась клубами по полю.
– Гонец царской, братцы, – послышалось в толпе. Все знали, как ездят царские гонцы. «Кому бы быть? Откедова гонит? Не с Крыму ли, от самого ханишки, а может, из Черкас?»
Тройка приблизилась. Толпа расступилась перед конными. Но дальше проезду не было: на самой дороге стояла этапная телега, а около нее в черной одежде женщина… Виднелось только бледное лицо.
В телеге ямской, с переплетом и верхом, что скакала от Боровска, сидел русый запыленный и загорелый средних лет мужчина в боярском одеянии.
Бледная колодница, увидав его, невольно всплеснула руками.
– Федюшка! Братец!
– Федосьюшка! Сестрица! Родненькая!
Гонец выскочил из телеги и стремительно бросился к колоднице… «Голубушка! Мученица!» – «Братец! Соколик!» – «Куда тебя, родная?» – «В Боровск, в земляную тюрьму…»
Это был брат Морозовой, Федор Соковнин, возвращавшийся из Малороссии, от Дорошенка. Он обхватил сестру и страстно стал целовать ее… «Сестрица моя! Ягодка!»
– Ох, братец! Ох, не целуй меня… мне нельзя! – силилась защититься бедная женщина.
– Федосьюшка! Светик!
– Я не Федосьюшка… братец! Ох! Я сестрица Феодора…
– Господи, что это такое!
Он зарыдал и, припав головой к плечу несчастной сестры-мученицы, плакал голосом. Глядя на него, и бабы плакали.
XVIII. В земляной тюрьме
Чем дальше, тем в большее ослепление впадали московские власти и, видя бессилие своих жестоких мер, теряясь во мраке своего собственного безумия, приходили в ярость. Они чувствовали, что нравственная власть выскользала из их рук, почва уходила из-под ног, одни жестокие ошибки вели к другим, еще более жестоким и непоправимым, и, как люди с похмелья, которые прибегают к той же отраве, чтоб опохмелиться, забыться в одурении, они бросались в омут того же опьянения, в омут безумной жестокости и преследования. Началась буквальная травля двуперстников, «псовая облава на христиан», как выражались сами двуперстники.
«Времена Диоклетиана настали!» – кричали на площадях и по базарам уцелевшие ученики и ученицы Аввакума и Мелании.
«Нероновы свещники из христианской плоти возжигают на Болоте освещения ради тьмы кремлевския!» – возглашалось на Красной площади при виде срубов на Болоте и у Лобного места, где должны были жечь и жгли непокорных.
А непокорные, как бабочки ночью, «аки метыли на лампаду», шли на этот огонь.
В Боровск, кроме Морозовой, свезли и заключили в земляную тюрьму Урусову, Акинфеюшку и инокиню Юстину. Верный раб Морозовой, Иванушка, уже чах там в другой мрачной яме.
Мать Мелания со своей боярышней Анисьюшкой не замедлила явиться и в Боровск. Стрельцы, караулившие земляную тюрьму, были тотчас же обращены матерью Меланиею в «своих», и, когда из Москвы явились «волци» с розыском, чтобы найти наконец этого «беса полуденного», эту «ведьму Малашку», часовые вытерпели пытку, а не выдали «матушку», которая спрятана была под полом самой караулки.
Прядь волос из прекрасной косы Морозовой стала для «верующих» святынею, и золотистые волосы ее раздавались достойным на «вечное поминовение», носились на груди с крестами, зашивались в ладанки, словно святые реликвии.
Стрелец Онисимко, целовавший закованные в железо ноги Морозовой, стал коноводом всего своего стрелецкого полка, с которым впоследствии этот самый Онисимко, уже в царение Софьи Алексеевны, чуть все Московское государство не поставил вверх дном.
А Аввакум из своей пустозерской земляной тюрьмы то и дело рассылал свои зажигательные письма, вроде «Всем нашим горемыкам миленьким», или «Старице Мелании с сестрами и с подначальною Анисеею», или «на крестоборную ересь».
Хотя земляная тюрьма в Боровске отличалась всеми ужасами подобного рода мест заключения того безжалостного века, хотя она была сыра и темна, как могила, и кишела всякими гадами, однако узницы в Боровске чувствовали свое положение с менее жгучею и разъедающею остротою, чем в Москве: в Москве они находились в одиночном заключении и чувствовали себя заживо погребенными; здесь, в Боровске, в одном помещении их находилось четыре узницы: Морозова, Урусова, Акинфеюшка и Юстина. Они могли говорить и молиться вместе, а если одна из них заболевала, то другие ходили за ней. Они проводили дни и ночи в молитвах, в пении гимнов, в воспоминаниях и рассказах о своей прежней жизни. Но что особенно громадные удобства представляло в воровской тюрьме, так это то, что когда трое из узниц ложились спать, то четвертая не спала и отгоняла от них крыс и мышей, постоянно бегавших по темнице. Но и кроме того, была еще хорошая сторона подземной жизни в Боровске – это то, что Акинфеюшка была оживляющею силою этой маленькой подземной общины. По призванию странница, много побродившая по святым местам, хотя сама еще была молода, Акинфеюшка целые дни, бывало, рассказывает о том, как она ходила в поклонение угодникам в Киев, в Соловки, в Казань, в Новгород, что видела там, что испытала. В этих рассказах высказывалась вся ее поэтическая, мечтательная душа. Часто вспоминала она, как четыре или пять лет тому назад, возвращаясь из Киева, она вместе с другими странницами зашла в Гадяч в гости к Оленушке, бывшей княжне Долгоруковой, а в то время гетманше Брюховецкой, и как в ту пору черкасы привезли тело убитого мужа Оленушки вместе с другими мертвыми телами. Рассказывая о Малороссии, она часто повторяла, что это «рай земной». Рассказы ее заменяли для узниц общество людей, и свет, и солнце, которое не заглядывало в их темную, глубокую темницу.
С другой стороны, инокиня Юстина много рассказывала о разных монастырях, в которых она жила с молодых лет, меняя один монастырь на другой, чтобы лично на себе испытать, в каком из них старицы жили наиболее суровою жизнью. Это была личность энергическая, характер, закаленный в лишениях. Она сама истязала свое тело, и оно становилось еще выносливее; она спала, подкладывая под себя булыжник.
Но сообществом Юстины недолго пришлось пользоваться нашим узницам. Она раньше других покончила свое земное существование, и покончила насильственною мученическою смертью, спасая других, сидевших с нею в заключении, от гнева властей.
Дело было таким образом. Мать Мелания, которую узницы называли «равноапостольною», принесла Морозовой и Урусовой еще одно письмо от неутомимого Аввакума из Пустозерска. В письме было обращение и к Акинфеюшке. Послание это произвело на узниц впечатление чудного весеннего дня с теплом и зеленью, пением птиц и шепотом листьев – весеннего дня, внесенного Божественною силою в их мрачное подземелье.
– «Аз протопоп и юзник о Господе, – взывал между прочим пустозерский фанатик, – молю вы, другов моих сердечных, стойте и не унывайте о житии прежде бывшем. Вем, друг милой, Феодосья Прокопьевна: жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, в верху чина царева близ царицы. Дома твоего тебе служащих человек с триста; у тебя же было крестьян 800, имение в дому твоем на 200 000, или на полтретья было. У тебя же всему сему был наследник, сын Иван Глебович Морозов. Другов и сродников в Москве множество много. Ездила к ним на колеснице, еже есть в карете драгой и устроенной мусиею и сребром и аргамаки многи 6 и 12 с гремячими чепьями. За тобою же слуг, рабов и рабынь грядущих 100 или 200, а иногда человек и 300, оберегая честь твою и здоровье…»
Морозова остановилась на этом месте письма. В отверстие, проделанное в тюрьме для света и около которого она читала Аввакумово послание, что-то заглянуло.
Морозова всплеснула руками.
– Литвинушка! Песик миленькой! Как ты сюда попал! – воскликнула она радостно.
В оконце просунулась собачья морда и тихо, жалобно и радостно визжала.
– Литвин, Литвинушка! – обрадовалась и Урусова. – С Москвы прибег, бедненькой.
Собака лизала протянутые к ней руки. Все были ей рады, как дорогой гостье.
– И как она дорогу нашла сюда! – дивилась Акинфеюшка. – Как узнала, что вы тут?
Снаружи послышался окрик на собаку. Собака завизжала; ее отогнали от оконца.
– Вот звери-те добрее людей, – заметила Юстина.
– Не говори, матушка, – тихо возразила ей Морозова, – и люди добры, а ежели и творят зло, то творят волю пославшего, вот хоть бы и с нами.
Она поднесла письмо к свету и снова начала читать.
– «Пред ними же лепота лица твоего сияла, яко древле во Израиле святые вдовы Июдифы, победившие Навуходоносорова князя Олоферна. И знаменита была в Москве пред человека, яко древняя Деворра во Израили, Есфирь, жена Артаксеркса. Молящу ти ся на молитве Господу Богу, слезы от очей твоих, яко бисерие драгое, схождаху. Из глубины сердца твоего воздыхания утробу твою терзаху, яко облацы воздух возмущаху. Глаголы же уст твоих, яко камение драгое, удивительны пред Богом и человеки бываху. Персты же рук твоих тонкостны и действенные великий и меньший и средний в образ трех ипостасей; указательный же и великосредний в образ двух естеств Божества и человечества Христова сложа, на чело возношаше, и на пуп снося, на обе раме полагаше и себя пометая на колену пред образом Христовым, прося отпуска грехов своих и всего мира. Очие же твои молниеносны держастася от суеты мира, токмо на нищих и убогих призирают…»
Морозова чувствовала, что при этих словах щеки ее заливает краска. Она вспомнила, как ее молодые глаза, эти «очие молниеносны», не на одних нищих и убогих смотрели… Как часто бывало, когда она уже овдовела, глаза ее украдкой смотрели из кареты, из-за задернутой тафты, на красивые лица добрых молодцев, как сердце ее ныло без ответного взгляда, которого она, как «честная вдова», в то же время и боялась, и стыдилась… Хотя она все потом сказала Аввакуму, как узнала его и стала его духовной дочерью, но разве можно рассказать все, все, что переживает молодое женское сердце! Она и не сумела бы этого рассказать, этого словами не передашь… А сказывала только Аввакуму на духу, что «во всем грешна», что и «око ее соблазняло ее»… но как, когда, где, на кого глядело ее око с тайною страстью, что при этом на сердце было, что думалось, этого женщина даже себе не говорит, не то что попу на духу… «Ах, это око!..»
– Что же ты, сестрица, остановилась? – вывели ее из задумчивости.
– Сейчас, сейчас, Дунюшка! «Нозе же твои дивно ступание имеют: до полуночи с Анною Амосовною, домчадицею своею, тайно бродила по темницам и по богадельням, милостыню от дома своего нося, деньги и ризы потребная комуждо неимущему довольно, овому рупь, а иному десять, а инда пятьдесят рублев и мешок сотной. Напоследок же сына своего, Ивана, принесе Богу…»
При этом Морозова перекрестилась и вздохнула. Перекрестились и все остальные.
– «…принесе Богу православия ради еже есть: скончался скоро отрок от великия печали, егда отступники с тобою разлучили. Ты же ни мало от подвига уклонися, ни усумнеся, но и паче простирашеся к обличению врагов Креста Христова и разорителей догматов святыя Церкве. Они же тя, яко зверие дикий, терзаху на пытке, руце твои и плоть рваху и сестру твою, княгиню Урусову, Евдокию Прокопьевну…»
Урусова радостно перекрестилась.
– «…также мучили на пытке. И Акинфеюшку Данилову…»
– Батюшка! Светик мой! И меня не забыл! Господи. – Акинфеюшка вскочила с соломы, на которой сидела у ног Морозовой, и, упав на колени, стала молиться и класть поклоны.
– «И Акинфеюшку Данилову с вами же пытали и кнутом били. Приглашаху еретики, у пытки стоя: “Отверзитеся знамения Христова и пять перст от святых преданных в руке не слагайте; но приимите извол государев три перста и запечатайте себя антихристом, богом нашим, мы же к вам милостивы будем”. Вы же, троица святая, Феодосия, и Евдокия, и Акинфия, умрети изволиша Христа ради и не послушаша духа противного. В муки ввержения быша без чести обнаженным телесем и раны прияша. Тоже чепьми окована быша и во юзилищах мучени много времени быша. Таже всех вас и с иными, страждущими Христа ради, обще живых в землю вкопали, и инии отцы и братия наша огню предани быша. Молю вы о Господи, детки мои духовные, святии и истиннии раби Христовы: Бог есть с нами, и никто же на ны! Кто может нас разлучити от любви Христовы? И сам диавол не учинит ничево стоящим и держащимся за Христа крепце. Что воздам вам, земнии ангели, небеснии человецы? О святая Феодосия и блаженная Евдокия и страстотерпица Акинфия, мученицы и исповедницы Христовы, делателие винограда Христова! Вертоград едемский вас именую и Ноев славный ковчег, стоящ на горах Араратских, светлии и доблии мученицы, столпи непоколебимии! О камение драгое, акинф, и измарагд, и аспис! О трисиятельное солнце и немерцающие звезды! Кто не удивится и кто не прославит терпение и мужество ваше против козней врагов и разорителей церковных? Не стени разоряют, но законы. Не токмо осуждены будут в век грядущий жиды, иже Господа убиша, плоть его терзавше, на Крест пригвоздивше, оцтом и желчию напоиша и копием в ребра прободше, апостолов побивше и Богу не угодивше, якоже никонияне жертву духовную опровергоша и Духа Святого глаголют не истинна быти, но просто животворяща, а вся церковная, духом святым преданная, отмещут и зле развращают, на плотское мудрование сводят. Кольми суть паче жидов осудятся, понеже невидимого Бога борют. Тамо видимую плоть терзаху, зде же невидимый Дух Святый воюют их же грехи и мученическая кровь загладити не может. Так Златоустый пишет на послание апостольское в беседах, нравоучении обличая схизматики, еже есть раздирающие церковь, яко же, ныне видим, творят никонияне; вся Богом преданная и святыми отмещут, да говорят сами диаволом научени: “Как бы нибудь, лише бы не по-старому”. Ох, собаки! Что вам старина та помешала? Разве то тяжко, что блудить не велят старые святые книги? Блуд, собака!..»
Вдруг тихо, осторожно скрипнул тюремный засов.
– Ох, господи! Кто это?
– Неурочный час… розыск… прячь письмо, сестрица…
В дверях показалось знакомое Морозовой лицо московского подьячего из Розыскного приказа, красное угреватое лицо «людоеда» Кузмищева, как его величала вся Москва.
– Что вы читали? – спросил он, взглядываясь со свету в темноту.
Все молчали. Слышно было тихое шуршание бумаги: это Морозова комкала у себя за спиною Аввакумово послание.
– По указу его царского пресветлого величества доказывайте, что читали? – повторил свой вопрос «людоед», приближаясь к Морозовой.
– Молитву читали, – смело отвечала за всех Юстина.
– Не молитву, воровское письмо! – громко сказал подьячий.
– Мы не воры! – так же резко отвечала Юстина.
Но не научившаяся притворяться Морозова выдала себя: шорох бумаги и смущение обличили ее… Подьячий схватил ее за плечи, потом за локти…
– Владычица! Что ж это!.. Ах!..
Письмо уже было в руках «людоеда»…
– А! Молитва-ста…
Но в один миг Юстина наскочила на него, вырвала из рук его письмо и, скомкав комом, засунула себе в рот. Подьячий кинулся на нее: завязалась борьба… Сильная, привыкшая ко всему монахиня, защищая свой рот, который силился разодрать «людоед», чтобы достать дорогое для него поличное, так хватила своего противника, что тот навзничь повалился на солому.
Предательское письмо было проглочено мужественною инокинею…
Через несколько дней, рано утром, узницы были разбужены стуком топоров. Слышно было, что около их тюрьмы что-то строили. Какой-то веселый плотник пел фальцетом:
Построю я келью со дверью,
Стану я Богу молитца,
Штоб меня девки любили,
Крашоныя яйца носили,
Тили-тили-тили-тили-тили;
Грушевым квасом поили…
– Что ты, дьявол, разорался! Али не знаешь, каку хоромину-ту ладим, – останавливал певуна другой голос.
– Знаю, амбаруха аховая, ешь ее мухи!
Вили-вили-вили-вили-вили —
Толченыем луком кормили…
– То-то, слякоть эдака! А он ржет, жеребец!
– Ржу, потому за хоромину эту боярин денег дал… есть на что жеребяткам хлебушка купить, а то вон с голоду попухли…
Э-эх – толченыем луком кормили…
Морозова выглянула в оконце и перекрестилась: она узнала, что это за хоромину строили… Делали два сосновых сруба, в расстоянии не более сажени один от другого, словно бы это готовили обшивку для колодцев. Тут же навалены были десятки снопов ржаной соломы.
– Что, сестрица? – тревожно спросила Урусова, по лицу сестры поняв, что там строится что-то необыкновенное.
– Горенки нам строят, – с горькою усмешкою отвечала Морозова.
К плотникам подошел подьячий Кузмищев.
– Живей, живей, ребята! – понукал он. – Чтобы к полдню было готово.
– Добро-ста, – отвечал певун, почесывая в затылке, – стараемся для вашей милости.
Узницы попеременно выглянули в оконце. Взгляд Юстины встретился со взглядом подьячего. Последний отвернулся.
– Видели, сестрицы, что нам припасают? – тихо спросила Морозова.
– Видела, матушка, – отвечала Юстина.
– И слышали, что подьячий сказал?
– Слыхали, к полудню: полдничать хочет «людоед» мясцом нашим.
– Так надо бы нам, сестрицы милые, подумать о душе, – продолжала Морозова.
– Всю жисть, матушка, думали о ней, – снова отвечала за других Юстина.
– А все же подобает по закону исправу учинить на отход души.
– Знамо, помолимся Господу.
– Помолимся по церковному преданию: канун отпоем по душам нашим, а там простимся.
– Да, – сказала, как бы про себя, Акинфеюшка, – в путь-дороженьку снарядиться надо… А долга дорога та, далеко иттить будет, дале, чем до Киева.
Морозова стала петь отходную. За нею повторяли и остальные узницы. Чистый, серебристый голос Урусовой часто срывался и дрожал, как слабо натянутая струна, но зато голос сестры ее, ровный, твердый, за душу хватающий, постоянно, казалось, крепчал грудными, глубокими нотами. Юстина пела твердо, спокойно, как будто бы она не себя отпевала, не с собой прощалась на пороге таинственного будущего, а читала по чужому, совершенно ей не знакомому мертвецу.
В это время, гремя железным запором, отворилась тюремная дверь, и Кузмищев в сопровождении двух стрельцов вошел в подземелье.
– По указу его царского пресветлого величества сим известую: черница Юстина ныне огню предана быть имеет… Готовься к смерти! – возгласил подьячий.
– Я готова, – спокойно отвечала осужденная.
– А мы?! – разом вскричали другие узницы. – И мы приготовили себя на муки.
– Об вас указу нет, – отвечал Кузмищев.
Морозова опустилась перед осужденной на колени. За нею последовали Урусова и Акинфеюшка. Они целовали ее грубые, худые, жилистые руки и плакали.
– Матушка, отходишь ко Христу… Молись за нас: умоли Христа и нас взять к Себе, в блаженство горнее…
К полудню срубы действительно были готовы и обложены соломенными снопами. Узницы одного только не могли понять: почему срублено было два сруба, тогда как «людоед» объявил, что будут жечь только старицу Юстину. Юстина между тем мужественно готовилась к смерти. Она на словах передавала своим сестрам по заключению последнюю волю, если только их не постигнет та же участь. Она просила земно поклониться матери Мелании и такой же земной поклон послать «преподобному» отцу Аввакуму. Просила поминать ее на молитвах.
Когда стали отпирать дверь тюрьмы, Юстина затеплила восковую свечу и простилась с подругами, которые целовали ее руки и плакали.
Вошел Кузмищев с двумя палачами. У каждого из них урезано было по левому уху и вырваны ноздри по самые хрящи.
– Милости просим, матушка Иустина, в баньку, косточки попарить, – злорадно сказал подьячий, низко кланяясь.
– Спасибо тебе, человече, за твое великое добро ко мне, – серьезно отвечала осужденная.
– Не на чем-ста, не стоит благодарности, – зло усмехнулся подьячий.
– Стоит, человече: ты отпираешь мне рай светлый.
– Ну, это еще вилами на воде писано, авоськами присыпано…
Осужденная твердо вышла из подземелья, держа в руке горящую свечу.
– Пожалуйте и вы, государыни, – лукаво обратился подьячий к Морозовой, Урусовой и Акинфеюшке.
– Слава Тебе Господи! – радостно воскликнула первая из них. – И нас Господь призывает.
– Не радуйся, боярыня… погоди радоваться, – остановил ее подьячий.
И он вышел из тюрьмы. За ним вышли Морозова, Урусова и Акинфеюшка. Толпы народа волновались вокруг срубов, и оставался свободным только проход к ним из подземелья, по которому шла Юстина со свечой.
Первое, что представилось глазам Морозовой при взгляде на срубы, это знакомая фигура на одном из них, стоявшая наверху костра, между снопами. Морозова узнала, кто стоял на костре: то был ее верный слуга Иванушка. Он с детства любил свою госпожу, и когда она выходила замуж за Морозова, то Соковнин, отец Феодосьи, дал в приданое дочери между прочим и Иванушку. Это был не человек, а собака по верности и преданности своей госпоже и ее пользам.
– Матушка! Федосья Прокопьевна! – восторженно крикнул Иванушка и поклонился, припав головой к снопам. – Благослови меня, святая мученица!
– Иванушка, миленький! Тебя за что?.. – затрепетала молодая боярыня.
– За Христа-света да за тебя…
– Полно-ка, смерд! – крикнул на него подьячий. – А ты скажи, где схоронил сокровища своей госпожи, и за то я сниму тебя с костра, если скажешь.
– Не скажу! – твердо отвечал Иванушка.
– Сказывай, кому отдал сокровища? – повторил подьячий.
– Самому Христу в руки! – был ответ.
– В последнее отвещай: кому?
– Христу да Богородушке Матушке на масло.
Между тем Юстина, всходя на другой костер, сама подожгла несколько нижних снопов, и костер мгновенно объяло пламенем. В толпе послышались крики ужаса, детский плач…
– Ах ты окаянная! – ударил об полы руками подьячий. – И указ не дала вычесть… ахти мне!
И он, торопливо выхватив из-за пазухи бумагу, стал выкрикивать, постоянно путаясь и заикаясь, какие-то бессвязные фразы…
– …указал его царское пресветлое величество… Освященный собор… за таковые их злые вины… мучительные казни… ино милосердуя духом о своих подданных, по неизреченной своей милости указал огнем сжещи…
А пламя между тем охватило весь костер. Что-то страшное было и поражающее во всей фигуре Юстины, которая кланялась на все четыре стороны…
– Простите, православные, за Христа умираю!









































