Читать книгу "Великий раскол"
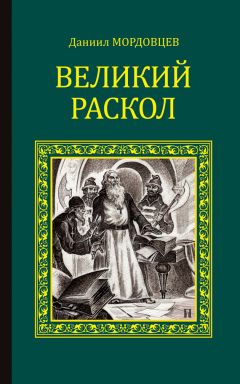
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XI. Увещание Морозовой
Стольники выкупаны, вдоволь накормлены, доклады дьяков выслушаны, резолюции по отпискам воевод и посольских людей положены, грамоты посланы… После обеда часа два соснуто; квасу, и браги, и медов со сна полтретья ведра выпито; вечерни отслушаны; побаловано сластями; медвежатников похвалено; «комидийное действо о блудном сыне» просмотрено; на ночь попито, поедено и гораздо запито, и прошел московский день… Слава Тебе, Создателю всяческих…
Ночь…
И царь Алексей Михайлович спит, и царица Наталья Кирилловна спит, и царевна Софьюшка баинькает, и Васенька князь Голицын спит, и дьяк Алмаз Иванов дрыхнет…
Царю грезятся стольники, царице – лазоревы цветочки, царевне Софьюшке – Васенька княжич, Васеньке – царевнушка Софьюшка, Алмазу Иванову – гусиное перо…
Ночь в Пустозерске…
Все спит и там… Не спит только Аввакум в своей земляной тюрьме: молится, кричит до Бога, звеня цепями… А привыкшая тюремная мышка грызет свой сухарик…
И в Ферапонтове ночь…
Никон не спит: стучит костылем по полу кельи, с чертями воюет…
И на Украине, в Чигирине, ночь…
Там никто не спит: пани гетманова в вишневом садочке с «молодшим» обнимается, пани Брюховецкая нянины московские сказки слушает, Гриць мечется в постельке, «Шумом» бредит… Петрусь с Явдохою женихается… девчата и парубки поют от зари до зари…
Но и на Москве в эту тихую летнюю ночь не все спят. Ровно в полночь тихо заскрипела калитка на подворье Печерского монастыря, загремело железо, и из калитки вышла женщина, вся закутанная в черном и сопровождаемая вооруженными людьми. На ногах женщины звякали кандалы…
– Ишь, лешие, лошадь выпустили! – соскочил со скамейки заспавшийся сторож подворья, которому со сна по звяканью кандалов померещилось, что это ушла с подворья стреноженная цепью лошадь.
Он бросился за мнимою лошадью и в изумлении развел руками: то была не лошадь, а закутанная черною фатою женщина с кандалами на ногах.
– Ишь ты, монатка, должно, проворовалась, – пробормотал он и снова пошел спать.
Да, то была действительно «монатка», которая «проворовалась гораздо»: «воровство ее знамое», как сегодня еще выразился о ней Алексей Михайлович в разговоре с патриархом Питиримом. Надо заметить, что в то время «воровство» означало совсем не то, что значит теперь: «воровством» тогда называли всякое государственное преступление, неповиновение, бунт, и оттого тех казаков, которые шли против правительства, называли «воровскими». Вот потому-то сегодня царь, разговаривая с патриархом о Морозовой, выразился: «Воровство-де ее знамое…»
Морозову это-то и вели под караулом из Печерского подворья. Разговор об ней у царя с патриархом был сегодня по следующему случаю. Игуменья Алексеевского монастыря, в котором заточена была сестра Морозовой княгиня Урусова, не раз заводила с патриархом речь о том, что вот-де у нее в монастыре «смиряют» княгиню Урусову, «волочат» каждый день ее, «аки мертвую, к четью-петью церковному», а она-де «вопит свою проповедь на весь мир» – и оттого на Москве «молва живет гораздо», да и «соблазн великий», потому-де вся Москва знает о ее «вельможии и породе». Да и о сестре-де ее, боярыне Морозовой, «велия молва живет»… Вот потому-то сегодня патриарх и говорил царю: «Советую я тебе, великий государь, боярыню ту Морозову вдовицу – кабы ты изволил опять дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал. А княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело-то приличнее было. Женское их дело, что они, много смыслят! А об них многие знатные особы всего Московского государства соболезнуют, и это тебе, царскому величеству, не на корысть живет, а тебе же в убыток. Да и сынок твой родной, царевич Михаил, соболезнуя оным сестрам, частенько-таки, сказывают, к ним заезжает посмотреть сквозь решетку на их мученичество и слушает их с умилением: “Удивляет-де меня ваше страдание; одно только смущает меня: не знаю – за истину ли вы терпите”. А царь и говорит патриарху: «Давно бы я простил и пожаловал боярыню Морозову; но не знаешь ты лютости этой женщины. Как поведать тебе, сколь наругалась и ныне ругается Морозова-та! Много поделала она мне трудов и неудобств показала. Если не веришь моим словам, изволь сам испытать: призови ее к себе, спроси и сам узнаешь ее твердость. Начнешь ее истязать и вкусишь приятности ее… Потом я сделаю, что повелишь… А воровство ее знамое…»
Вследствие этого разговора и вели теперь к патриарху Морозову, чтобы он сам мог «вкусить ее приятности».
Тихо кругом по всей сонной Москве, только слышится роковое позвякиванье кандалов, да кое-где лай собаки, разбуженной этим звяканьем. Морозова идет, немного наклонив голову и как бы к чему-то прислушиваясь. Она вспоминает, как год тому назад она в сопровождении Акинфеюшки такою же летнею ночью шла к тюрьме Земского приказа навестить заключенного Стеньку Разина. Но теперь и она заключенница. Не одинаковы ли их вины перед Богом и Русскою землею? Да, одинаковы. И она, Федосья боярыня, такой же, как и Стенька, «воровской атаман», только тот шел против боярского богопротивного самовластья, а она идет против боярской богопротивной новой веры. И ее ждет такая же казнь, какая постигла Стеньку… Что ж! На то она пошла, на то взяла свой страннический посох, чтобы с ним добрести до могилы… А там она и Ванюшку своего встретит.
Только тогда, когда она шла к Стеньке, ветер шумел вершинами лип, и тот, к кому она тогда шла, сидя у тюремного окна, пел:
Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка…
А она будет петь «песнь нову».
Проходя мимо своего дома, она взглянула на него. Дом стоял мрачным, пустынным, и ни в одном окне ни огонька, хотя бы лампадка теплилась, ничего нет… Да и кому там возжигать лампадки? Ее дом теперь стал выморочным и взят в казну великого государя… Только слышно, на дворе собаки жалобно воют, по хозяину тоскуют…
Морозову привели в Чудов монастырь и ввели во Вселенскую палату. Палата была тускло освещена, и Морозова увидела только несколько черных клобуков, но лиц их сначала не распознала… «Волци, – мелькнуло у нее в уме, – наемники не радят об овцах, и волци распудят стадо…» Увидев в переднем углу палаты новые образа, она отвела от них лицо и перекрестилась истово, глядя на небо, в потолок. Клобуки глядели на нее, но она им не кланялась: молодое, красивое, нежное лицо глядело на них гордо, как бы спрашивая: «Зачем вы здесь? Ваше место на большой дороге, в муромских лесах, но не здесь… И для чего я вам надоблюсь? Какое общение Христа с Велиаром?..» Она не хотела стоять волею и почти висела на руках державших ее стрелецких сотников… «Не буду стоять… это волци…»
Она скоро узнала, кто были эти «волци»: патриарх Питирим, краснощекий Павел-«оладейник», митрополит Крутицкий, Иоаким, архимандрит чудовский, и думный дворянин Ларион Иванов «со властями и градскими начальниками».
«Лифостротон, сущий лифостротон», – думалось Морозовой.
Патриарх, приблизясь к ней, взглянул своими старческими глазами в ее светлые, чистые детские глаза и покачал головой: «Жить бы только, жить бы такой молодой да Бога славить, – подумалось ему, – так нет… сама смерти взыскует…»
Старик тяжело вздохнул и снова глянул в светлые глаза, блестевшие из-под монашеского клобучка.
– Дочь моя, почто окаменело сердце твое? – спросил он тихо и ласково.
Морозова молчала… «Она же ответа не даде», – шевельнулось в сердце у старика. Митрополит Павел, архимандрит Иоаким и думный Ларион молча переглядывались: они уже «вкусили приятности» этого василиска и аспида с ангельским личиком…
– Камень, камень, – бормотал старый патриарх, качая головой.
«Камень… на сем камени созижду Церковь… О! Созижди, Господи!» – колотилось в сердце у вопрошаемой.
– Боярыня! – с силою сказал патриарх. – Оставь все твои нелепые начинания, присоединись к соборной церкви и ко всему российскому собору.
Боярыня вскинула на него своими ясными глазами.
– Мне некому исповедываться и не у кого причаститься, – тихо отвечала она.
– Попов много в Москве, – с удивлением заметил патриарх.
– Попов много, – был ответ, – но истинного нет… У истинных языки вырезали либо живых в землю закопали.
Патриарх отступил назад. Четки задрожали в его руках: он, видимо, что-то вспомнил… Вспомнил, что и он так же веровал, как вот она… но… искушение власти, прелести мира.
– Дочь моя! – с еще большею силою сказал он. – Вельми пекусь о тебе: сам на старость понуждусь исповедать тебя и, отслужа, сам тебя причащу.
Какая честь! Честь небывалая в Московском государстве. Но Морозова отказалась и от этой чести.
– Разве есть разница между ними и тобою? Разве ты не творишь их волю? – заговорила она с горечью. – Когда ты был Крутицким митрополитом, держался обычая, переданного отцами нашей Русской земле, и носил клобучок старый, и тогда ты нами был отчасти любим. А ныне ты захотел творить волю земного царя, а Содетеля твоего презрел и возложил на свою голову рогатый клобук римского папы, и оттого мы теперь отвращаемся от тебя. Так не утешай меня тем, что сам меня причастишь; не требую я твоей службы.
По мере того как она говорила, краска заливала лицо маститого главы Московской церкви: он глубоко сознавал правоту ее слов и с горестью вспомнил о своей молодости, когда и он носил «малый клобучок на главе, а в груди сердце чисто»… Теперь потускнело это сердце… «потускне, яко зерцало от дыхания»…
Он сделал знак, чтобы его облачили в церковные ризы. Руки его дрожали.
– Принесите освященное масло… сучец подайте… помажу ее… авось придет в разум, – бормотал он, готовясь мазать миром упрямицу.
Подали патриарху сосуд и сучец. Патриарх приблизился к ней, творя молитву. До этой минуты она висела на руках сотников, которым даже приятно было держать «таку цыпочку», но тут она выпрямилась и сверкнула глазами.
Крутицкий митрополит протянул было свою жирную руку, чтобы приподнять треушок от клобучка, падавший на мраморный лоб боярыни, дабы патриарху удобнее было помазать ее маслом, но упрямица гордо отстранила руку митрополита.
– Помни, чернец: я боярыня, боярыня Морозова! – сказала она с достоинством.
Рука митрополита опустилась, как обожженная…
– А кусается, – лукаво шепнул думный Ларион своему соседу, архимандриту Иоакиму.
– Сущая крапива, – улыбнулся на это архимандрит.
– Я хотел токмо треушок поднять, – бормотал, оправдываясь, митрополит.
– То-то, не забывай моего боярского чина, – повторила боярыня.
Но патриарх приблизился к ней и омочил сучец в масло. Морозова, удерживаемая сотниками, взмолилась с воплем отчаяния:
– О-о! Не губи! Не губи меня, грешницу, отступным маслом.
Лицо патриарха покрылось краской негодования.
– Молчи! Ты поносишь святое миро!
– Не святое оно, отступное… О! Уйди от меня… Ужели одним часом хочешь погубить весь мой труд!.. Отступи, удались! Не требую я вашей святыни.
И она отворачивала назад голову, билась в руках стрельцов, как пойманный голубь, звеня железами.
Патриарх отступил и передал сосуд митрополиту: дрожащие руки его могли пролить священное миро. Он сам весь дрожал.
– Уведите вражью дочерь с глаз моих долой! – заикался старик. – Она еще отведает сруба.
Морозову увели. Когда она выведена была на крыльцо, то услыхала звяканье еще чьих-то кандалов. То вели еще двух колодниц.
– Дунюшка? Это ты?
– Я, сестрица, – отвечала радостно Урусова, которую тоже вели к патриарху.
Морозова и Урусова бросились было друг к другу, но стрельцы, конвоировавшие их, не пустили.
– О! Так ты жива еще! Не сожгли? Не удушили?
– Жива, сестрица.
– А кто с тобой?
– Это я, – отвечал женский голос, – али не узнала меня, Федосьюшка.
– Акинфеюшка! Милая! И ты в узах?
– В узах Павловых, миленькая, радуюсь!
– Слава Тебе, Создателю… Дерзайте же, миленькие! Дерзайте именем Христовым: той бо победи мир… Дерзайте!
Колодниц развели силою.
– И Анисьюшку боярышню взяли волци! И Устиньюшку взяли, поволокли в Боровск! – кричала уже с крыльца Акинфеюшка.
– А мать Меланию?
– Мать Мелания здравствует!
Стрельцы зажали рот Акинфеюшке.
Когда во Вселенскую палату ввели Урусову и Акинфеюшку, патриарх встретил их сердито.
– И вы во след оной же волчице? – спросил он, приближаясь к колодницам.
– Неведома нам волчица, а ведомы токмо волци, – отвечала княгиня.
Патриарх велел подать освященное масло.
– Княгиня! Оставь свои заблуждения, – заговорил он более спокойно, – покорись царю и Освященному собору, и тебя возвратят мужу и детям.
– Нету у меня мужа, – отвечала раскольница, – топор разве будет моим мужем, а брачным ложем плаха.
– А ты, боярышня, за ними же? – обратился патриарх к Акинфеюшке, отворачиваясь от Урусовой.
– Я жениха ищу, – отвечала та спокойно. Акинфеюшка смотрела теперь далеко не тою, какою мы видели ее более четырех лет тому назад в Малороссии, в городе Гадяче, в гостях у гетманши Брюховецкой, когда Акинфеюшка вместе с другими странницами и странниками возвращалась из Киева, куда они ходили на богомолье. Тогда она смотрела загорелою, с энергическим лицом и задумчивыми в то же время глазами, черницею, которая ходила из конца в конец Русской земли, ища себе «жениха», как она выражалась. В сущности, она бродила по «святым местам», побуждаемая скрытою в ней жаждою все видеть, чего она не видала прежде, искать новой, незнакомой ей природы, новых, невиданных ей людей. Это была по призванию бродящая душа, перелетная птичка, которую с каждой весной тянуло в неведомые страны. Теперь она пошла в заточение. Тюремная жизнь сгладила с ее лица загар и украинского, и поволжского солнца, убелила это лицо, возвратив ему боярскую белизну и нежность. Но в душе она осталась все та же: искала «жениха», жаждала видеть невиданные страны… Только теперь эти невиданные страны представлялись ей на том свете, за могилой, и она жаждала скорее пуститься в эту далекую дорогу, к неведомым странам…
Питирим, поглядев на ту и другую колодницу и видя, что словесные увещания и тут ни к чему не поведут, решился скорее укротить их строптивые сердца священным миром. Обмакнув сучец в масло, он потянулся было к Урусовой.
– Не подходи! Не подходи! – закричала она, вырываясь из рук стрельцов.
Силясь вырваться из грубых рук, которые все-таки старались держать ее «полегше, молодешенька уж она больно, хрупенька, пухлое тельцо мягконько, что у ребенка», она нечаянно сорвала с себя фату… Покрывало и повязка спали с головы… Пышная русая коса снопом развалилась по плечам и спине, точно рожь спелая…
И стрельцы, и духовные власти, увидев женскую косу, пришли в ужас: обнажить от покрова женскую голову в то время считалось величайшим позором и преступлением…
– Батюшки-светы! Волос бабий! Ах! Что мы наделали! – ужаснулись стрельцы.
– Святители! Бабу опростоволосили! Да за это и в аду мало места…
– Ах, господи! Что ж это такое будет?!
– Власы женски… перед чернецами… коса… грех какой! – растерянно бормотал патриарх. – Уведите, уведите ее! Ах!
«Экое добро пропадает, ни она себе, ни другим», – огорчался в душе Ларион Иванов, глядя вослед уводимым женщинам и созерцая все еще не прикрытую роскошную косу Урусовой.
– Н-ну зелье, ах! – едва передохнул Питирим. – Да легче со львом в пустыне состязаться, чем с бабою… Ну, зелье!..
XII. В застенке
На следующую ночь к ямской избе собрались бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский. Им предстояло трудное государское дело, пытать трех баб: боярыню Морозову, князя Петра Урусова жену Евдокию да дворянского рода Даниловых девицу Акинфею. Диву дались бояре, рассуждаючи о том, что ныне творится в Московском государстве, а особливо в царствующем граде Москве: «Бабы взбесились, все таки до единой перебесились и бабы, и девки». Забрали себе в голову – шутка сказать! – идти за Христом, да так и прут и на все фыркают: боярыни фыркают на боярство, княгини и княжны на княжество, стрельчихи на стрелецкую честь. На-поди! Говорят, что Христос-де и царского роду был, а жил смердом, мужиком, ходил, мало без сапог, без лаптей и спал, су, под заборами, а питался-де под окнами, где день, где ночь жил. А об боярстве-де у Него да о княжестве и помину не было, и кругом-де Него все были мужики и смерды, рыбаки да пастухи. И кинулись это бабы все добро делать: сами нищих одевают и моют, боярышни им шти варят да хлебы пекут, срам, да и только.
Что это поделалось с бабами, бояре и ума не приложат. Житья не стало им дома от этих баб, не приступись к ним, так все рвут и мечут, а смотрят смиренницами.
– Вот и на моей княгине бес поехал, – говорил массивный, остробородый толстяк князь Воротынский. – Уйму ей нету с тех самых мест, как увидела Морозову на дровнях, везли ее тады зимой под царские переходы; совсем взбесилась моя баба. «Хочу, – говорит, – и я за Христом идти!» – «Да где тебе, – говорю, – полоротая, за Христом иттить, коли у тебя дом на руках и хозяйство?» – «Нищим, – говорит, – раздай все…» А! Слышали? Ну, признаюсь, я ее маленько-таки, как закон велит, и постегал по закону: вежливенько соймя рубашку…
– Что жена! – перебил его Одоевский. – У меня дочушка, девчонка, взбеленилась. «Не хочу, – говорит, – быть княжной и служить диаволу, хочу, – говорит, – Павловы узы носить…» А! И откуда они взяли эти Павловы узы? Уж и бог их знает. А всему виной Морозиха эта да Урусиха… Теперь эта моя девчонка все, что ни попадет ей под руку, раздает черничкам да нищим. Уж я не знаю, что и делать с ней: учил малость, так хуже. «Убегу, – говорит, – от тебя, как Варвара-великомученица от отца Диаскора бежала…» А! Каково!
– И точно, времена настали тяжелые, – заметил и Волынский. – С этого с самого новокнижия все пошло да с никоновских новшеств… Допрежь того бабы были как бабы: знали свое кривое веретено. А ныне на-поди! Обо всем-ту они говорят, во все вмешиваются: и Никон-то нехорош, и Аввакум-то хорош, и кресты-те не те, и просфоры не те, и клобук на чернецах велик да рогат-де, да римский-де он, неправый… И в закон бабы пустились: скоро нас, чаю, из Боярской думы выгонят да за веретено посадят, а сами в Боярской думе будут государевы дела решать… Фу-ты пропасть!
– И детей портят, и дети туда же за ними, – пожаловался Одоевский.
– Что дети! Вон царевна Софья Алексеевна комидийные действа смотрит, а на Божественном Писании да на хитростях всяких Алмаза Иванова загоняет, – пояснил Воротынский.
– Что и говорить! А поди, тут дело без черкас не обошлось, без хохлов этих!.. У! Зелье народ!
– А вот теперь великий государь сердитует, гневом пышет, говорит: мы распустили узду, крамоле-де в зубы смотрим, – с огорчением пояснил Одоевский. – Ах, боже мой, мы ли не стараемся?! Вон ноне все тюрьмы полны, сколько заново земляных тюрем выкопали, и все полнехоньки. А крамола, словно гриб после дождя, из земли выскакивает…
За дверями послышалось звяканье кандалов… Бояре встрепенулись.
– Ведут ведьму-ту…
– Хорошенько надо попарить да расправить боярски-те косточки…
В палату ввели, скорее на руках втащили, Морозову. Ее с помощью стрельцов привел Ларион Иванов. Бояре невольно встали, увидав ее спокойное лицо, которому они когда-то при дворе и в ее собственном доме так усердно кланялись.
За Морозовой ввели Урусову и Акинфеюшку. Сестры издали поздоровались.
– Здравствуй, Дунюшка! Жива еще? Не удавили?
– Жива, сестрица. А ты?
– Скучаю об венце… А ты, Акинфеюшка?
– Об странствии соскучилась я… хочу скорее иттить на тот свет, да посошка еще мучители не дали…
Арестантки разговаривали, как будто бы перед ними никого не было.
– Полно-ко вам! – перебил их Воротынский. – Вы приведены сюда не на поседки, а за государевым делом, для пыток.
– Али ты, князь Воротынский, из холопей в палачи пожалован? – заметила Морозова. – Велика честь!
Воротынский не нашелся что отвечать.
– Скора ты! – глянул на непокорную боярыню Одоевский. – Что-то скажешь на дыбе?
– Скажу тебе спасибо, князь Яков; скажу, не забыл-де мою хлеб-соль, как при покойном муже у меня ежеден гащивался, – по-прежнему спокойно отвечала боярыня.
И Одоевский поперхнулся: он вспомнил, как заискивал у этой самой Морозовой, как холопствовал перед нею и ее мужем и как действительно Морозовы до отвалу кормили его вместе с другими прихлебателями, льнувшими, как осы к меду, к царской родственнице и любимице.
Воротынский, который тоже кое-что вспомнил, желая замять свою неловкость, подошел к Акинфеюшке.
– Ты кто такая? Как твое имя? – спросил он.
– Мария, – был ответ.
– Как – Мария! В отписке ты именована Акинфеею Герасимовою, Даниловых дворян.
– Была Акинфея… токмо не я, а другая… Я Мария.
– А чьих?
– Тебе на что? Богова, не твоя и не царева… На том свете не спросят мою душу: Данилова ты али Гаврилова?..
– Покоряешься ли ты царю и собору?
– А тебе какое дело до моей покорности?
– Так мы повелим тебя пытать огнем.
– Пытайте, это ваше дело… Я ничего не украла, никого не убила, никому худа не делаю, токмо люблю моего Христа: за Христа и жгите меня, жиды новые.
Воротынский приказал вести ее в застенок. Она сама пошла впереди стрельцов. За стрельцами последовали Воротынский, Одоевский и Волынский. За ними ввели Морозову и Урусову.
В просторном застенке висели привешенные к потолку «хомуты», хитрые приспособления для дыбы и встрясок. По стенам висели кнуты, плети, клещи. На полу, у стен, стояли огромные жаровни, лежали гири, веревки… На всем этом чернелись следы запекшейся крови… Огромный горн был полон, в нем тлели и вспыхивали синеватым огнем дубовые уголья… У горна и у хомутов возились палачи с засученными рукавами, в кожаных фартуках, словно кузнецы.
– Оголи до пояса, – указал Воротынский палачам на Акинфеюшку.
Она было вздрогнула, но потом перекрестилась и опустила руки.
– Христа всего обнажили, чтобы ребра прободать и голени перебить, – сказала она как бы про себя.
– Дерзай, миленькая, дерзай! – ободряла ее Морозова. – Будешь российскою первомученицею.
Палачи сорвали с Акинфеюшки верхнюю одежду и опустили рубаху до пояса… Она было прикрыла руками девичьи груди, согнулась: но палачи разняли руки и связали их за спиной… Несчастную подняли на дыбу… Она не вскрикнула и не застонала… Сделали встряску, руки несчастной выскочили из суставов…
– Господи! Благодарю Тебя! – прошептала мученица.
– Повтори встряску! – хрипло проговорил Воротынский.
Встряску повторили… Удивительно, как совсем не оторвались руки от туловища, от плеч… Несчастная висела долго… Морозова и Урусова глядели на нее и молча крестились.
– Что же оцт и желчь не подаете? – проговорила с дыбы жертва человеческой глупости.
– Много чести, – злобно заметил Воротынский.
– Копией прободайте…
– Нет, мы плеточкой, любезное дело!
– Худа больно, легка на весу; ее дыба не берет, – глубокомысленно заметил Одоевский.
– Проберет, дай срок, – успокоил его Волынский.
– А теперь княгинюшку, – злорадно показал палачам Воротынский на Урусову и сам сорвал с нее цветной покров, заметив: – Ты в опале царской, а носишь цветное!
– Я ничем не согрешила перед царем, – ответила Урусова тихо.
Палачи хотели было и ее обнажить.
– Не трожь ее! – раздался вдруг чей-то грубый голос. Все с изумлением оглянулись. Из отряда стрельцов, стоявших в дверях застенка, отделился один, бледный, с дрожащими губами… То был Онисимко… Морозова узнала его: он целовал ее ноги, когда в первый раз заковывал их в железо… Она перекрестила его.
– Благословен грядый во имя Господне.
Палачи, озадаченные первым возгласом, опустили было руки, но теперь снова подняли их.
– Не трожь, дьяволы! Она княгиня! – повторил Онисимко, хватаясь за саблю.
– Взять его! – закричал Воротынский.
Онисимку схватили за руки сотники и стрельцы и увели из застенка.
– Идолы! Мало им! Скоро всех детей малых заберут в застенки! – слышался протестующий голос уведенного стрельца.
– Делай свое дело! – прикрикнул на палачей Воротынский.
На Урусовой разорвали ворот сорочки и обнажили, как и Акинфеюшку, до пояса. Она вся дрожала от стыда, но ничего не говорила. Всем, даже стрельцам, стало неловко: слышно было их тяжелое дыхание, словно бы их поджаривали на полке в бане… У Лариона Иванова даже лицо побледнело и глаза смотрели сурово…
Урусову подняли на дыбу… Она застонала…
– Потерпи, Дунюшка, потерпи, недолго уж!
– Тряхай хомут-от! – командовал Воротынский. И у Урусовой руки выскочили из суставов…
– Мотри и кайся, – обратился Воротынский к Морозовой. – Вот что ты наделала! От славы дошла до бесчестья. Вспомни, кто ты и какого роду! И все оттого, что принимала в дом юродивых…
– Я и тебя принимала, не ты ли урод у дьявола? – перебила его Морозова.
– О! Ты востра на язык, знаю… да царь-от на востроту твою не посмотрел… Где ныне твое благородие?
– Невелико наше телесное благородие, и слава человеческая суетна на земле, – с горечью отвечала Морозова. – Сын Божий жил в убожестве, а распят же был жидами, вот как и мы мучимся от вас.
– Добро! Равняй себя со Христом-те…
– Я не равняю… отсохни и мой и твой язык за такое слово.
– Добро! Поговори-ко вон с ними, их поучи, мудрая! – указал на палачей, которые усердствовали около Урусовой и Акинфеюшки. – Взять и эту! Покачайте-ко боярыньку на качельцах.
Два палача приступили и к Морозовой. Она кротко взглянула им в лицо и перекрестила того и другого.
– Здравствуйте, братцы миленькие, – так же кротко сказала она, – делайте доброе дело.
Палачи растерянно глядели на нее и не трогались. Она еще перекрестила их. У одного дрогнули губы, глаза усиленно заморгали; он глянул на стрельцов, на Воротынского.
– Делайте же доброе дело, миленькие! – повторила Морозова.
– Доброе… Эх! Какое слово ты сказала! – как-то отчаянно замотал головой второй палач.
– Ну-у! – прорычал Воротынский.
Палач глянул на него и еще пуще замотал головой.
– Воля твоя, боярин… вели голову рубить, – бормотал он. – Али на нас креста нету?
– А! И ты! Вот я вас! – задыхался весь багровый Воротынский. – Вяжите ее! – крикнул он на стрельцов.
И стрельцы ни с места… Воротынский, с пеною у рта, бросился было на стрельцов; те отступили… Он к палачам с поднятыми кулаками, и те попятились назад…
– Так я же сам! – И он схватил Морозову за руки и потащил к свободному «хомуту»…
К нему подбежал Ларион Иванов, и они вдвоем связали Морозовой руки за спину.
– Спасибо, что не побрезговали, – как бы про себя сказала она.
Подняли на дыбу и Морозову… В это время Акинфеюшку, вытянутую из «хомута», положили вниз лицом на «кобылу», нечто вроде наклонно поставленного длинного стола с круглою прорезью в верхней части «кобылы» для головы, чтобы во время истязания кнутом или плетьми пытаемого по спине кнут не попадал в голову, и с кольцами по сторонам для привязывания к ним истязаемой жертвы: руки и ноги несчастной прикрутили ремнями к кольцам, и два палача вперемежку стегали ее ременными кручеными плетьми по голой спине… Белая, нежная спина пытаемой скоро покрылась багровыми поперечными полосами, а вслед за тем из багровых полос стала струиться темно-алая кровь…
– О-о-о! – вырвался из груди Морозовой стон отчаяния при виде мучений своей подруги по страданиям. – Это ли христианство, чтобы так людей учить?
– Мы не попы, – злорадно огрызнулся Воротынский. – Те учат словесами, а мы эдак-ту.
– А Христос так ли учил?
– Мы не Христы; где нам с суконным рылом!
Прежде всего сняли с дыбы Урусову. Вывихнутые из суставов руки торчали врозь…
– О! Что вы наделали! – залилась несчастная слезами. – Ох, мои рученьки! Креститься мне нечем… ох!
Палачи взяли ее за руки, потянули со встряской. Урусова вскрикнула от боли… но руки вошли в свои суставы… Она с трудом перекрестилась…
Акинфеюшку, с кровавою спиною, отвязали от колец и сняли с «кобылы». Урусова, видя ее всю в крови, взяла свой белый покров, брошенный палачами на землю, и стала прикладывать им к истекающей кровью спине Акинфеюшки…
– Милая, голубушка, мученица… это святая кровь…
– Слава Тебе, Спасителю наш… сподобил меня…
– Бедная, горемычная…
Урусова целовала ее руки… Лицо Акинфеюшки выражало блаженство…
– Ох, как мне легко, Дунюшка!
Она взяла из рук Урусовой весь пропитанный кровью покров и, отыскав своего палача, подала ему:
– Возьми, братец миленькой, этот покров, снеси его к брату моему кровному Акинфею, отдай ему и скажи: «Сестра-де тебе своею кровью кланяется…» Он тебя не оставит без награждения.
Когда вынули из «хомута» Морозову, то вывихнутые из суставов и еще не вправленные руки ее с широкими рукавами белой сорочки представляли подобие распростертых и запрокинутых назад крыльев…
Урусова и Акинфеюшка упали перед нею на колени и подняли руки на молитву…
– Матушка! Ангел! Ангел сущий во плоти…
– И крылышки… точно ангел… ах!
– Крыле, яко голубине… матушка! Сестрица!
Но палачи поспешили превратить крылатого ангела в плачущую женщину…
Чи я ж тебе не люблю – не люблю,
Чи я ж тебе черевичкив не куплю – не куплю!
Ой, моя дивчинонько!
Ой, моя рыбко!
Выбивал гопака в Чигирине на улице Петрусь, заметая широкою мотнею улицу и площадь, в те самые часы, как в Москве, в ямской избе, шли пытанья Морозовой, Урусовой и Акинфеюшки…
– Добре, Петрусь, добре! – кричала улица. – А ну, хлопче, ушкварь гречаники.
И Петрусь «ушкварил».
Гоп, мои гречаники! Гоп, мои били!
Чому ж, мои гречаники, вас свини не или…
А на другом конце улицы дудит дуда на весь Чигирин:
Дуд у Дуды ночував,
Дуд у Дуды дудку вкрав…
– Уж дьяволова же сторонка! Вот сторона! – ворчал между тем Соковнин, которому не спалось под этот полуночный гомон. – И когда они спят, дьяволы чубатые? Ну, сторона! А хорошая сторонка, что ни говори… А что-то на Москве теперь? Что сестры, э-эх!
Мы сейчас видели, что его сестры…









































