Читать книгу "Великий раскол"
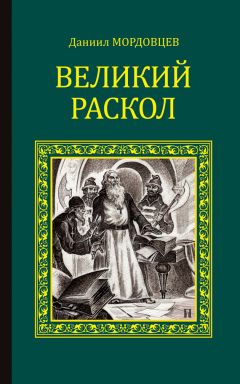
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Даниил Мордовцев
Великий раскол
© ООО «Издательство «Вече», 2013
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Об авторе
Известный русский и украинский писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев родился 7 (19) декабря 1830 г. в слободе Даниловка быв. Ростовской губернии. Его отец был управляющим помещичьей слободой, мать – дочерью местного священника. Даниил был младшим ребенком в семье. Отец умер, когда малышу еще не исполнилось и года. Мальчик учился сначала у слободского дьячка, потом окончил окружное училище и саратовскую гимназию. В 1850 г. юноша поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но его уговаривают перейти на историко-филологический факультет, откуда Даниил в следующем году переводится в Петербургский университет, по окончании которого уезжает в Саратов, где служит в губернской канцелярии и одновременно редактирует неофициальную часть «Губернских ведомостей». Пользуясь возможностью собирать разнообразный исторический и фольклорный материал, Мордовцев часто ездит по губернии. Часть собранного материала публикует в виде очерков в тех же «Губернских ведомостях». В 1859 г. вместе с Н. Костомаровым публикует «Малороссийский литературный сборник», куда включает свои произведения на украинском языке. Первым значительным литературным произведением на русском языке стал исторический рассказ «Медведицкий бурлак» (1859).
В 1864 г. Мордовцев переезжает в Петербург, где поступает на службу в Министерство внутренних дел, но через три года возвращается в Саратов. В волжском городе он служит в комиссии народного продовольствия, попечительском тюремном комитете, губернской канцелярии и статистическом комитете. Наряду с этим Мордовцев занимается историческими исследованиями, публикуя свои статьи в таких солидных журналах, как «Русское слово», «Русский вестник», «Вестник Европы». В журнале «Дело» публикуются очерки Даниила Лукича «Накануне воли», где реалистично показаны жизнь и взаимоотношения крестьян и помещиков. Очерки эти вызывают неудовольствие начальства. Весной 1872 г. Мордовцева отправляют в отставку. Он снова едет в Петербург, где издает свои исторические труды «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница», «Политические движения русского народа». В 1870-х гг. Мордовцев публикует в «Отечественных записках» ряд статей, написанных в полуюмористической форме от имени мистера Плумпудинга. Эти произведения пользовались большой популярностью.
С конца семидесятых годов писатель почти целиком посвящает себя историческому роману. Он обнаруживает здесь недюжинную работоспособность. К лучшим произведениям писателя относят романы «Великий раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь и гетман», «Наносная беда», «Лжедмитрий», «Двенадцатый год», «Замурованная царица», «За чьи грехи?». Д. Мордовцев не раз выезжал за пределы Российской империи и умел рассказать о зарубежной жизни. Его перу принадлежат путевые очерки: «Поездка в Иерусалим», «Поездка к пирамидам», «По Италии», «По Испании», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана» и пр. Мордовцев также был автором популярных культурно-исторических очерков: «Русские исторические женщины», «Русские женщины нового времени», «Ванька Каин», «Истории Пропилеи» и др. Собрание его сочинений, изданное в 1901–1902 гг., состоит из 50 томов.
Весной 1905 г. писатель заболел воспалением легких. Он уезжает сначала в Ростов, а потом в Кисловодск, надеясь, что кавказский климат вылечит его, но этого не произошло, и 10 (23) июня 1905 г. Даниил Мордовцев скончался. Его похоронили в Ростове-на-Дону, на Новоселовском кладбище, в фамильном склепе. В советское время интерес к творчеству «русского Вальтера Скотта» и «одного из самых читаемых в России беллетристов XIX века» резко упал. Только с начала 1990-х гг. снова стали выходить исторические романы этого неординарного писателя. Остается сожалеть, что он еще недостаточно известен современному читателю.
А. Москвин
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ Д. Л. МОРДОВЦЕВА
«Знамения времени» (1869)
«Идеалисты и реалисты» («Тень Ирода») (1876)
«Великий раскол» (1878)
«Наносная беда» (1879)
«Лжедмитрий» (1879)
«Двенадцатый год» (1880)
«Царь и гетман» (1880)
«Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение») (1880)
«Господин Великий Новгород» (1882)
«Замурованная царица» (1884)
«Видение в Публичной библиотеке» (1884)
«Москва слезам не верит» (1885)
«За чьи грехи?» (1891)
«Державный плотник» (1895)
Часть первая
I. Попытка к возврату
В ночь с 17 на 18 декабря 1664 года из ворот Воскресенского монастыря, что под Москвою, выехало несколько саней. В передних, с высокою спинкою, обитых черною материею, виднелась массивная фигура в черном высоком клобуке, на котором, при мерцании звезд и движении саней, искрились разноцветные огоньки дорогих камней. Против него, на переднем сиденье, виднелась другая человеческая фигура, над которою высился большой крест, тоже искрившийся огоньками. Проходившие в это время по дороге люди, завидя передние сани и крест, поспешно отошли в сторону и упали ниц.
Ночь была морозная, тихая. На небе вызвездило. Необыкновенно ярко выступали из мрачного покрова, раскинувшегося над землею, то трепетные и мигающие, то яркие и дрожащие искры далеких огней, брошенных неведомою силою в пространство, и чем дольше всматривался в них глаз, тем далее, казалось, уходили они в мрачную, беспредельную даль и пустоту, так что становилось чего-то страшно. Страх этот ясно изображался на бледном лице того, который сидел на переднем сиденье первых саней и держал в руках высокий металлический крест: он, по временам, испуганно взглядывал на это темное, усеянное звездами небо, на котором, среди других звезд, неподвижно стояла страшная, хвостатая звезда, словно огненная метла, брошенная на небо хвостом на полдень, – и тихо шептал молитву.
Поезд двигался скоро, резко визжа полозьями по снегу. Возницы, сидевшие на передках саней, тихо, без слов, но торопливо подгоняли лошадей длинными бичами. Во всех санях виднелись черные клобуки – и весь этот ночной поезд с черными клобуками представлял что-то таинственное, загадочное.
– Что крест-от так дрожит у тебя в руках? – спросил вдруг тот, у которого на клобуке искрились драгоценные камни.
– Страховито видение сие, великий государь, – отвечал державший крест, указывая на комету.
– То знамение Божие – перст огненный, им же Он, сый и грядый, судьбы мира пишет.
– К добру ли знамение то, великий государь?
– Судьбы Его кто исповесть? Может, на врагов моих и сквернителей церкви Российской указует тот палец огненный, а может, на меня.
Через дорогу, впереди саней, промелькнуло что-то серенькое и попрыгало по снегу к ближайшему перелеску.
– Стой, останови сани! – повелительно сказал последний голос. – Заяц перебежал дорогу… Лукав бес – ненавидит добро… Поди, Иванушко, осени крестом дорогу.
Возница остановил коней. Остановился и весь поезд. Лошади встряхивались, гремя наборною сбруею.
– Что случилось? Зачем стали? – слышалось из прочих саней. – Заяц передорожил.
Тот, кого называли Иванушкой, вылез из первых саней, держа перед собою высокий крест, прошел вперед и, трижды осенив крестом дорогу, молча воротился на свое место.
Поезд снова двинулся. Опять завизжали полозья, звонко, резко, словно бы под ними кто-то вскрикивал от боли, жалуясь на холод. Снова безмолвно смотрели с неба чьи-то страшные очи да огненный палец – не палец, а целая горящая пятерня указывала на что-то далекое, невидимое. Иногда лес заслонял собою горизонт и снежную, утопавшую во мраке равнину, и тогда казалось, что вдоль дороги, по сторонам, двигались какие-то тени в саванах, из-под которых простирались длинные руки, словно закоченевшие от холода.
Время переходило уже за полночь, и в ночном воздухе слышалось что-то похожее не то на продолжительный, неумолкаемый стон, не то на далекую протяжную и плачущую музыку. Сидевший в передних санях словно как бы вздрогнул и вытянулся, к чему-то прислушиваясь.
– Меня зовут… по мне встосковались храмы Божии, – радостно сказал он.
То слышался далекий звон московских церквей к заутрене. Скоро близость Москвы стала сказываться все яснее и яснее. Потянулись изгороди, заборы, боярские подгородные усадьбы. Чаще попадались обозы, гуськом тянувшиеся в город, к раннему базару.
У заставы поезд остановлен был окриком сторожей: «Кто едет?»
– Саввина монастыря власти, – отвечали из первых саней.
– Подвысь! Вольно! С Богом!
И сторожа, при виде креста в санях, в недоумении сняли шапки и стали креститься.
Поезд с крестом проехал прямо в Кремль и остановился у Успенского собора. В соборе в это время шла заутреня. Служил Ростовский митрополит Иона, временный блюститель Патриаршего престола. Народу была полна церковь, так полна, что во время молитвенных возглашений иподиакона вся церковь представляла колышущуюся массу голов, которые, по-видимому, не вмещались в тесных стенах обширного храма и во всяком случае не могли делать истовые размашистые поклоны, как то требовалось обычаем. В спертом от дыхания воздухе свечи, которых зажжены были целые леса, горели тускло, оплывали и чадили. Но при всем том в храме царствовала благоговейная тишина и только слышались сдержанные старческие покашливанья да вздохи сокрушенных сердец, а то и просто вздохи обычая – что так-де надоть, крепче будет. Над всем этим господствовал звонкий, грудной, хотя тоже, в силу обычая, для большей истовости несколько гнусивший голос псаломщика – митрополичьего поддьяка, высоко и шибко забиравшего большею частью там, где не следовало. Читалась уже вторая кафизма. Голос чтеца гулко отдавался под сводами храма, как бы силясь вырваться на морозный воздух из этой душной, пропитанной восковым чадом атмосферы.
Вдруг у входных дверей послышался какой-то шум. Сделалось смятение. Все головы оборотились взад в ожидании чего-то непонятного. Входные двери загремели железными засовами, завизжали на петлях и тяжело растворились настежь. В церковь дымными клубами ворвался морозный воздух.
Что такое? Не царь ли идет? Голос псаломщика дрогнул, но чтение не прекращалось.
Стена молящихся насунулась вперед и уперлась о самый амвон. Те, которые занимали середину церкви, шарахнулись в стороны, как овцы, прижимаясь к стенам и колыхая паникадилами, которые чуть не попадали – да упасть было некуда – попадали только некоторые свечи.
Показались ряды монахов с заиндевевшими от мороза бородами. За монахами – высокий, блестящий золотом и самоцветными камнями крест. За крестом – высокая, коренастая, осанистая фигура в черном клобуке, на котором блестит и искрится отливающий всеми цветами радуги налобный крест. Лицо вошедшего за крестом – бледное, суровое, с выражением чего-то повелительного, непреклонного, скорее жесткого и отталкивающего: глаза, которые никогда, кажется, не смотрели нежно на ребенка, губы, которые никогда, кажется, не знали поцелуя любви и ласки.
Все головы оборотились к нему, и все, казалось, замерло с испугу. Один поддьяк не прерывал чтения, хотя и его голос срывался и дрожал.
– Перестань читать! – раздался, как удар кнута, повелительный голос, который так часто когда-то слышали эти стены; а теперь и стены, казалось, дрогнули от испуга: так давно они не слыхали этого знакомого, страшного голоса – более шести лет не слыхали его.
Слова читавшего кафизмы замерли в горле, на полслове остановился, словно бы перед ним разверзлась бездна. А в этот момент откуда-то раздались стройные, плавные звуки, как будто бы они исходили из купола, в то время как страшный пришлец твердо и грузно вступал на патриаршее место.
– Исполла эти, деспота!
Это пели монахи, только что вошедшие в церковь. Потом запели – «Достойно есть…». Вся церковь окаменела от изумления; никто не молился; митрополит стоял бледный, потерянный – он не знал, что ему делать, не понимал, что же такое случилось, что вокруг него происходит.
Когда кончилось пение «достойно», протодиакон, стоявший в полном облачении, недвижим, как истукан, невольно поднял обернутую в орарь правую руку, которая дрожала.
– Говори ектенью! – второй раз прозвучал по церкви тот страшный голос, который всех приводил в трепет.
Протодиакон оторопел, заспешил было, сорвался с голоса, поправился, передохнул – и продолжал уже ровной, привычной октавой… «О свышнем мире и о спасении душ наших! О мире всего мира…»
А страшный пришлец, сойдя с патриаршего места, плавно, но твердо, словно вдавливая ноги в церковный каменный помост, стал ходить по церкви и прикладываться к образам и мощам. Народ со страхом расступался перед ним, боясь поднять глаза до его глаз, светившихся каким-то фосфорическим светом.
Окончив это, пришлец опять взошел на патриаршее место, возглашая громко, медленно и сурово, как бы грозясь кому-то: «Владыко Многомилостиве!..»
– Иди под благословение! – повелительно обратился он, тотчас после молитвы, к митрополиту Ионе, который продолжал стоять неподвижно, по-прежнему бледный, недоумевающий.
Иона повиновался – подошел, склонив ниже обыкновенного седую голову в богатой митре. За ним робко потянулось прочее духовенство. Пришлец порывисто шептал благословение и так же порывисто крестил подходящих, словно ударял ладонью провинившийся пред ним воздух. Никто не глядел в глаза этому страшному пришельцу.
– Поди, возвести великому государю о моем пришествии, – сказал он митрополиту, окончив благословение.
Оторопелый митрополит еще ниже наклонил голову, седые редкие косы его дрожали на плечах.
– Иди, – раздался повторительный возглас.
Иона пошел, шатаясь и не поднимая головы. За ним торопливо последовал ключарь собора, Иов. Народ поспешно расступался перед ними, как бы боясь прикоснуться до их риз.
За духовенством, один за другим, тихо и робко ступая по мосту, стали всходить на патриаршее возвышение и прочие молящиеся. Пришлец благословлял всех, долго благословлял. Не одну тысячу раз сделала в воздухе крестное знамение жилистая рука его, а народ все подступает, робко прижимаясь один к другому.
А время идет… Пришлец нетерпеливо поглядывает на входные двери – никого нет… На лицо его все более и более ложится какая-то зловещая тень… Глаза перестают глядеть на подходящий под благословение народ: они его не видят, а видят как будто что-то другое, никому не видимое.
Церковные сторожа робко, словно бы украдкой и боясь взглянуть на пришельца, пробираются между народом с пучками, с целыми охапками свечей и, втыкая их во все свободные ячейки паникадил и между ячейками, по бортам, до бесконечности увеличивают это несметное множество блестящих огненных языков, чтобы ярче, до боли глаз, осветилась огромная храмина, словно бы желая ярким светом освещенного огня согнать с давно вдовствующего патриаршего трона это страшное, сидящее на нем привидение, о котором начали было уже забывать, как о заживо погребенном. И храмина осветилась ярко, зловеще; а привидение не исчезает; оно все сидит на троне и автоматически машет рукою над робко склоняющимися головами молящихся. И лицо у привидения становится еще зловещее: матовая бледность его переходит в какую-то зеленоватость, в серо-пепельность…
Вдруг входные двери с шумом растворились. Народ опять шарахнулся в разные стороны. – Не царь ли идет? – Нет, не царь. – Показались бледные, смущенные лица митрополита Ионы, ключаря Иова, а за ними еще четыре лица… Это бояре. Впереди всех сухая, высокая фигура с иконописным лицом и черненькими в мешках и складках глазами. Это Одоевский князь, Никита Иванович, боярин и постник. За ним статная, осанистая фигура другого боярина с добрым лицом и добрыми глазами. Это боярин – князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Тут же и юркий молодой царедворец – Родион Стрешнев, и сухой, желтый, морщинистый, как пересохший пергамент, великий законник и воротило – дьяк Алмаз Иванов, изможденное лицо которого походило на полинялый от времени харатейный свиток, а живые черные глаза на этой харатье представляли подобие двух свежих чернильных пятен.
Бояре прямо подошли к патриаршему месту. Пришлец сидел, как статуя, не двигаясь; только огромный наперсный крест с камнями изобличал, что грудь, на которой он покоился, дышала тяжело, порывисто: камни дрожали и сверкали разноцветными искрами.
Вся церковь замерла от ожидания. Одоевский, молча и не кланяясь, подошел к пришельцу. Глаза их встретились. Глаза Одоевского потупились и спрятались под мешочками.
– Ты оставил Патриарший престол самовольно, – сказал он хрипло, – обещался впредь в патриархах не быть, съехал жить в монастырь, о чем и написано уже ко Вселенским патриархам; а теперь ты для чего в Москву приехал и в соборную церковь вошел без ведома великого государя и без совета всего Освященного собора? Ступай в монастырь по-прежнему.
Пришлец вздрогнул и поднялся во весь свой огромный рост. Одоевский невольно попятился назад. По церкви прошел ропот испуга. Многие учащенно крестились.
– Сошел я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем не зван для того, чтоб великий государь кровь утолил и мир учинил, а от суда Вселенских патриархов я не бегаю, и пришел я на свой престол по явлению.
Пришлец проговорил это необыкновенно отчетливо и резко. Каждое слово он как будто гвоздем прибивал, и последняя фраза сказалась особенно резко.
– Ступай в свой монастырь! – вторично прохрипел князь Одоевский то, что ему приказано было сказать.
Пришлец понял, что это уже царский указ – «пошел!» – и ни слова больше… Он пошарил что-то под панагиею и вынул оттуда запечатанный пакет.
– Вот письмо, отнесите его к великому государю, – сказал он, протягивая пакет и ни на кого не глядя.
– Ступай в монастырь! – автоматически повторил Одоевский.
– Без ведома великого государя мы письма принять не смеем, – как-то испуганно заговорил дьяк Алмаз Иванов, причем харатейная кожа на его лице еще более сморщилась: он вспомнил, что еще не так давно его, думного дьяка Алмаза Иванова, да подьячего Гришку Котошихина велено было бить батогами нещадно за то, что они приняли одно такое письмо, не досмотрев, а в нем была прописка в титуле великого государя – опискою написано было «гусодаря», – после каковых батогов, не стерпя побоя, оный Гришка Котошихин бежал к свейскому королю за море, а Алмаз Иванов харкал кровью.
– Без указа великого государя, его пресветлого царского величества, мы письма принять не смеем, – повторил этот великий законник.
– Пойдем, известим о сем великому государю, – добавил Юрий Долгорукий.
Посланные вышли. Церковь представляла теперь необыкновенное зрелище: служба была прервана; духовенство – соборные попы и протопопы, дьяконы, находившиеся перед тем в каком-то оцепенении, теперь ожили – бродили с клироса на клирос, с амвона в алтарь и по церкви, перешептывались, иногда менялись улыбками и шушуканьем, кивали головами, свободно зевали и широко разметывали косы; сторожа украдкой, а иногда и явно пофукивали на паникадила и притушивали излишне зажженные из страха свечи; народ, все время до пришествия посланцев теснившийся к патриаршему месту для благословения, теперь с робостью отхлынул от этого места и не знал, что ему делать. Казалось, в церкви был покойник, и словно бы все ждали, что вот-вот запоют – «помилуй раба Твоего»… Тяжелое ожидание!
И пришлец казался теперь не тем, чем был недавно: он сидел неподвижно, как статуя; ему уже некого было благословлять – и он молча перебирал четки; бледное лицо его по временам судорожно подергивалось… Между тем время тянулось так долго. Давно зажженные свечи догорали, и словно мрак какой-то спускался от купола все ниже к полу. Становилось как-то сумрачно. То там, то здесь слышались вздохи, шепот молитвы…
Наконец двери опять широко распахнулись – и все вздрогнуло, засуетилось. Вошли прежние посланцы.
– Великий государь указал нам, холопам своим, объявить тебе прежнее: чтобы ты шел назад в Воскресенский монастырь, а письмо взять у тебя, – проговорил, как по заученному, Одоевский, подходя к патриаршему месту.
Пришлец снова выпрямился во весь свой рост и сделал шаг к Одоевскому и к прочим посланцам. Дьяк Алмаз Иванов попятился назад; но чернильные пятна – глаза его заискрились.
– Коли великому государю приезд мой не надобен, то я поеду назад в монастырь, но не выйду из церкви, пока на письмо мое отповеди не будет, – сказал пришлец по-прежнему громко и отчетливо.
И он гордо, не как проситель, подал письмо. Дьяк Алмаз Иванов быстро нагнулся и взглянул на титул письма: он пуще смерти боялся прописки в титуле: это было одно из величайших и тягчайших государственных преступлений того времени.
Посланцы опять вышли, опять в церкви осталось то же слоняющееся без дела священство, те же ожидающие чего-то прихожане, та же неподвижная фигура на патриаршем месте, а рядом – высокий блестящий крест в руках ставрофора-крестоносителя.
После томительного ожидания в третий раз распахнулись входные двери собора. Теперь впереди посланцев от царя выступал смиренный Павел, митрополит Крутицкий; но из-за маски смирения лицо его светилось скрытым злорадством.
– Письмо твое великому государю донесено, – начал он громко, обводя весь собор глазами, и остановился.
Все ждали, притаив дыхание. Митрополит начал.
– Он, великий государь, его пресветлое царское величество, власти и бояре письмо выслушали, – продолжал он и снова остановился.
Все ждали опять, ждали с еще более напряженным вниманием. Послышался где-то стон. С висячего паникадила упала свечка, проведя в воздухе огненную полосу, словно падучая звезда, и погасла. «Ох!» – послышался чей-то испуганный голос.
– И ты, патриарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский монастырь по-прежнему, – закончил Крутицкий митрополит.
Это был жестокий приговор. Пришлец пошатнулся было назад, но тотчас же оправился, только лицо его позеленело. Он молча сошел с патриаршего места, медленно приложился к образам, взял посох митрополита Петра – этот исторический посох Московских святителей[1]1
Петр – первый митрополит всея Руси, утвержденный в 1385 г.
[Закрыть] – и направился к выходу между двумя стенами безмолвных зрителей, которых он, не поднимая глаз, благословлял обеими руками.
– Оставь посох! – говорил Одоевский, поспешая за ним.
– Оставь посох! – повторили прочие бояре.
– Отнимите силою! – не глядя на них, отвечал пришлец и вышел из собора.
Впереди по-прежнему несли крест. Ночь была на исходе. На небе все еще стояла огненная метла, только хвостом уже на запад. Народ повалил из собора.
Пришлец, садясь в сани, стал отрясать ноги, громко говоря евангельские слова:
– Иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилепший к ногама вашема, отрясите во свидетельство на ня!
– Мы этот прах подметем! – дерзко отвечал стрелецкий полковник, наряженный провожать пришельца, как арестанта. – Подметем-ста!
– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи! – сказал ему пришлец и указал на комету.
– Ох, Господи, спаси нас, помилуй! – послышался испуганный крик в народе.
Поезд двинулся в обратный путь. Народ повалил за поездом. Из дворца прискакали – окольничий князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий и любимец царский Артамон Сергеевич Матвеев – и следовали за поездом.
Странный вид представляло это шествие в ночной темноте, при только что занимавшейся заре. За поездом теснились толпы, опережая его и производя необыкновенный гул и ропот: стук тысяч ног об замерзшую землю, скрип саней, карканье проснувшихся галок и воронья и смутное рокотание голосов сливалось в какой-то невообразимый хаос. В разных местах города звонили колокола, как бы прощаясь с уезжающими.
Пришлец, тот, который произвел все это волнение, сидел в первых санях и как-то странно глядел на стоявший перед ним крест… «Порвалась… порвалась последняя нитка», – шептали бледные губы.
За земляным городом поезд остановился. Долгорукий сошел с коня и приблизился к первым саням, сняв свою высокую боярскую шапку.
– Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословение и прощение просить, – сказал он, почтительно нагибая голову.
– Бог его простит, коли не от него смута, – отвечал сидевший в первых санях.
– Какая смута? – удивленно спросил Долгорукий.
– Я не своей волей приезжал – по вести, – был ответ.
Поезд снова двинулся в путь сквозь густую толпу народа. На колокольне Ивана Великого загорался золотой крест – всходило солнце.









































