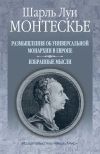Автор книги: Дени Дидро
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Священные предметы, которых не дозволено касаться
(из книги Д. Дидро «Прогулка скептика, или Аллеи»)
…Я уже роздал несколько копий моей рукописи; они были размножены, и в некоторых я нашел такие чудовищные искажения оригинала, что, боясь недовольства Клеобула[1]1
Клеобул и Арист – персонажи, от имени которых ведется повествование. – Примеч. ред.
[Закрыть], в случае если он проведает о моей нескромности, я отправился предупредить его, попросить прощения и даже добиться разрешения опубликовать его мысли. Я трепетал, когда объявлял ему о цели моего посещения, и уже стал отчаиваться в успехе своего начинания. Но он успокоил меня, взял за руку, повел под свои каштаны и сказал следующее:
– Я нисколько не браню вас за то, что вы стараетесь просветить людей; это самая важная услуга, которую им можно было бы оказать, но которая, однако, никогда не будет им оказана. Как остроумно выразился один из наших друзей, когда я однажды беседовал с ним под сенью этих деревьев, излагать истину некоторым людям – это все равно что направить луч света в совиное гнездо. Свет только попортит совам глаза, и они поднимут крик. Если бы люди были невежественны только потому, что ничему не учились, то их, пожалуй, еще можно было бы просветить; но нет, в их ослеплении есть система.
Арист, вы имеете дело с людьми не только ничего не знающими, но и не желающими ничего знать. Можно образумить человека, который заблуждается невольно; но с какой стороны атаковать того, кто стоит на страже против здравого смысла? Поэтому не ожидайте, что ваши труды принесут большую пользу другим, но бойтесь, как бы они не причинили бесконечный вред вам. Религия и правительство – священные предметы, которых не дозволено касаться. Лица, стоящие у кормила церкви и государства, оказались бы в большом затруднении, если бы им пришлось объяснять, по какой причине они требуют от нас молчания; но самое благоразумное – повиноваться и молчать, если только у нас нет столь твердой позиции, чтобы мы были недосягаемы для их стрел и могли возвещать им истину.
– Я понимаю, – ответил я, – всю мудрость ваших советов, но не обязуюсь следовать им; позволю себе спросить вас: почему религия и правительство – запретные темы, о которых нельзя писать? Если истина и справедливость могут только выиграть от моего исследования, то смешно воспрещать мне исследовать их. Неужели, позволив мне свободно высказывать свои мысли о религии, ей нанесут более опасный удар, чем запретив мне говорить о ней? Если бы знаменитый Кошен, изложив суду свои доводы, потребовал в заключение, чтобы противной стороне было воспрещено отвечать, то какое странное впечатление создалось бы о правоте защищаемого им дела!
Пусть дух нетерпимости движет магометанами; пусть они отстаивают свою религию огнем и мечом – они последовательны. Но когда люди, называющие себя учениками того, кто принес на землю закон любви, доброжелательства и мира, охраняют этот закон вооруженной силой, то это уж просто невыносимо. Значит, они забыли, как сурово он разбранил своих слишком пылких учеников, просивших его низвергнуть огонь с неба на те города, которые они не сумели обратить по собственной вине? Короче говоря, если рассуждения сильного ума основательны, то не следует бороться против них; а если они слабы, не следует их бояться.
– Вам можно было бы возразить, – ответил Клеобул, – что есть предрассудки, которые важно сохранить в народе.
– Какие? – перебил я его. – Раз человек признает существование бога, реальность нравственного добра и зла, бессмертие души, воздаяние и кары в загробной жизни, то к чему ему предрассудки? Если он будет еще посвящен в глубокие тайны пресуществления, сосуществования троицы, ипостасного единства, предопределения, воплощения и так далее, – станет ли он от этого более достойным гражданином? Если он будет знать во сто раз лучше, чем самый завзятый сорбоннский спорщик, являются ли три божественных лица отдельными и различными субстанциями; всемогущи ли Сын и святой дух или подчинены богу-отцу; заключается ли единство трех лиц в их внутреннем взаимном знании мыслей и намерений каждого; обстоит ли дело так, что в боге совсем нет лиц; являются ли Отец, Сын и святой дух тремя атрибутами божества – его благостью, мудростью и всемогуществом; являются ли они тремя актами его воли – творением, искуплением и благодатью – или же двумя актами или двумя атрибутами Отца; его самопознанием, из которого рождается Сын, и его любовью к Сыну, из которой исходит святой дух, или же тремя отношениями одной и той же субстанции, которая рассматривается как несотворенная, порожденная и произведенная, или, наконец, просто тремя наименованиями, – станет ли он от этого более честным человеком?
Нет, дорогой Клеобул, пусть он постигнет все тайные свойства личности, сосуществования, единосущия и ипостаси – при всем том он может остаться плутом. Христос сказал: любите бога и своего ближнего всем сердцем, как самого себя, в этом закон и пророки. Он был слишком разумен и справедлив, чтобы ставить добродетель и спасение людей в зависимость от слов, лишенных смысла. Клеобул, не великие истины залили землю кровью. Люди убивали друг друга лишь во имя того, чего они сами не понимали. Просмотрите церковную историю, и вы убедитесь, что если бы христианская религия сохранила свою первоначальную простоту; если бы от людей требовали только познания бога и любви к ближнему; если бы христианство не затемнили бесконечным множеством суеверий, которые сделали его на будущие времена недостойным бога в глазах здравомыслящих людей, – словом, если бы людям проповедовали только такой культ, основы которого они находили бы в своей собственной душе, то они его никогда не отвергли бы, а приняв его, не стали бы вступать в распри друг с другом. Корысть породила священников, священники породили предрассудки, предрассудки породили войны, и войны будут существовать до тех пор, пока будут предрассудки, предрассудки – пока будут священники, а священники – пока будет выгодно быть ими.
– Мне прямо кажется, – подхватил Клеобул, – что я перенесен во времена Павла в Эфес и что вокруг меня священники поднимают такой же вой, с каким они когда-то обрушились на Павла. “Если этот человек прав, – воскликнут эти торговцы реликвиями, – то конец нашей торговле; нам останется только закрыть нашу лавочку и умереть с голоду”.
Арист, послушайтесь меня, предотвратите этот взрыв, спрячьте вашу рукопись и не давайте ее никому, кроме наших друзей. Если вам дорога репутация человека, умеющего писать и мыслить, они должны будут признать за вами эту заслугу. Но если вы жаждете более широкой известности, если уважение и искренняя похвала маленького общества философов вас не удовлетворяют, то издайте труд, который вы сможете признать своим. Займитесь каким-нибудь другим вопросом; найдется сколько угодно тем, которые дадут еще более богатый материал вашему легкому перу.
– Что до меня, Клеобул, – ответил я, – то, сколько я ни всматриваюсь в окружающие меня предметы, я нахожу только два, которые заслуживают моего внимания, и это как раз те самые, о которых вы запрещаете мне говорить. Заставьте меня молчать о религии и правительстве, и мне нечего будет сказать. Действительно, какое мне дело, что академик *** написал прескверный роман; что отец *** произнес с кафедры академическую речь; что дворянин *** наводняет нас жалкими брошюрами; что герцогиня *** домогается благосклонности своих пажей; не все ли равно, кто настоящий отец сына герцога *** и пишет ли Д.*** сам свои сочинения или за него пишут другие? Все эти пустяки не имеют значения; эти глупости не затрагивают ни вашего благополучия, ни моего. Даже если бы скверная история с *** оказалась, хоть это и невозможно, еще в сто раз более скверной – управление государством не стало бы от того ни лучше, ни хуже. Ах, дорогой Клеобул, найдите для нас, пожалуйста, более интересные темы или уж дозвольте нам сидеть сложа руки.
– Согласен, – ответил Клеобул, – чтобы вы сидели сложа руки, сколько вам будет угодно. Не пишите никогда, если написанное может погубить вас; но если уж вы непременно хотите использовать свой досуг за счет публики, то почему бы вам не взять за образец нового автора, написавшего о предрассудках?
– Я вас понимаю, Клеобул, – сказал я, – вы советуете мне говорить о предрассудках публики так, чтобы всем было ясно, что я сам их целиком разделяю. Это ли вы имеете в виду? Это ли ставите мне в пример? Когда мне сообщили о выходе в свет этого сочинения, я сказал самому себе: вот книга, которую я ждал! “Где она продается?” – спросил я шепотом. “У Ж.***, на улице Св. Жака”,– ответили мне без всякой таинственности. “Как же это? – продолжал я думать про себя. – Неужели нашелся честный цензор, готовый пожертвовать своим жалованием ради истины, или же книга написана так плохо, что цензор мог пропустить ее, не рискуя своим маленьким состоянием?” Я прочел книгу и убедился, что цензор ничем не рисковал. Итак, вы советуете мне, Клеобул, или ничего не писать, или написать плохую книгу.
– Конечно, – ответил Клеобул. – Лучше быть плохим автором и жить спокойно, нежели, будучи хорошим автором, подвергаться преследованиям. Правильно сказал один, впрочем, довольно сумасбродный, автор, что книга, над которой зеваешь, не вредит никому.
– Я постараюсь, – возразил я, – написать хорошую книгу и избежать преследования.
– Желаю вам успеха. Но верный способ достигнуть цели, никого не раздражая, – это сочинить длинный исторический, догматический и критический трактат, которого никто не станет читать и который суеверы могут оставить без ответа. Тогда вы удостоились бы чести красоваться на одной полке вместе с Яном Гусом, Социном, Цвингли, Лютером и Кальвином, и через год едва ли кто-нибудь вспомнил бы, что вы написали книгу. Наоборот, если вы усвоите себе манеру Бейля, Монтеня, Вольтера, Барклая, Вулстона, Свифта, Монтескье, у вас, конечно, будут шансы оказаться более долговечным, но как дорого вы заплатите за это преимущество!
Дорогой Арист, знаете ли вы, как следует, с кем вы играете? Если у вас сорвется с пера, что “единосущный” просто бессмысленное слово, вас тотчас же объявят атеистом; но всякий атеист осужден на вечную муку, а всякий осужденный должен гореть в огне на том свете и на этом. Вследствие этого милосердного заключения вас будут гнать и преследовать. Сатана – служитель гнева божьего, а эти люди, как говорил один из наших друзей, никогда не откажутся быть служителями ярости сатанинской. Светские люди позабавятся над вашим сатирическим описанием их нравов; философы посмеются над насмешками, которыми вы уничтожаете их мнения; но святоши не понимают шуток, предупреждаю вас. Они все принимают всерьез и скорее простят вам сто возражений, чем одно острое слово.
– Но не объясните ли вы мне, дорогой Клеобул, – ответил я, – почему богословы так не любят шуток? Ведь известно, что ничего не может быть полезнее удачной шутки; а что до неудачной, то ничего, я думаю, не может быть невинней. Смеяться над тем, в чем нет ничего смешного, все равно что дуть на зеркало. Влага дыхания сходит с его поверхности сама собой, и оно снова становится кристально чистым. Нет, решительно, эти чересчур серьезные господа либо сами не умеют шутить, либо не знают, что истина, добро и красота не могут быть осмеяны, либо, наконец, чувствуют, что этих качеств у них нет и в помине.
– Верно, конечно, первое, – сказал Клеобул, – ибо что может быть несноснее богослова, который разыгрывает из себя остряка? Разве только молодой военный, разыгрывающий из себя богослова. Дорогой Арист, у вас есть положение в свете, вы носите известное имя, вы служили с отличием и доказали на деле свою честность; никто еще не вздумал и, надеюсь, никто не вздумает отказать вам в приятной внешности и уме; скажу больше, признавать за вами эти достоинства и быть знакомым с вами должен всякий, кто хочет иметь успех. По правде говоря, слава хорошего писателя даст вам так мало новых преимуществ, что вы могли бы пренебречь ею, но подумали ли вы о том, чем грозит вам репутация посредственного автора?
Знаете ли вы, что тысячи низких душ, завидующих вашим достоинствам, с нетерпением ждут одного вашего неловкого шага, чтобы безнаказанно опорочить все ваши блестящие качества? Не рискуйте обрадовать зависть этим жалким утешением; пусть она удивляется вам, чахнет и безмолвствует.
Аллея терний
…Не так давно я присутствовал при беседе одного обитателя аллеи терний с одним из наших товарищей. Первый, блуждая с повязкой на глазах, приблизился к зеленой беседке, в которой второй предавался раздумью. Их разделяла уже только живая изгородь, мешавшая им соединиться, но позволявшая слышать друг друга. Наш товарищ, только что додумавший до конца ряд мыслей, громко воскликнул, как это бывает с людьми, полагающими, что их никто не слышит: “Нет, никакого государя не существует; ничто не доказывает с очевидностью его существования!”. Слепец, до которого эти слова донеслись неясно, принял его за одного из себе подобных и стал его расспрашивать задыхающимся голосом:
– Брат, не заблудился ли я? Так ли я иду, и далеко ли нам еще, по-вашему, до конца пути?
– Увы, жалкий безумец, – ответил тот, – ты терзаешь и мучаешь себя напрасно; несчастная жертва своих вожатых, ты можешь идти сколько угодно и все равно никогда не придешь в то место, которое они тебе обещают. Если бы твоя голова не была закутана в эту тряпку, ты увидел бы так же ясно, как мы, что нет фантазий более нелепых, чем те странные хитросплетения, которыми тебя убаюкивают. Скажи мне, в самом деле: почему ты веришь в существование государя? Является ли твоя вера плодом твоих собственных размышлений и твоих знаний, или же она порождена предрассудками и назиданиями твоих вождей? Ты соглашаешься с ними, что не видишь ни зги, а судишь очень смело обо всем. Попытайся сначала разобраться в вопросе, взвесь доводы, чтобы составить себе более здравое суждение. С какой радостью я вытащил бы тебя из лабиринта, в котором ты блуждаешь. Подойди ко мне ближе, чтобы я мог снять с тебя эту повязку.
– Клянусь государем, я этого не сделаю, – ответил слепец, сделав три шага назад и насторожившись. – Что скажет он и что будет со мной, если я предстану перед ним без повязки, с широко раскрытыми глазами? Но если хочешь, давай побеседуем. Может быть, ты выведешь меня из заблуждения; а я, в свою очередь, не теряю надежды обратить тебя на путь истины. Если мне это удастся, мы пойдем дальше вместе, и, разделив опасности путешествия, мы разделим впоследствии и радости свидания. Говори же, я слушаю.
– Вот уже тридцать лет, – начал свою речь обитатель аллеи каштанов, – как ты в тоске и тревоге бредешь по этой проклятой дороге; ближе ли ты к цели, чем в первый день? Видишь ли ты теперь более ясно, чем прежде, вход или какой-нибудь зал или павильон дворца, в котором живет твой повелитель? Различаешь ли ты хоть одну ступень его трона? Нет, всегда равно удаленный от него, ты никогда к нему не приблизишься. Согласись же, что ты пошел по этой дороге без достаточно веского основания, только потому, что по ней шли, столь же безосновательно, твои предки, твои друзья и ближние, из которых ни один не принес тебе известий о блаженной стране, где ты надеешься когда-нибудь обитать.
Не счел бы ты достойным кандидатом в сумасшедший дом купца, который бросил бы свой дом и, доверившись словам какого-нибудь обманщика или невежды, стал бы подвергаться тысячам опасностей, переплывать неведомые и бурные моря, пересекать выжженные зноем пустыни в поисках какого-то клада в стране, которую он знает лишь по домыслам другого путешественника, столь же плутоватого или неосведомленного, как он сам?
Этот купец – ты. Ты бредешь, натыкаясь на колючие тернии, по незнакомой дороге. Ты не имеешь почти никакого представления о том, что ты ищешь; и вместо того чтобы исследовать свой путь, ты поставил себе законом идти вслепую, с глазами, закрытыми повязкой.
Но скажи мне, если твой государь разумен, мудр и благ, может ли он быть доволен тем глубоким мраком, в котором ты живешь? Если бы этот государь когда-нибудь предстал перед тобой, как мог бы ты признать его в темноте, которой ты себя окружаешь? Что помешает тебе спутать его с каким-нибудь самозванцем? Какое чувство вызовет в нем твой забитый вид – презрение или жалость? А если он вовсе не существует, то к чему все эти царапины, которым ты себя подвергаешь?
Если после смерти сохраняется способность чувствовать, ты будешь вечно терзаться раскаянием при мысли, что ты сам разрушал себя в тот краткий промежуток времени, который был дан тебе для наслаждения бытием, и что ты представлял себе своего государя жестоким тираном, жаждущим крови, воплей и ужасов.
…Но перейдем к вашим правилам; основанные на произвольных соглашениях, они созданы вашими первыми вожатыми, а не разумом, ибо разум, будучи единым во всех людях, указал бы им в любое время и в любом месте один и тот же путь, предписал бы одни и те же обязанности и воспретил бы одни и те же действия. В самом деле, разве есть основание думать, что он поступил с людьми более милостиво в отношении некоторых умозрительных истин, чем в отношении истин морали? Но все без исключения признают достоверность первых; что же до вторых, то стоит вам переправиться с одного берега реки на другой, перебраться на противоположный склон горы, переступить границу, пересечь математическую линию, и вы увидите, что белое превратилось в черное. Рассейте прежде всего этот туман, если хотите, чтобы я что-нибудь видел.
– Весьма охотно, – ответил слепец, – но я хотел бы время от времени прибегать к авторитету нашего кодекса. Знаете ли вы его? Это божественное творение. В нем не утверждается ничего, что не было бы основано на фактах сверхъестественного порядка, и, стало быть, несравненно более убедительных, чем те, какие мог бы представить разум.
– Ах, оставьте в покое ваш кодекс, – сказал философ. – Давайте сражаться равным оружием. Я выступаю перед вами без доспехов, причем иду на поединок охотно, а вы заковываете себя в броню, которая скорее может обессилить и раздавить человека, чем защитить его. Мне было бы стыдно иметь такое преимущество перед вами. Подумали ли вы об этом? И откуда вы взяли, что ваш кодекс имеет божественное происхождение? Так ли уж серьезно верят в это даже в вашей аллее? А может быть, это один из ваших вожатых под предлогом обличения Горация и Вергилия… но молчу: вы и так понимаете меня. Я слишком презираю ваших вожатых, чтобы использовать их авторитет против вас. Но какую пользу можете вы извлечь из баснословных рассказов, которыми полна эта книга? Как? Вы верите и хотите заставить верить других в самые невероятные факты со слов писателей, умерших более 2000 лет назад, хотя знаете, что ваши современники обманывают вас каждодневно насчет событий, которые происходят у вас на глазах и которые вы можете проверить?! Вы сами, когда рассказываете много раз о каком-нибудь известном вам и заинтересовавшем вас факте, – вы сами прибавляете, убавляете, без конца меняете подробности, так что против ваших слов приводят ваши же слова и еле могут разобраться в ваших противоречивых суждениях. И после этого вы воображаете, что можете отчетливо читать во мраке минувших веков и без труда согласовывать сомнительные сообщения ваших первых вожатых! Да ведь это значит относиться к ним с большей почтительностью, чем та, на какую вы могли бы притязать сами: вы решительно не считаетесь со своим самолюбием.
– Не говори об этом, чудовище! – воскликнул слепец. – Это главный виновник пятен, которые ты видишь на наших платьях, и семя высокомерия мешает и тебе обуздать твой разум. О, если бы ты сумел смирить его, как мы! Ты видишь эту власяницу? Не хочешь ли испробовать ее? А вот это бич одного великого служителя государя; дай я стегну тебя им несколько раз для спасения твоей души!
Если бы ты знал сладость этих истязаний! Как они благотворны для солдата! Через очищение они ведут к озарению, а затем к соединению. Но что я делаю, безумец? Я говорю с тобой языком героев, и, чтобы наказать себя за это святотатство и пробудить в тебе дар разума…
Тут засвистела плеть, и кровь полилась ручьями.
– Несчастный! – вскричал философ. – Какое безумие овладело тобой? Если бы я был менее жалостлив, я расхохотался бы над подобным зрелищем. Я посмотрел бы на тебя, как на слепого, который терзает свое тело, чтобы вернуть зрение пациенту Жандрона, или как на Санчо, который бичует себя, чтобы разрушить чары Дульсинеи. Но ты человек, и я тоже. Остановись, мой друг: твое самолюбие, которое ты думаешь укротить этой варварской экзекуцией, находит в ней удовлетворение и не сгибается под твоим бичом. Опусти свою руку и выслушай меня. Уродуя изображение вице-короля, разве ты оказал бы ему большую честь? И если бы ты вздумал заняться этим делом, не был бы ты тотчас же схвачен телохранителями военного совета и брошен в тюрьму на весь остаток твоих дней?
Ты видишь, я рассуждаю, исходя из твоих же принципов. Внешние знаки почитания венценосцев имеют своим единственным основанием их гордость, которую приходится ублажать, или, может быть, фактическую бедственность их положения, от которой их надо избавить. Но ведь твой государь наслаждается высшим блаженством. Если он довлеет себе, как ты утверждаешь, то к чему твои обеты, молитвы и все твои корчи? Либо он знает заранее твои желания, либо они ему вовсе неизвестны; и если он их знает, он уже раз и навсегда решил выполнить их или отвергнуть; твои докучливые мольбы не вырвут из его рук даров, и вопли твои не ускорят их ниспослание.
– А! Я начинаю догадываться, кто ты, – ответил слепец. – Твоя система стремится разрушить миллион величественных зданий, взломать двери наших вольеров, превратить наших вожатых в земледельцев или солдат, привести в нищенское состояние Рим, Анкону и Компостеллу, – откуда я заключаю, что ты хочешь уничтожить всякое общество.
– Ты заключаешь неправильно, – возразил наш друг, – я хочу уничтожить только злоупотребление. Существовали большие общественные союзы без всех этих принадлежностей, да и сейчас найдется не одно благоустроенное общество, не знающее даже их названий. Если ты сопоставишь всех этих людей с теми, которые хвастаются тем, что знают твоего государя, и если разберешься в ошибочности или противоречивости всего того, что эти последние говорят о нем, ты придешь к гораздо более правильному заключению, что никакого государя не существует. В самом деле, знал ли бы ты своего отца, если бы он всегда жил в Куско, а ты в Мадриде и если бы он сообщил тебе только самые сомнительные сведения о своем существовании?
– Но что бы я думал о нем, – возразил слепец, – если бы он дал мне в пользование какую-нибудь часть своего достояния? А ты согласишься со мной, что я получил в дар от великого духа способность мыслить, рассуждать. Я мыслю, следовательно, я существую. Я не сам дал себе бытие. Следовательно, я получил его от другого, и этот другой и есть государь.
– Ну, с этой точки зрения, – сказал обитатель аллеи каштанов, рассмеявшись, – сразу видно, что твой отец обездолил тебя. Но возьмем разум, которым ты так хвалишься, – какое применение ты ему находишь? В твоих руках это совершенно бесполезное орудие. Вечно опекаемый твоими вожатыми, он годится лишь на то, чтобы привести тебя в отчаяние. Из их речей, которые ты принимаешь за пророчества, твой разум узнает о каком-то своенравном повелителе, которого ты тщетно пытаешься умилостивить своим упорством в борьбе с этими терниями, скалами и трясинами. Ибо откуда тебе знать, не предопределил ли он, что в конце пути ты потеряешь терпение, приподнимешь из любопытства уголок повязки и чуть-чуть запачкаешь свое платье? Если таково его предопределение, ты падешь, и тогда ты погиб навеки.
– Нет, – возразил слепец, – ожидающие меня великолепные награды будут меня поддерживать.
– Но в чем же заключаются эти великолепные награды?
– В чем? В том, чтобы видеть государя; видеть его еще и еще раз; видеть его без конца и всякий раз испытывать такое восхищение, точно видишь его впервые. – Каким же это образом? – Каким образом? С помощью потайного фонаря, который нам прикрепят к шишковидной железе или к какому-то там мозолистому телу и который позволит нам увидеть все так ясно, что…
– С чем вас и поздравляю, – сказал наш товарищ, – но пока мне кажется, что твой фонарь невыносимо чадит. Из твоих слов вытекает только, что ты служишь своему господину из одного лишь страха и что твоя преданность основана лишь на корысти, на этой низкой страсти, приличествующей лишь рабам. Таким образом, самолюбие, против которого ты только что рвал и метал, оказывается единственной побудительной причиной твоих действий, и ты хочешь теперь, чтобы твой государь увенчал его наградой. Нет, ты только выиграл бы, если бы перешел к нам; свободный от страха и от всякой корысти, ты, по крайней мере, жил бы спокойно, и самое большее, что тебе угрожало бы, – это прекращение твоего бытия в конце пути.
– Пособник сатаны, – ответил слепец, – отойди прочь от меня. Я вижу, что даже самые сильные доводы до тебя не доходят. Постой, я прибегну теперь к более действенному оружию.
И он принялся кричать: “Безбожник! Дезертир!” На эти крики со всех сторон стали сбегаться разъяренные вожатые с хворостом под мышкой и с факелами в руках. Наш приятель тихонько удалился по окольным тропинкам в глубь аллеи, а слепец, подобрав свой посох и продолжая путь, рассказывал о своем приключении своим товарищам, которые наперебой его поздравляли.