Текст книги "Архитектор и монах"
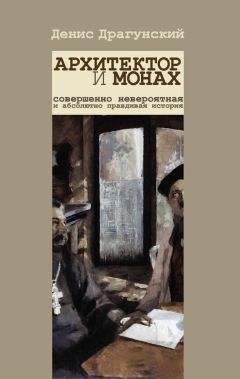
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
9. Опять тридцать седьмой
Ангел-хранитель еще раз простер надо мною свои крыла.
В тридцать седьмом году я стал иеромонахом, и меня перевели в Москву, в кремлевский Чудов монастырь. Когда-то он был едва ли не главнейший монастырь России. Древнейший и виднейший. Но к тридцатым годам совсем обеднел и побледнел. Правительство сильно прижало церковь; при царе у церкви не было самостоятельности, но было значение; при кадетах самостоятельности не прибавилось, а значение совсем исчезло. Поместный собор так и не созвали, патриарха не выбрали, оставался Синод, но даже обер-прокурора лет десять не назначали: был то исполняющий обязанности, то первый заместитель. Потом сделали общий Комитет религий, где один человек ведал всеми христианскими исповеданиями, включая сектантов, которым дана была немалая свобода… Но в конце концов все же переучредили Святейший синод и назначили обер-прокурора – милейший человек, Степун Федор Августович, профессор философии. Вообще правительство Набокова очень широко вовлекало в государственные дела ученых, а особенно литераторов. Один известный литератор, тонкий художник, но сочинитель скорее эротический, сделался председателем Всероссийского союза писателей – должность по виду общественная, а на деле весьма влиятельная в государстве. Почти министр. Наш добрый и наивный обер-прокурор обратился в правительство с представлением; подписали многие епископы: чтоб на столь важный пост назначили писателя более нравственного, более христианского, – но получил отказ и даже был многократно высмеян в печати. Да. Я ведь про Синод говорил? Вот. А остальными исповеданиями, и инославными христианами тоже, управляли через тот самый комитет. В котором наш обер-прокурор был товарищем председателя, по должности.
Но это уже скучные подробности.
Москва тоже обеднела и пожухла. В ней оставалось жителей спасибо полмиллиона – в четверть против довоенного. Я первую великую войну имею в виду. Почему-то все потянулись в Петроград и в Ростов. Купцы, заводчики, рабочий народ – все тянулись туда. Говорили, что там легче платить налоги, и вообще, «сейчас там вся жизнь». Север и Юг богатели и густели народом, серединная Россия безлюдела. Братии в монастыре было мало. Монахи рассказывали, как в старые годы на Пасху в Успенском соборе служил митрополит московский и огромная толпа собиралась в Кремле; и сейчас он служил на Пасху, но никакой особенной толпы не было. Братья огорчались, и я вместе с ними. Вообще в Москве верующего народу сильно убавилось. Отчасти по причине общего неверия и некоторого научного цинизма, который распространился вместе с обязательным средним образованием. Отчасти же просто потому, что Москва сильно оскудела людьми – вчетверо, я же сказал.
Священников, однако, не хватало.
Поэтому я служил еще и в маленькой церковке в Кунцеве. Там было подворье одного рязанского женского монастыря – бывшее, собственно, подворье, потому что сам монастырь лет десять как закрылся, но храм во имя преподобного Серафима Саровского остался. Я ездил туда два раза в неделю.
Я садился на трамвай – остановка, слава Богу, была совсем рядом с Чудовым монастырем, у фасада Кремлевского дворца, который уж два десятка лет был закрыт на ремонт, совсем облупился и потерял всю красоту. Тем более что по всей длине здания был сделан широкий деревянный козырек на высоких столбах, целая галерея: штукатурка обваливалась и могла прибить прохожих. Трамвай подъезжал совсем пустой – почти все пассажиры сходили у Спасских ворот. Я садился слева, у окна, платил до конечной, трамвай звенел, катился вниз, выезжал из Боровицких ворот, и если это был третий номер, то шел вверх по Знаменке и прямо на Арбат, а если четвертый – поворачивал сразу направо, доезжал до Сапожковской площади, там налево и по Воздвиженке опять-таки до Арбата. По Бородинскому мосту – и к Дорогомиловской заставе. Там было трамвайное кольцо, и оттуда ходил автобус номер два, до Сетуни. Я ехал до остановки «Монастырская улица». Была такая улица в селе Кунцеве. Там, собственно, и был храм.
В автобусе я тоже старался сесть слева, у окна. Через год меня стали узнавать; бывало, что уступали место.
Не доезжая до храма, но уже вблизи от него, по левой руке, если ехать из Москвы, – то есть как раз из окна, у которого я сидел, – я видел большой кусок чистого и густого леса. Мне сказали, как он называется: Матвеевский лес. Я думал и мечтал, что вот если бы Православная русская церковь была не в таком загоне, была бы она сильна и богата – взять бы да и поставить посреди этого леса монастырь. Большой, красивый, с многоглавым храмом, с жилыми покоями для братьев, со всеми службами. Может, даже с гостиницей для паломников.
Почему паломники? Потому что там будет множество святых и чтимых икон, которые можно будет свезти с разных концов России, из покинутых и заброшенных храмов. Ибо, как я уже сказал, церковь в те годы была в загоне и небрежении… Да! Но что же это я? Но если новый монастырь станут строить, значит – церковь возродилась и окрепла. И значит, нет больше покинутых и заброшенных храмов.
Я подумал – как забавны бывают наши фантазии, как нелогичны. Вот так же я фантазировал, когда мне было девять лет. Учитель мне давал подзатыльники, а я мечтал: вот буду священником, протоиереем, настоятелем храма Богородицы, нашего главного городского храма. И вот приду я в школу, и попробует он мне дать подзатыльник!
И мне в голову совсем не входила простая вещь – если я стал протоиереем, то зачем мне сидеть за партой? Эти детские мстительные фантазии, они очень смешные, правда?
Но я все равно мечтал о монастыре, когда проезжал мимо Матвеевского леса.
Чтоб он не был виден с Можайского шоссе, чтоб он был спрятан в лесу, чтоб к нему вела укромная тропинка и только бы через полверсты видны были ворота. Матвеевский монастырь во имя святого Иосифа, обручника Богородицы. Или во имя Иосифа Аримафейского. Любого из моих покровителей. И чтоб я был в том монастыре настоятелем. Жил бы в красивой удобной келье. Можно сказать, в просторных покоях. Дышал бы зеленой свежестью лета, снежным воздухом зимы. А также смолисто-земляным духом весны и прелой прохладой осени. Простите меня, грешного. Ишь, настоятелем большого монастыря стать захотел. Любоначалие обуяло. А также просторные покои пожелал. Это уже любостяжание. Но как ни кинь, с тоскою думал я тогда, все равно не будет Иосифова монастыря в Матвеевском. Но исповедоваться в сих греховных помыслах я тоже не стал.
Вот, вам рассказал.
Вам двоим, милый мой Дофин и вы, уважаемый господин репортер. Вот и всё.
Нет, не всё.
Ангел.
* * *
В тридцать восьмом году, кажется, летом – да, был июнь, сухой и теплый, – трамвай, который привез меня к Дорогомиловской заставе, прибыл минут на десять раньше всегдашнего. Как-то он резвее бежал и не стоял на светофорах.
Я занял очередь к автобусу, дождался, когда кто-то встанет за мною. Это была пожилая тетка, судя по одежде и по рукам – работница. Было воскресенье, и она, наверное, ехала к родным, куда-нибудь в Сетунь. У нее была кошелка, в кошелке – промокающие жиром бумажные свертки, баночка красной икры и сине-желтая коробка мармелада. Да, конечно, гостинцы везет: красную и белую рыбку, ветчину и сладкое. Я сказал: «Я отойду на полминутки». «Пожалуйста, батюшка, пожалуйста». Я подошел к киоску, спросил «Известия» – давно их не читал. И вообще давно не читал газет, и мне это даже нравилось. Но вот тут бес меня попутал – подумал я в первую минуту, когда развернул газету, но потом понял – вернее, потом оказалось, – что это был Ангел. Но в ту минуту я еще ничего не знал, положил на кипу газет пятиалтынный и даже зачем-то спросил киоскера: «Ну, что пишут новенького?» – «Ничего, батюшка, эх, совсем ничего нового!» – и дал мне сдачи гривенник. Недорого стоили газеты в те времена!
Ничего так ничего. Я снова встал в свою очередь.
Подошел автобус, я стоял пятым или шестым – почему я так хорошо запомнил этот день? Хотя не помню числа, помню только, что это было воскресенье в июне. Я залез в вагон, мое любимое место – у окна на втором сиденье, с левой стороны – было свободно, я уселся, поставил на колени свой саквояж, рядом со мной села та самая тетка, что стояла за мною в очереди. Скоро автобус тронулся, кондуктор подошел, билет до Монастырской стоил сорок копеек, а тетка попросила «до конца», за семьдесят. То есть она в самом деле ехала в Сетунь, я правильно догадался.
Я развернул газету. Именно развернул, раскрыл посредине: я специально отучил себя от партийной привычки читать газету с первой полосы, сплошь, колонка за колонкой. Итак, я развернул газету, и первое, что я увидел внизу справа, – большая статья под названием «Родина русских». И подпись – Максим Литвинов. Без должности, что особенно интересно. Хотя я знал и все знали, что он – товарищ министра иностранных дел. Ах да! К середине тридцатых уже не было «товарищей министра», их переименовали в первых заместителей. Итак, первый заместитель министра иностранных дел господин Литвинов этак приватно, без чинов и званий, решил поделиться своими глубоко национальными соображениями. «Нуте-с, нуте-с, – подумал я. – Сейчас грузин постарается оценить мысли еврея о русском народе». И я принялся читать.
Статья была написана ясным и сухим языком, короткими фразами. Видно было, что автор хочет донести свою мысль до читателя и ради этого жертвует красотами стиля и учеными словечками. Мысль же была простая.
«Что отличает русских от многих других народов? – писал Макс Литвинов. – А вот что. Русский человек, хоть веками жил между Днепром и Волгой, свободно чувствует себя в Европе. Он себя чувствует в Европе как дома. Доказать это очень просто. Многие великие русские писатели и художники жили и работали в Европе. Гоголь, Тургенев, Герцен, Александр Иванов. Там, в Европе, были написаны книги и созданы картины, которые принесли России мировую славу. Нечего и говорить о простых, скромных русских, честных работниках. В последние годы, и особенно в ужасную пятилетку после революции, многие уезжали в Европу на заработки. Наверное, каждый знает хотя бы одного такого человека. Эти люди быстро добивались успеха и процветания. Грузчики становились бригадирами, официанты – метрдотелями. Рабочие становились мастерами, инженеры – директорами заводов, лаборанты – доцентами. Почему? Конечно, самое главное – русский человек трудолюбив и честен, умен и образован. Но не только! Разве китайцы ленивее или глупее русских? Конечно, нет! Китайцы – трудолюбивый и упорный народ. Среди китайцев немало образованных людей. Почему же им не везет в Европе, а у русских всё получается? Ответ простой. Потому что русские в Европе – у себя дома. А дома, как говорится, и стены помогают. Русские – исконная европейская нация. Ученые доказали, что историческая родина русских – между Эльбой и Рейном. Возврат народов на свою историческую родину – неизбежен. Например, евреи всего мира потянулись в Палестину, в святой для них город Иерусалим; армян неудержимо влекут предгорья Арарата, – Макс Литвинов вдруг впал в протяжно-поэтический тон. – Суждено ли русским вернуться на свою древнюю европейскую родину? Сегодня этого не знает никто. Но история, особенно в двадцатом веке, движется быстро».
Все очень просто и доходчиво. Безо всякого «жизненного пространства», теорий Фридриха Ратцеля и прочих ученостей.
Такие дела. Наверное, я вздохнул слишком громко.
– Чего пишут-то? – спросила меня тетка-соседка.
– Да так, – сказал я, сложил газету и пихнул ее в наружный карман саквояжа. Дальше читать не хотелось. Рябило в глазах. – Так, всякое.
– Да уж, – сказала она. – Пишут, пишут, а чего пишут…
Я покосился на нее; ей было под пятьдесят, она была в приличном сатиновом платье и в белой кофточке поверх. На толстой шее у нее были бусы из искусственного розового жемчуга. Руки лежали поверх кошелки, широкие темные руки заводской работницы, с толстыми ногтями. Ногти были густо – видно, только что – намазаны розовым перламутровым лаком, в тон ожерелья. Медно-золотое обручальное кольцо. Простое курносое лицо, высокие скулы, морщины вокруг глаз, седые волосы из-под платочка. Довольна жизнью. Вот, в воскресенье едет к сыну и невестке, внуков проведать. Гостинцы везет. Конфетки-закусочки. Стопку опрокинет. Простые пожилые русские тетки очень здорово умеют опрокинуть стопку. Одну-другую. И даже третью. Это я по старым временам помнил, по пятым–десятым годам. Думаю, и сейчас не разучились. Опрокинет стопку, закусит. Может, вдруг запоет. Или прослезится.
Мне стало жалко ее. Особенно ее детей. И внуков тоже.
– Пишут, пишут… – пробормотал я. – Ох, пишут!
Кондуктор объявил Монастырскую улицу.
– Война будет, вот что пишут, – тихо сказал я. – Дайте, сестрица, выйти. Мне на следующей сходить.
– Господи, твоя воля, – она перекрестилась. – Правда, что ли?
– Дайте выйти, – повторил я. Она встала со скамейки и выпустила меня, глядя испуганно. Я стоял в проходе подле двери.
– Вот сейчас Монастырская, сходите, батюшка? – спросил кондуктор.
– Схожу, схожу.
Кондуктор нажал кнопку. В кабине шофера зазвенел электрический колокольчик. Автобус притормозил и подъехал к оклеенной афишами будочке со скамейкой, урной и доской расписания.
Я повернулся к тетке, перекрестил ее. В старое время она, конечно, поцеловала бы руку монаху, который ее благословляет, но сейчас кругом был цинизм и просвещение, и среди простого народа тоже. Всеобщее среднее образование, я же говорил. Нет, конечно, уважение к церкви и священству оставалось – но прежнего безоглядного почтения уже не было. Так что она мне просто поклонилась. А верней сказать – очень вежливо кивнула, усаживаясь, пододвигаясь к окну, на бывшее мое место.
Автобус остановился. Кондуктор потянул рычаг. Дверь открылась. Я сошел на сухую утоптанную землю. Автобус взревел мотором и уехал. Я задержал дыхание, чтобы не чувствовать бензиновый дым. Отшагнул в сторону от шоссе и с наслаждением стал вдыхать чудный загородный воздух.
Вот такое замечательное июньское воскресенье.
Я, конечно, мог бы узнать, какой это был день, – по статье Литвинова. Зайти в библиотеку и перелистать подшивку «Известий» за тридцать восьмой год. Я даже хотел это сделать. Но как-то все не получалось.
* * *
– Но где же ангел? – спросил Дофин.
– Погоди, – сказал я. – Сейчас.
* * *
Ангел явился мне, когда я прилег подремать после службы.
Мне приснилась черно-золотая парчовая завеса, она закрывала все пространство передо мною, с боков же была пустота. Вдруг чьи-то руки, изнутри, с той стороны, – раздвинули завесу, она разошлась, и я увидел Ангела моего Хранителя, того, что в двадцать втором году наливал мне питье из хрустального сосуда. Он поманил меня к себе, и я пошел и увидел двух старцев в сияющих ризах. Они благословили меня, и я поцеловал руку одному и другому. У одного рука была теплая, даже горячая, у другого же хладная. Я подивился этому, но тут же понял, что первый был святой Иосиф, обрученный супруг Богородицы, и его руки хранили тепло младенца Христа; второй же был святой Иосиф Аримафейский, и его руки помнили хлад мертвого тела распятого Спасителя. Я смутился этому видению и опустил голову, а когда поднял – оба святых исчезли в золотом тумане, и Ангел сказал мне: «Удались, удались от мира».
Я проснулся и подумал – куда же мне еще удаляться, я ведь и так монах. Или уйти в строгий затвор? Или попроситься в какой-нибудь дальний монастырь? Но на обратном пути, когда я ехал на автобусе номер два мимо Матвеевского леса, я вспомнил свои мечтания. Мне показалось, что Ангел шепнул мне в ухо: «Ты желал стать игуменом монастыря в этом лесу? Построй себе скит и живи там уединенно». Уединенный скит в пяти верстах от Дорогомиловской заставы? Мне даже самому сделалось смешно. Но только на минуту.
Назавтра же я рассказал наместнику Чудова монастыря об этом дивном видении; он, однако, отправил меня к епископу. Благословение я получил, и довольно быстро. Епископ наш был известный знаток русской церковной древности. Оказывается, то ли в том самом лесу, то ли поблизости когда-то давно уже был монастырек, деревянный, – ныне от него остались лишь следы, остатки старых бревен. Епископ – то есть он же московский митрополит, это, я надеюсь, вы поняли, хотя это вам незачем… епископ благословил меня на затворническое житие. Однако сказал, что средства я должен раздобыть сам и вообще все сделать сам. Что строительство скита будет важной частью моего нового послушания. Но это как раз было нетрудно. Среди моих духовных детей были и богатые люди, в основном старики, старинные московские купцы, осколки старой, крепкой Москвы – они и дали мне помощь. Материалом и работниками. Всего через полгода посреди Матвеевского леса уже стоял Иосифов скит, в коем я, с благословения самого митрополита, и затворился. Со мной был мой давний келейник, отец Игнатий, моложе меня лет на десять. Смешно сказать, он тоже был из социал-демократов, из большевиков-ленинцев, – кажется, я его даже встречал когда-то, еще до тринадцатого года, кажется, он даже работал в «Правде» – у меня работал, Господи! – но мы с ним по молчаливому уговору этого не касались. «Кажется, мы с вами знакомы, отец Иосиф», – сказал он мне, когда мы встретились в лавре, где он спасался – в буквальном смысле спасался, потому что слово спасаться в церковном смысле означает нечто иное, чем в светском; монах спасается от грехов, от искушений, от соблазнов мира, – но он просто искал спасения, жизнь свою спасал, потому что после семнадцатого года еще оставались маленькие группы «несдавшихся», как они себя называли, – и вот к одной такой боевой группке и принадлежал этот молодой человек. Да, он буквальным образом спасся, уцелел, став послушником лавры, – потому что за ним что-то числилось, какая-то акция то ли в восемнадцатом, то ли в двадцатом. В двадцатом он пришел в лавру, но монашеский постриг принял весьма нескоро – как раз когда я стал иеромонахом, а это случилось в двадцать восьмом. Тогда и он принял малую схиму. Старался держаться ко мне поближе; попросился остаться моим келейником, уже ставши монахом, так сказать, полноправным… Потом я взял его с собою в Москву.
Да. Вот он и сказал мне, еще в двадцатом году: «Кажется, мы с вами знакомы, отец Иосиф». Я ответил: «Чадо мое Вячеслав, – ибо так его звали в миру, до пострига. – Чадо мое Вячеслав, не будем вновь листать перевернутые страницы нашей жизни». Может быть, слишком литературно – но внятно. «Никогда не будем?» – с некоторой дерзостью спросил он. «Никогда», – сказал я. Он поклонился, поцеловал мне руку, я перекрестил его, и делу конец. Правда, в уме я до сих пор называю его Вячеславом. Грех, грех.
Еще больший грех – говорить о себе в превосходных степенях, и однако уже через год я приобрел некую славу у окрестных жителей. Иосифов скит в Матвеевском стал местом молитвы, жертвы и исповеди. Приходили бедняки, которым я давал небольшие деньги, полученные от богатых, – да нет, скорее не от богатых, а просто от чуть более имущих: в любом случае речь шла о двадцати, тридцати, самое большее – о пятидесяти рублях. Приходили за снятием небольших повседневных грехов вроде семейной лжи, или нарушения поста, или сквернословия, или богохульных помыслов: странное дело, оказалось, что в Москве не так уж мало истинно и глубоко верующих людей. Наверное, они просто сами не знали о своей вере, но стоило невдалеке поселиться иноку, ведущему праведное молитвенное житье, – как их вера получила некоторый толчок. Я стал неким кристаллом, брошенным в стакан с крепким раствором соли. Звучит несколько самохвально, но так уж получается короче, простите меня, дорогие мои друзья.
Приходили за поучением. Но я никого ничему не учил. Кто я, чтобы поучать? Я лишь просил: «Говори мне, сын мой (или дочь моя), о своем грехе, о своем затруднении, о своей беде, говори все, что чувствует твое сердце, а потом будем вместе молиться, и понимание сойдет на тебя словно бы само – это Бог пошлет тебе верную мысль, как поступить». Многие так приходили по нескольку раз, иные по десять, двадцать раз, и рассказывали мне все самое стыдное и самое трудное, и мы вместе молились, и им становилось легче. Во всяком случае, через два года ко мне уже стояла очередь, и отец Вячеслав, то есть во иночестве Игнатий, – но ничего не могу с собою поделать! Пусть уж он хотя бы здесь, в этом разговоре, останется для меня Вячеславом, – он даже захотел поставить в нашем скиту телефон, но я рассмеялся и не велел. Тогда он попросил разрешения записывать по почте. Я сначала тоже был против, но потом все же согласился. Вячеслав сказал: «Вы же, отче, носите машинно-тканую рясу и едите ложкой, штампованной на заводе, – отчего же тогда пренебрегать современной почтовой связью?» Прав, прав, не надо пренебрегать. Наверное, и телефон можно было бы поставить, ничего страшного, в Чудовом у нас давно был телефонный номер, и в приемную митрополита я тоже звонил по телефону, узнавал, когда можно его посетить… Но что-то мне мешало. Вопрос вкуса, наверное. Записываться по телефону на исповедь – нет, увольте, отцы и братья, не то, не то, совсем не то…
Но, хотя это забирало немало времени, главным для меня была молитва.
Я искал ответа на вопрос, вспоминая облик своего Ангела, – ангел ли то был? Он всякий раз являлся мне во сне, но, как пишет святой Иоанн Лествичник, «бесы часто приходят к нам во сне под видом ангелов». Но разница, пишет он далее, в том, что бесовский сон ведет к прельщению, ангельский же – к страданию. После бесовского сна поднимаешься обрадованный, а после ангельского – исполненный страха и сетования. Но ведь и в самом деле, после первого сна я едва не умер от брюшного тифа, а после второго – стал трудиться как строитель скита и как отшельник строгой жизни…
Так что, наверное, ангел, явившийся мне, был истинным. Но я знал также, что достаточно ослабить усердие молитвы и строгость поста – как бесы, одетые в золоченые ризы, обступят меня, и ослепшее сердце не сможет отличить их от ангелов. Поэтому с вдохновением душевным я предавался молитве и через недолгое время научился узревать как бы воочию свет ангельских очей и ощущать горячим лбом ветер от ангельских крыл.
* * *
– То есть ты на полном серьезе впадал в экстаз? – спросил Дофин.
– Если угодно, – ответил я; меня обидел его вопрос.
* * *
Потому что я сказал правду. Я на самом деле чувствовал нечто такое. Но само слово «экстаз» – нехорошее. Лучше сказать – молитвенный восторг. Впрочем, славянское «восторг» и есть буквальный перевод греческого «экстаз», точнее «экстасис».
Однажды, затворившись в келье, молясь и ожидая, когда на меня снизойдет восторг, я сквозь говоримые в уме слова молитвы услышал, что кто-то стремится войти ко мне, а его не пускают; я слышал чьи-то настойчивые голоса и строгие краткие ответы Вячеслава. Потом голоса стихли, но прежнего чувства уже не было. Я поднялся с колен, посидел на лавке и вышел. Вячеслав подал мне конверт.
Оказывается, затевалась страннейшая вещь.
Правительство вдруг вспомнило о церкви. Вдруг, ни с того ни с сего, была назначена молитва во славу русского воинства. В воскресенье, пятнадцатого июня, на Соборной площади Московского Кремля.
Было третье число, оставались две недели.
Странно. Кажется, это случилось ровно через три года после того дня, когда я, в автобусе едучи, прочитал статью Макса Литвинова о родине русских и понял, что будет война, и ангел мой указал мне путь спасения от греха.
За эти годы много что случилось.
Не только я построил Иосифов скит и стал этот скит известен среди московского православного народа. Это малая малость.
В наружном мире тоже много чего стряслось. Осенью тридцать девятого года Франция и Британия согласилась вернуть России часть ее бывших, «имперских» территорий. А именно Украину, почти всю Польшу и маленькие Эстонию, Латвию и Литву. Даладье и Чемберлен боялись Тельмана, но еще сильнее боялись Набокова. Потому что они, кажется, всерьез воспринимали постоянное бормотание старика Милюкова – он все время бормотал из-за спины Набокова, – его бормотание о Константинополе и проливах. Они всерьез опасались, что Россия рванется на Балканы и в Турцию, и даже на Передний Восток. Их очень заботил южный фланг. Поэтому Даладье и Чемберлен выкрутили руки Тельману, чтоб он не вмешивался в медленное и мирное возвратное движение России на Запад. Именно возвращение. Не захват новых территорий, Боже упаси. А как бы возвращение к прежнему состоянию.
Набоков сказал: «Это не оккупация. Это возвращение временно утерянного. Мы просто обернулись назад и подобрали то, что обронили».
Набоков сказал также: «Странные люди Чемберлен и Даладье; слишком милый человек Тельман. Куда нам столько Польши с ее пестрым народом?»
* * *
– Он имел в виду евреев? – спросил Дофин.
– Да, – сказал я. – Разумеется.
Говорили даже, что он на самом деле сказал так:
«Страшные люди Даладье и Чемберлен, – сказал Набоков. – Они отдали мне Польшу. Всю!
Я не просил столько. Но они отдали всё. В границах черт знает какого екатерининского года. Вместе с ужасающим количеством евреев. Подлые люди Даладье и Чемберлен».
* * *
Все были в восторге. Империя восстанавливается. Даже по-латыни писали некоторые умники, капитальными литерами на фронтонах нарисованных дворцов: Imperium Rossicum Restitutum. Третий Рим, сами понимаете.
Был ли я патриотом? Наверное, нет. Определенно нет. Во времена своего большевизма я твердо знал, что у пролетариев нет отечества. Свое всероссийское самодержавно-православное отечество я хотел раскачать и свалить. Занимался только этим, отважно и очень прилежно, более ни на что не отвлекаясь.
Ну а после? Тоже нет. Даже еще меньше. Во времена своего монашеского призвания я еще тверже знал, что на земле я гость и странник, а войду ли в Царствие Небесное – Бог мне скажет в назначенный день. Тем более что моя настоящая, любимая и родная родина – Грузия – с восемнадцатого года уже была отдельным, самостоятельным – небогатым, увы, и неспокойным, – но совсем независимым государством. Я знал по газетам, что в правительстве Грузии почти все – мои бывшие друзья по старым временам. И бывшие враги тоже. В Грузии мне делать было нечего. Так что патриотом я не был и молиться за русское оружие не желал.
И вообще не желал молиться за оружие.
Но ей же Богу, я не ожидал в себе такой твердости; будто моя партийная молодость проснулась во мне. Я сказал Вячеславу, что участия в столь антихристианском деле принимать не буду, а ежели кто не понимает, что это дело антихристианское, то Бог им всем судья, но меня там не будет.
Однако надо было отвечать на письмо наместника; утром следующего дня я на автобусе номер два доехал до Дорогомиловской заставы, на четвертом трамвае добрался до Чудова и пал в ноги отцу игумену: избавьте!
– Захворайте, – подумавши, сказал отец игумен.
Но второй раз спасительно захворать я не надеялся – первый раз, если вы не забыли, случился, когда я не поехал беседовать с боевиком Ефимом Голобородовым, который стрелял в Милюкова, а попал в Набокова. Тогда ангел-хранитель временно вверг меня в тяжкий, но не смертельный недуг. Еще раз рассчитывать на явление ангела не приходилось. Я написал письмо обер-прокурору.
Наверное, я написал там много лишнего. Сбивчиво, иносказаниями и обиняками, но я все же написал, что моему монашескому обету предшествовала жизнь грешная и даже страшная. Написал, что уже много лет я пытаюсь смыть с себя ужасные грехи молодых лет. Поэтому я посвятил себя служению Богу, именно Богу, но не людям, не миру, не кесарю. Написал, что отныне и навсегда моя родина – вера, мои законы – Евангелие, мой меч – молитва. Что я готов претерпеть любые кары от священноначалия и от мирской власти также, но решение мое твердо, и Бог да пребудет со мною.
Письмо в Петроград повез Вячеслав.
Вернувшись через день, он рассказал мне, как было дело.
Он рассказал, что Синод расположен все там же, на Сенатской площади, но в здании он занимает пол-этажа, если не менее того. Какие-то другие департаменты кругом, в их числе и Комитет религий. Одна радость, рассказал Вячеслав, что нашему обер-прокурору только две лестницы пройти, чтоб попасть в оный комитет, где он ex officio состоит первым заместителем председателя.
Сначала предполагалось, что Вячеслав лишь передаст пакет в канцелярию обер-прокурора и даже не спросит, когда ожидать ответа, потому что мое письмо, собственно говоря, ответа не требовало: это была не просьба, а уведомление.
Однако секретарь, узнавши, от кого письмо, очень разволновался, предложил Вячеславу присесть и выпить чаю и сказал, что господин обер-прокурор будет с минуты на минуту. Попросил непременно обождать.
Действительно, через пять минут вошел обер-прокурор, профессор Федор Августович Степун. Красивый, с бритым нерусским лицом – какое-то шведское лицо, по словам Вячеслава, у него было. Скуластое по-варяжски; и пышные седеющие надвое расчесанные волосы. Узнав от секретаря, кто сей монах, тут же пригласил Вячеслава в свой кабинет. Прочитал письмо, похмыкал и сказал, что я его просто без ножа режу. Дело в том – Господи, твоя воля, а я и не знал (подозревал, но уверен не был и удостоверяться не хотел), – в том-то и было дело, что я, оказывается, стал знаменитым и высокочтимым монахом-затворником. Вот такие дела. Всего за два с небольшим года. И, как сказал Вячеславу милейший Федор Августович, обо мне слыхали и в Петрограде, мало того что слыхали – ко мне из Петрограда ездили! А я раб Божий, и не знал. И не просто обычные богомольцы – но и сам наш высокоуважаемый Владимир Дмитриевич однажды инкогнито меня посетил, принял благословение и оставил сто рублей для бедных. Хотел оставить тысячу, но я, дескать, тысячу не взял.
Убей Бог не помню. Хотя может быть. Бывало, что богатые господа доставали бумажники и начинали шуршать купюрами, прося принять на бедных, – они знали, что я от богатых принимаю и бедным раздаю, – но я говорил: «Немного, дети мои, немного давайте, но от сердца».
Но чтоб сам Набоков ко мне приезжал – нет, не помню.
Хотя, если он вошел в полумраке, склонив голову и надев очки… Может быть. Тем более что я вообще плохо помнил, как он выглядит, несколько газетных снимков. Не знаю. Впрочем, какие у меня основания не верить? Он сказал, я поверил, замечательно.
Итак, продолжал свой рассказ Вячеслав, господин обер-прокурор сказал, что Владимир Дмитриевич очень, просто очень огорчится. Когда они с ним обсуждали предстоящее молебствие, Владимир Дмитриевич сказал: «Ах, как хорошо было бы, если бы посреди всех сияющих золотом риз высшего духовенства сияла бы скромной чернотою ряса знаменитого молитвенника старца Иосифа из Матвеевского скита…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































