Текст книги "Архитектор и монах"
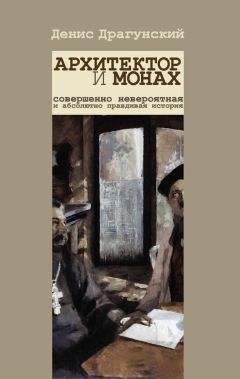
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
11. Ева
Перед войной у меня затеялась глупая переписка с одной женщиной. Я видел ее всего два раза, в Мюнхене, в тридцать восьмом. И оба раза в квартирном бюро, где она была мелкой чиновницей. Глупая история – я стал с ней пошло заигрывать, я даже думал отвести ее к себе на квартиру и переспать с ней – тем более что у меня целых полгода не было женщины, я полгода просидел в тюрьме, – впрочем, мне иногда казалось, что я за эти полгода прочно расхотел женщин – мне было почти пятьдесят, когда меня арестовали. И она была почти согласна, хотя немножко кокетничала.
На прощанье она сказала: «Напишите мне письмо до востребования!»
«Ага, сейчас, только розовую бумагу куплю!
И конвертик с цветочками!» – подумал я и тут же про нее забыл.
Это было в начале марта тридцать восьмого года.
Я очутился около Венского почтамта в середине мая.
Честное слово, друг мой Джузеппе, у меня и в мыслях не было идти проверять, есть ли мне письмо до востребования. Кажется, я вообще забыл про разговор в квартирном бюро и про эту смешную дамочку с глазами-звездочками. Но я замедлил шаг и остановился перед входом в почтамт. У дверей были большие латунные ручки. Вдруг я вспомнил – или мне показалось? – что в квартирном бюро в Мюнхене были такие же ручки. Ну, или примерно такие. Латунные, начищенные до блеска.
Мимо по тротуару позади меня прошла женщина, искривленно отразившись в зеркальной латуни – как будто коротконогая грудастая безголовая кукла. Ужасно! Я даже оглянулся, посмотрел ей вслед. Конечно, это была обычная женщина. Что я, кривых отражений не видел?
В кривых полированных поверхностях? Самая обычная. Но чем-то похожая на ту. Своей обычностью, конечно.
Вот только в этот миг я ее вспомнил, и тут же вспомнил про письмо до востребования. Вспомнил, что я ей ничего не написал, разумеется.
И не собирался.
И уж конечно, я был на сто процентов уверен, что она первая не станет мне писать.
Поэтому я зашел вовнутрь, нашел нужную стойку, достал членский билет Союза архитекторов, показал его почтовой барышне и спросил, не пишет ли мне кто.
Барышня порылась в длинном ящике и достала три конверта.
В центре зала были столы под низкими латунными абажурами.
Я присел на дерматиновую скамейку.
Проверил штемпели, вскрыл письма в хронологической очередности.
Первое:
«Я несколько раз ходила на почтамт, но от Вас не было даже открыточки. Я, конечно, не надеялась, что Вы мне напишете 8 марта, в день трудящихся женщин, хотя на всякий случай сбегала на почтамт и проверила. Потому что мы виделись и разговаривали еще 5 марта. Это очень быстро, слишком быстро. Поэтому Вы правильно сделали, что не написали на 8 марта. Если бы Вы мне написали на 8 марта, я бы очень разволновалась. Я бы подумала: он написал мне письмо через три дня после расставания. Наверное, слово “расставание” здесь не подходит. После свидания? Нет, “свидание” тоже не годится. Не знаю, как сказать. Я так редко пишу письма. Вообще я редко пишу что-нибудь, кроме формуляров на службе. Они такие одинаковые! Имя-фамилия, дата рождения, номер удостоверения личности и время, когда ключи получил и ключи сдал. Еще адрес квартиры, конечно.
У меня плохой почерк. Тем более что я пишу на почтамте, там надо макать перо в чернильницу. А у меня даже нет собственной авторучки. Вам, наверное, смешно. Вы, наверное, думаете, что я совсем необразованная. Но я закончила среднюю школу, я хорошо училась. Я любила романы и стихи. Я даже читала поэта Гуго фон Гофмансталя, мне подруга давала его книжечку. У него совсем непонятные стихи. Про то, что одним положено “напрягать весла”, а другим – “сидеть на царских тронах”. Но его красиво зовут. Как будто бы он фельдмаршал!
Спасибо за внимание, сердечно Ваша, Е.Б.»
Вот что-то такое. Как говорится, цитирую по памяти, но близко к тексту.
Второе письмо можно было уместить на открытке, но это был листок бумаги, вложенный в конверт:
«Но я думала, на день Первого мая Вы мне все-таки пришлете поздравление. А Вы молчите. И вдруг я подумала, что вдруг с Вами что-то произошло? Ответьте, пожалуйста. Но я все же Вас поздравляю с праздником весны и всемирной рабочей солидарности трудящихся людей. Мы с Вами оба трудящиеся, правда? Е.Б.»
Третье. Его я вообще наизусть запомнил:
«Если Вы не ответите, я буду точно уверена, что Вас арестовали опять. Или что Вы тяжело заболели. Или вообще умерли.
Боже мой!
Как это печально, грустно и прискорбно.
Но я пока еще надеюсь, что Вы на свободе, живы и здоровы.
Всегда Ваша, Е.Б.»
Я недолго думал. Я купил открытку и написал на ней:
«Дорогая Ева!
Простите, что не ответил на Ваши письма.
Рад поздравить Вас с днем Первого мая.
Я тоже читал стихи Гуго фон Гофмансталя. Да, Вы правы, у него много строк туманных, непонятных и грустных. Но есть простые и веселые. Вот, например:
Все печали, все сомненья,
Муки, ненависть, любовь
Сердце вынести сумеет
Раз за разом, вновь и вновь.
Желаю Вам всего наилучшего.
Искренне Ваш, А.Г.»
Потом я купил конверт с маркой, положил в него открытку (на ней была девушка-работница в красной кофточке и с букетиком ландышей), заклеил, надписал: «Мюнхен, центральный почтамт, до востребования, Еве Браун» – и опустил в большой деревянный ящик с широкой щелью, которая была окантована такой же начищенной латунью. Такой же – как дверные ручки, абажуры и колонки с прорезями, в которых держались стеклянные перегородки с полукруглыми окошками, – граница, отделяющая посетителей от почтовых служащих.
Латунь с небрежными узорами в стиле модерн.
Мне не нравится этот стиль. Жеманный, буржуазный и недорогой. Сквозь него светит общедоступность. Изысканность массовым тиражом. Но и жесткий функционализм в духе «Баухауза» меня не увлекает. И коммунистический циклопизм Трооста и Шпеера – тоже не люблю. Архитектура должна быть эклектичной. Что может быть скучнее дома, построенного в очень строгом стиле, – если это, конечно, не стиль Луи XV? Можно ли назвать рококо строгим стилем? Вопрос скорее философский, однако рококо так же утомительно, как «Баухауз». Я сам себе противоречу. Но нет. В интерьерах «Баухауза» сразу становится тоскливо, в ту же минуту. В интерьерах любого Луи – от XIV до XVI – скучно становится примерно через полчаса. Счастливы китайцы – у них не было архитектуры.
Поэтому я так люблю строить виллы, внимательно прислушиваясь к желанию заказчика. Если человек за свои деньги хочет деревенский домик, или крошечный парфенончик, или малюсенький нотр-дамчик, или не слишком дорогой версальчик – я постараюсь. Постараюсь вписать его пожелания в собственные представления о красоте и пользе. А также в общие понятия века. Так постепенно рождается «венский дачный стиль», который нашел свое высшее воплощение в вилле «Шеферхунд» – в большом деревянном доме, который своими линиями неуловимо напоминает немецкую овчарку. Джузеппе, я покажу тебе снимок. Вилла «Шеферхунд» не раз попадала на обложку журналов и каталогов. Я за нее получил две медали. Я чуть было не стал родоначальником «звериной манеры» – то есть, выражаясь по-умному, зооморфного стиля в архитектуре. Но как-то не сложилось. Дальше стало неинтересно. Хотя у меня была мысль сделать виллу «Дельфин» (хо-хо, Джузеппе! я себя все время в уме называю Дофином) – но заказчика не было.
Итак, я бросил письмо, и оно гулко шлепнулось на дно ящика – очевидно, письма вынимали совсем недавно. Мне вдруг стало досадно, что мое письмо «обработают» не сию минуту, а через три часа. На ящике было написано: «письма вынимаются и обрабатываются в 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа». На ночь делается перерыв. Мне стало смешно, что я хочу скорее, скорее, скорее отправить ей письмо.
Был вечер, самое начало седьмого.
Я спросил у барышни, сколько идет письмо в Мюнхен. «Два дня». – «То есть если я отправил письмо сегодня, оно будет послезавтра?» – «Если сегодня до полуночи, то да».
Понятно. Потом я посчитал, через сколько дней должен прийти ответ. Через пять, подумал я. Была пятница. В воскресенье письмо будет на венском почтамте. Но вряд ли она пойдет на почту в свой выходной день. Кстати, я не уверен, работает ли в Мюнхене центральный почтамт по воскресеньям. Скорее всего, да. Я мог бы это узнать, разумеется. Как? Да очень просто – вот сейчас спросить у барышни. Она наверняка знает. Хотя Австрия и Германия – разные страны, но я же говорил тебе, Джузеппе, – «две страны, один народ»! Так что если не барышня, то уж наверняка начальник венского почтамта знает, как работают центральные почтамты в крупных германских городах. Боже, о чем я думаю. Нет, это уже чересчур. Неважно. Наверное, она зайдет в понедельник. Если она, конечно, на самом деле так сильно ждет моего письма, что само по себе странно. Значит, в понедельник утром, идя на службу, – или днем, во время обеденного перерыва, – она получает письмо, тут же на почтамте пишет ответ, и он приходит в Вену в среду. Я решил, что надо прийти в четверг.
Но, Джузеппе! Ты можешь сам продолжить мой рассказ. Ты уже понял, что было в четверг.
В четверг я пришел в почтамт в середине дня (я как раз встречался в кафе с одним своим заказчиком), снова протянул в окошечко свое удостоверение. Я был почти уверен, что ничего нет. Однако барышня мне тут же подала конверт.
Я спросил ее: «Простите, а когда письмо было получено?» Она посмотрела на штемпель и сказала: «Позавчера» – и снова толкнула конверт ко мне, в стеклянную арку. «В котором часу?» – спросил я, словно опасаясь к нему прикоснуться. Барышня взяла письмо, сощурилась и вгляделась в штемпель. «В пятнадцать часов», – сказала она.
Я взял конверт и отошел к столу. Конверт был довольно толстый.
Я стал отсчитывать дни назад. Значит, если письмо пришло во вторник днем, то, значит, – поскольку письмо из Мюнхена в Вену идет два дня – она его отправила в воскресенье. Тоже днем. Значит, она в воскресенье ходила на почтамт. Значит, она ходила на почтамт чуть ли не каждый день? Несчастная женщина. Мне ее снова стало жалко, у меня в сердце зашевелилось что-то растроганное и горестное. Как будто я сижу один в полутемной комнате и вспоминаю маму, какая у нее была тяжелая, безрадостная жизнь и как она мучилась, умирая. Джузеппе, я тебе рассказывал про маму. Я всегда чуть не плакал, вспоминая о ней. И вот сейчас у меня на душе было точно так же. Болело ниже горла, и было тесно дышать.
Однако я присел на скамейку у стола, перевел дыхание, растер ладонью грудь, посидел немного и открыл конверт. Там было что-то, завернутое в белую бумагу. Развернул. Это была самодельная открытка. Желтая картонка, и на ней наклеены две фигурки, силуэты из цветных бумажек. Женщина на тонких ножках в платье в точечку и мужчина в темном костюме. У мужчины была косая челка, квадратные усики. То есть это был я. А женщина, стало быть, она. Посредине был переписан стишок – тот, который я ей послал в давешнем письме:
Все печали, все сомненья,
Муки, ненависть, любовь
Сердце вынести сумеет
Раз за разом, вновь и вновь.
Мне стало нехорошо. Зачем я ей ответил? На ее бредовые письма?
Она даже не кокетка, даже не распутница, не нимфоманка… Она просто идиотка. Да, именно идиотка, в самом простом смысле слова. В медицинском! Безнадежная дура. Интеллектуально сниженная, сексуально расторможенная. Наверное, старшей мадам Браун – помнишь, Джузеппе, там их было две однофамилицы – старшей Браун с ней нелегко приходится. Наверное, за ней нужно присматривать: вдруг выпьет баночку клея. Или начнет раздеваться перед посетителями, распевая куплеты и соблазнительно плюская своими накрашенными ресницами. Боже! Как прекрасно коммунистическое государство! Как оно милосердно к своим слабоумным гражданам: при Гинденбурге и частной собственности такая Ева давно сидела бы в психиатрическом приюте для бедных. Наверное, у товарища Тельмана есть специальная социальная программа для умственно неполноценных сограждан. И ведь у нее есть муж и двое детей, куда катится германская нация…
И еще, глядя на эти картонные силуэтики, я вдруг вспомнил картонные фигурки, которые вырезал Рамон Фернандес. Этих королей, рыцарей и прекрасных дам, солдат и торговок, все эти толпы кукольного народа, стоявшие у него в комнате на столе, на полках и на полу по всем углам, пахнущие краской и клеем. И самого Рамона, его расчесанные кудри и красные пятна на щеках. Мне иногда казалось, что он румянится и подводит глаза. Или у него были такие черные-пречерные ресницы?
И еще, еще, еще я вспомнил, что никогда не был дома у Рамона Фернандеса, что я помню об этих куклах и о его ненатуральном румянце, о черных кудрях и подведенных глазах, – что обо всем этом я помню только по рассказам Джузеппе!
Который сейчас сидит передо мной, в шелковой рясе митрополита, с золотой цепью на шее, – сидит передо мной за столиком, в полумраке кафе «Версаль».
В общем, я много чего вспомнил, глядя на эту открытку, но прежде всего я понял, что на самом деле я сам себя развлекаю такими почти-что-вслух-размышлениями. Вернее, отвлекаю сам себя от решения.
Хотя какое тут может быть решение, кроме одного? Выбросить эту ерунду в ящик для мусора – вот он, в углу зала – и идти дальше по своим делам.
На столе лежал лист бумаги. Наверное, у кого-то он оказался лишним.
Я взял ручку, обмакнул перо в чернильницу и написал:
«Дорогая Ева, большое спасибо Вам за ответ.
Какая милая открытка!
Желаю Вам всего наилучшего.
Искренне Ваш, А.Г.»
Я зачеркнул слова «дорогая» и «большое». Потом вообще всю эту строку.
Потом вынул из портфеля блокнот. Вырвал из него листок. Достал авторучку. Конечно, она не должна по чернилам подумать, что я писал ответ на почтамте. Что мне так уж страшно не терпелось прочесть и тут же ответить.
Я написал на листке:
«Забавный сувенир, спасибо.
А.Г.»
Я нарочно так написал, чтоб получилось прохладно и, может быть, отчасти обидно. Бедная дурочка старалась, а ей в ответ: забавно. Да еще без обращения, без наилучших пожеланий.
А кстати, как, когда она успела изготовить этот шедевр оформительского искусства? Дома? Или на работе? Нет, не на работе, конечно. Тогда письмо просто не успело бы дойти – отправленное в понедельник, оно прибыло бы не раньше среды. Если письмо пришло во вторник, то ушло в воскресенье, и именно с центрального почтамта. Потому что районные почтовые отделения в воскресенье, конечно же, закрыты. Значит, она в воскресенье с утра прибежала на почтамт, получила письмо, помчалась домой (а может, и не помчалась, может, она живет в пяти минутах ходьбы)… дома соорудила эту открытку – то есть вырезала, наклеила, надписала – и пошла назад в почтамт, отправлять.
Весело.
Да, а где в это время были ее муж и дети? Что они на все это сказали? «Мамочка, что ты вырезаешь и клеишь? Милая, куда ты убегаешь?»
Да пошла она к черту! Что мне, больше думать не о чем?! Да провались!
Я аккуратно сложил листок пополам, купил конверт с маркой, положил туда листок, заклеил, надписал и бросил в ящик.
Через четыре дня я снова был на почтамте.
Я предполагал, что письмо будет примерно такое. Глупое:
«Ах, дорогой господин Гитлер, как я рада, что Вам понравилась моя открыточка! Я так старалась!.. Правда, хорошенькое платье у девушки? Вы догадались, что это Вы и я?»
Или горькое. Фаталистическое:
«Конечно, я сделала глупость. Сама не знаю зачем. Вдруг неудержимо захотелось. Глупости, уважаемый господин Гитлер, бывают разные. Может быть, даже хорошо, что я живу не в Вене, а в Мюнхене. Прощайте».
Или неожиданно умное. Ироничное:
«Вам на самом деле понравилось? Сразу видно человека с тонким вкусом. Ах, да! Вы же архитектор, дорогой господин Гитлер. Помнится, Вы обещали научить меня изящным искусствам, всё объяснить мне про архитектуру…»
Но было ни то, ни другое, ни третье.
Ни глупость, ни горечь, ни ум. Просто длинное письмо, в котором Ева доверчиво и скучно описывала, как она провела день. Как она стояла в очереди за рыбными консервами, потому что в этот день обещали давать на талоны русского лосося, импортного, из России, в таких небольших банках. Наверное, и в Вене такие есть, не может быть, чтобы не было! Очень вкусно и практично: если сварить много риса, то можно сделать такой рисово-рыбный салат, этот красный лосось хорошо разминается и легко перемешивается с рисом, и еще в консервной банке прекрасный сок, она его любит просто пить, там в банке не больше, чем на два глоточка, но ведь все равно очень вкусно. У нее были два неиспользованных талона на консервы, и ей удалось уговорить продавщицу их принять, так что она взяла шесть банок…
Я забыл тебе рассказать, Джузеппе.
В Германии при Тельмане – да и у нас в Австрии с тридцать восьмого года – были постоянные сложности с продуктами и с самыми простыми товарами. Не то чтобы народ голодал или ходил в лохмотьях – нет, конечно. Но все время чего-то не хватало. То рыбы, то мяса, то копченой колбасы, то горохового концентрата, то сахарной пудры, то яичного порошка. То настоящих кожаных ботинок (резиновая обувь и всякие эрзацы – этого было навалом), то плащей, то шерстяных или шелковых чулок. Хлеб и молоко, правду сказать, были всегда. Но надо было рано вставать и идти в магазин. Потому что к середине дня могло закончиться. Поэтому продавали не более килограмма хлеба и литровой бутылки молока в одни руки. Мы, немцы, – честный народ, поэтому никто не вставал в конец очереди, чтобы купить еще кило хлеба и литр молока. А если бы кто попробовал так словчить, его бы тут же вышвырнули из очереди. Так что люди брали свой «килолитр» – была такая грустная шутка – и плелись домой. Чтоб завтра снова встать в очередь. Матери часто стояли с детьми. Или старики – чьи-то бабушка и дедушка – стояли парой. Чтобы взять два кило и два литра. Два килолитра.
При Тельмане вместо «покупать» стали говорить «брать». Смешное слово, да. Но это отражает ситуацию. Если бы человек сказал «я купил хлеб» – на него бы покосились. Что это за такой интересный хлеб, который надо покупать? Греческий с запеченными маслинами? Или итальянская чиабатта? Купить можно было деликатесные продукты, они продавались в отдельных магазинах. Кстати, с Италией и Грецией мы дружили, поэтому итальянский и греческий хлеб в самом деле можно было купить – я не случайно вспомнил. А вот французский багет можно было только «достать».
Три слова: достать, купить и взять. То, что можно раздобыть только на черном рынке или по знакомству, у людей, приехавших из-за границы, – «достать». В деликатесных или модных магазинах – «купить».
Все остальное – «взять».
Потому что это были дешевые продукты. Социальные продукты, так их называли. Если б только молоко и хлеб. Собственно, почти все продукты – кроме импортных, кроме русских крабов и икры, кроме греческого коньяка и итальянского сыра – были социальными. Дурацкая ситуация, на самом деле. С одной стороны, люди злятся, что еды не хватает, что за мясом, рыбой, хлебом и молоком нужно вставать в очередь. С другой стороны, люди довольны, что все стоит дешево.
Иногда становилось совсем туго; немцы-то честный народ, но жить хочется, поэтому они потихоньку научились вставать в очередь по нескольку раз, и от этого наступали «временные трудности в снабжении», так это называлось.
Экономические советники говорили Тельману – надо включить свободное ценообразование. Хотя бы полусвободное, на четверть, на восьмушку свободное. Хотя бы полувключить. Самую чуточку-чуточку, только попробовать!.. Советников слушали, советники печатали статьи в научных журналах. Партия устраивала дискуссию в клубах, газетах и на радио, трудящиеся писали письма. Потом выяснялось, что в партии, ты не поверишь, есть право-капиталистическая оппозиция, которая хочет повышать цены и морить народ голодом. Аресты советников, большой судебный процесс, приговор, тюрьма, а то и расстрел. Потому что в ходе следствия выяснялось, что профессор-экономист NN – сотрудник французской разведки. И вообще, все это была специальная операция с целью ослабить немецкое государство рабочих. Расчленить Германию. Отдать Рур – Британии, Баден-Вюртемберг и Баварию – Франции, Саксонию – Чехии, Померанию – Польше. Шлезвиг, кажется, Дании. А Восточную Пруссию – сам уже догадался кому! Профессора-экономисты признавались в этих страшных замыслах на открытом народном суде. Народ, маршируя вокруг здания суда, требовал сурово покарать изменников.
Потом другие советники советовали Тельману поднять цены волевым решением руководства. Не проклятый свободный рынок, нет. Боже упаси! Маркс упаси! Точно рассчитанные действия правительства в рамках плановой социалистической экономики. Некоторые даже предлагали организовать письмо от крестьян к рабочим. Дескать, немецкое трудовое крестьянство возмущено тем, что их продукция продается по оскорбительно низким ценам.
Ты уже догадался, какая судьба постигала этих советников. Вслед за другими они оказывались агентами очередной разведки, марионетками очередных кукловодов, предателями родины, шпионами и диверсантами. Потому что каждый год 13 марта, в день, когда Тельмана избрали президентом, – правительство выпускало декрет о снижении цен. Снижали их совсем чуточку, и всегда на какую-то ерунду – скажем, на консервированные огурчики, на маргарин второго сорта, на женское нижнее белье из хлопка, на школьные пеналы. Однако список получался длинный, на половину газетной полосы. Опять же, друг мой Джузеппе! Люди прекрасно понимали, что все это чистейший обман, что цены снижаются на залежалые и ненужные товары или на дрянь какую-то вроде того же низкосортного маргарина, и что снижаются они на один или два процента, и никакой прибыли с этого никому не будет. Да! Они все это понимали, но при этом были свято уверены, что Тельман снижает цены. Как будто в голове у каждого были две половинки. В одной – реальная, тяжелая, бедная, опасная и унизительная жизнь при коммунистах; а во второй половинке царил мудрый и добрый товарищ Тельман, который неусыпно заботится о благе народа…
Вот так мы жили, дорогой мой Джузеппе. Вот к чему на деле привели все эти прекрасные беседы в кружке Клопфера. Все эти марксистские штудии и социалистические прожекты.
* * *
– Ты никогда не раскаивался, что ушел? – вдруг спросил Джузеппе.
– Куда?
– Не куда, а откуда. Из политики. Ты ведь нравился Леону. Леон ведь на самом деле говорил: «Этот парень нам еще покажет». Я это слышал.
И мне тоже так казалось. Что ты еще всем покажешь.
– Я? – я не хотел об этом даже говорить. – Что ты несешь, старый монах? Конечно же, нет. Миллион раз – нет! Смерть Леона – это было для меня чересчур.
– Ты испугался? – спросил он.
– Да! – сказал я, более чтобы прекратить разговор, чем правду сказал.
– Искренность украшает, – хмыкнул Джузеппе.
– Именно, – сказал я. – А ты, твое преосвященство, не жалеешь, что удрал? Без Леона и без этого женевского теоретика Ленина у тебя были все шансы… Был бы един в двух лицах, великий боец и великий мыслитель революции. Жалко, небось? Локти кусаешь, раскаиваешься?
– Иди к черту, – сказал Джузеппе. – В смысле – Бог с тобою.
– Хорошо, – сказал я. – Ладно.
* * *
Да, милый мой Джузеппе, она взяла шесть банок лосося по талонам.
Потому что карточную систему Тельман вводить не хотел, не решался, ведь в Германии было полное изобилие, дальнейшее удовлетворение растущих запросов трудящихся. Вместо карточек были талоны. Они выпускались каждые три месяца, и на разное. И в разных городах по-разному. Поэтому нельзя было сказать, что в Германии мясо или рыба по талонам. В Лейпциге по талонам треска, зато мясо – в свободной продаже; а в Дрездене наоборот. Правда, того, что «в свободной продаже», на самом деле сыскать трудно, но! Но, Джузеппе. Еще одна хитрость коммунистов. Именно – трудно сыскать, а не вовсе нет. Где-то на дальней рабочей окраине или, наоборот, в тесных улочках центра обязательно есть магазинчик, где мясо (или рыба, или кожаные туфли, или шоколад, или шелковые чулки) – в самой что ни на есть свободной продаже. По низким ценам. Правда, все это тут же кончается, и не успеет какая-нибудь счастливая сотрумолка Гретти прискакать к подружке Кэтти и крикнуть: «На Энгельсгассе дают чулки!» – как чулки уже кончились. Ах, зря бедная Кэтти мчалась на Энгельсгассе. «Чулки! Мне чулки!» – «Кончились!» – «А были?» – «Были, милая девушка, были! Вот только что кончились». Ну, кончились, Джузеппе! Но ведь были! Ведь же Гретти их все-таки сумела купить… то есть взять. И идет домой несчастная сотрумолка Кэтти, рыская глазами вокруг, по витринам магазинов госторга, горторга и местторга…
* * *
– Сотрумолка – это что-то вроде «гризетка-мидинетка»? – спросил Джузеппе.
– Вот именно, – сказал я. – Девушка из Союза трудящейся молодежи. Туда загоняли почти всех. Четыре пятых молодежи были в Сотрумоле. Молодежи сотрумольского возраста, разумеется. А сотрумольский возраст, не буду тебя мучить, это от шестнадцати до двадцати шести. Лучшие годы!
Вот так, мой славный старый друг. Бедняжке Кэтти, конечно, не повезло. Но она не может сказать, что чулок нет в продаже. Они есть! Просто ей случайно не досталось. Бывает. Ничего. До следующего раза…
* * *
Да. Ева взяла шесть банок лосося по талонам. Рис у нее был. Масло оливковое тоже. Она сочинила – она так мне и написала – сочинила – превосходный рыбно-рисовый салат. Прелестного оранжевого цвета. И думала, что ах как жаль, что не может угостить этим салатом меня. Потому что у нее дома есть очень миленькая посуда. Она бы выложила салат в салатницу горкой, украсила бы его зеленью, поставила бы тарелки, на которых как раз изображена ловля форели в горной речке, такие приятные молодые люди с удочками, и скалы, и нависшие деревья, – вещь современная, но в стиле старинной гравюры; не совсем современная, десятых годов, но и не старинная по-настоящему. У нее была одна по-настоящему старинная салатница, но пришлось продать. Лет десять назад продала, до сих пор жалко. Но на хлеб не хватало, в прямом смысле слова – на хлеб. При Гинденбурге жили хуже, гораздо хуже, чем сейчас. Проклятые двадцатые! Люди были просто в отчаянии от той жизни, поэтому проголосовали за товарища Тельмана. И не прогадали. Он спас страну.
Бедняжка, она точно побаивалась, что письмо распечатают. Поэтому правдивые слова о том, что люди голосовали за Тельмана от отчаяния, она окружила наивным гарниром лояльности. Назвала Тельмана «товарищем» и «спасителем» и прибавила почти официальный штамп «проклятые двадцатые».
Дальше она писала о каких-то совершеннейших мелочах: о погоде, о птичке, которая села на дерево напротив окна, и о том, что она не знает, как эта птичка называется, потому что это точно не воробей, не голубь и не ворона – вот этих трех птиц она знает, еще орла на старом гербе, страуса, пеликана, курицу, утку и гуся. Еще индейку. И все. Какой стыд! А на свете столько птиц, и даже в парке они летают, разные и неизвестные. Как плохо быть горожанкой! Так хочется пожить в деревне. Ну и все такое в этом роде. Поток сознания, как говорят современные писатели. Но и постоянное желание сказать что-то приятное. Как будто она говорила, время от времени смущенно заглядывая в глаза и еще более смущенно опуская их. Перебирая тесемочку фартука.
Фу, как пошло.
Я совершенно не понимал, что мне делать, как отвечать.
По всем правилам эпистолярных приличий, ответное письмо должно быть такого же размера. Ну, примерно. Ну, хоть сопоставимой длины. Нельзя же на три страницы мелким почерком отвечать тремя строчками!
Поэтому я написал:
«Дорогая Ева, я очень рад получить от Вас такое обстоятельное послание. Мне было очень интересно читать. Я как будто бы заглянул в Вашу жизнь. Простите меня, пожалуйста, за столь краткий ответ – я сейчас очень занят, работаю (рисую, черчу, считаю) буквально с утра до поздней ночи. Поэтому сейчас я не могу написать нормальное подробное письмо. Искренне Ваш, Адольф Гитлер».
Ответ пришел на третий день.
Она написала мне всю правду. Боже, сколько было предисловий, обиняков и экивоков, оговорок и длинных, на полстроки, многоточий и письменных возгласов «ой, зачем же это я пишу».
Вся правда состояла вот в чем. Она обманула меня тогда, в Мюнхене, в квартирном бюро, когда сказала, что у нее муж и двое детей. У нее нет ни мужа, ни детей. Она до сих пор не замужем. Живет с мамой. Мама вдова – папа недавно умер. Еще у нее есть сестра Эльза. Погодок. Старшая. Очень на нее похожа. Почти как близнец. Но не совсем.
«…Зато очень серьезная. На самом деле это у сестры есть муж и двое детей, две девочки, Инге и Рукси. Полное имя Роксана. В честь жены Александра Македонского. Что в переводе значит “сияющая”, потому что девочка яркая-преяркая блондинка, а сестра очень образованная и читала книжки про древнюю историю. Вообще сестра всегда гордилась, что была такая умная. После обеда садилась на диван с толстой книгой и поверх обложки глядела на родителей, особенно на папу – папа был учителем, – как это ему понравится, что она такая прилежная. Папа ее гладил по головке и говорил: “Эльза у нас умница”. А я была попроще.
Я все время убегала во двор играть в мячик. Я любила гимнастику. Попрыгать с мячиком, повисеть на шведской стенке, покрутиться колесом. Я умела! Я и сейчас могу колесом. Сестра считала, что я глупее ее.
Может быть, может быть. Я не мерила линеечкой, кто умнее. А в школе мы с ней обе проходили умственный тест, нас папа водил к специалисту, к детскому психометристу. И мы с ней набрали одинаково баллов, один в один!
А потом мне сестра сказала, что психометрист специально так сделал, чтобы я не обиделась. Вслух громко сказал, что у нас одинаковые баллы, и пожал нам обеим руки. “Ах, какие способные девочки!” А на самом деле он папе незаметно передал бумажку, где настоящие цифры. И по этим цифрам я выхожу гораздо глупее. Я потом попросила папу, чтоб он сказал мне, какие у меня баллы на самом деле. Прямо при Эльзе попросила. Сказала, что вот Эльза мне сказала, как дела на самом деле обстоят. Что я на самом деле глупая. А он сказал: “Чепуха! Эльза все врет!” – и очень строго на нее посмотрел. Погрозил ей пальцем. И даже подзатыльник ей дал, свой знаменитый, со щелчком. Он очень обидно умел щелкать пальцами по затылку или по лбу, он их как-то складывал по-своему и потом щелкал, было не очень больно, но очень громко и поэтому особенно обидно. Я тоже так пыталась научиться, но не получилось, потому что у меня маленькая девичья ручка, а у папы большая рука с длинными костлявыми пальцами. Он так строго на Эльзу посмотрел, он так зло погрозил ей пальцем, он так сильно щелкнул ее по затылку, что я сразу поняла, что она сказала правду.
Ну, и что теперь делать прикажете? Вешаться? Я попробовала. Но веревка была бумажная и оборвалась. Хотя я ее сложила втрое.
А еще я любила стихи читать. Вслух. Встану у окна и читаю – прямо на улицу, мы жили в первом этаже. Но не наизусть. Наизусть редко. Чаще по книжке. Я книжку клала между цветочных горшков и заглядывала. Прохожие оборачиваются. Я маленькая была и симпатичная, мне было лет двенадцать или даже меньше. Один школьник восьмого класса – я примерно говорю, может, поменьше, а может, и постарше, – он часто проходил мимо и один раз подарил мне букетик цветов. На подоконник положил и убежал. А мама сказала, что это неприлично, когда тебе дарят цветы незнакомые молодые люди. И выбросила букетик. Даже еще хуже, признаюсь вам честно, – заставила меня, чтоб я сама его выкинула в мусорный ящик. Я не хотела. Она меня побила по рукам. Я так плакала! От боли и от обиды.
И еще мама мне запретила читать стихи вот так, на улицу. Потом, когда мама ушла, я сбегала во двор, нашла в ящике этот букет, отломила один цветок и спрятала.
А мама потом нашла и меня опять сильно побила. Потому что я его в трусы спрятала, чтоб никто не увидел. А перед сном мама заметила, вытащила и сильно меня отшлепала. Я так плакала!
И потом она все рассказала папе, вечером. Я пошла в уборную и услышала, как мама с папой в столовой разговаривают. “В трусы засунула, онанистка!” – сказала мама. “Не преувеличивай! – сказал папа. – Она просто дурочка”.
Я знала, что такое “онанист”. Мне Эльза рассказывала. Но я знала, что это делают только мальчики. Поэтому я решила, что это мама просто так сказала. Обидное слово, и все».
– Это она тебе всё сама писала? – спросил Джузеппе и засмеялся. – Про цветок и далее?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































